На сайте Газете.Ru размещено интервью Дмитрия Быкова, в котором он рассказывает "о своем новом романе «Июнь», о трилогиях в литературе и жизни и о тайном послании, зашифрованном на фонетическом уровне". Предлагаю данное интервью вниманию подписчиков рубрики.
В «Редакции Елены Шубиной» вышел новый роман Дмитрия Быкова «Июнь». Действие в нем происходит в Советском Союзе накануне Великой Отечественной войны, герои живут в предчувствии трагедии, и это «время-ожидание» и «время-предчувствие» поразительно напоминает современность. Дмитрий Быков представит книгу на открывающейся 6 сентября ММКВЯ. Перед презентацией он рассказал о романе в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».
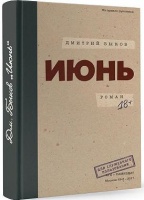
— Как книга соотносится с другими произведениями из И-трилогии — «Иксом» и «Истиной»? Почему вы вообще решили писать трилогиями — «что-то в воздухе» побудило вас к этому?
— Ну, у меня и помимо трилогий много всего – «ЖД», «Эвакуатор», «Квартал»… А исторические сочинения действительно собираются в трилогии, и я догадываюсь, почему это происходит. Всякая идея в истории — как мы знаем даже не из Гегеля, а из личной довольно наглядной практики — проходит через три стадии: утверждение, отрицание и отрицание отрицания.
По этому же принципу собирал свои трилогии Мережковский. Я понимаю, что считать его предшественником не совсем скромно — но это же я для себя так считаю, мне так приятнее. Исторических трилогий у него тоже было две – «Христос и Антихрист» и «Царство зверя». Они очень разные, вторая менее умозрительна, более психологична.
Можно было бы подумать о том, чем «О-трилогия» (романы «Оправдание», «Орфография», «Остромов» — «Газета.Ru») отличается от «И-трилогии», и у меня есть всякие догадки по этому поводу, но, наверное, это не совсем мое дело. Пусть другие интерпретируют, если интересно. Я никакого специального плана не выдумывал, так получилось.
Роман «Истина» написан – и некоторыми друзьями даже прочитан, — но пока не напечатан. Он посвящен «делу Бейлиса», и у меня нет намерения публиковать его в ближайшее время.
Не публикую я пока и продолжение «Списанных» — это небольшие романы «Убийцы», «Камск» и «Американец».
В них тоже появляется Сергей Свиридов, и все они практически закончены, но лучше им пока лежать в столе (точней – на «Рабочем столе»). А то мало ли, начнут еще собирать аббревиатуры из названий… Подождем, пока и эта тетралогия станет исторической. Как заканчивается один из величайших русских романов, «надеюсь дождаться этого довольно скоро».
— Почему у вас появилось желание писать о времени-предчувствии, последних мгновениях перед войной? Как по-вашему, наше настоящее время — это время-ожидание, время-предчувствие или какое-то еще время?
— Вы дали прекрасное определение.
Всякое время в истории – время ожидания, время предчувствия и еще какое-то время.
А почему у меня появилось желание о нем писать? Наверное, потому, что оно дает некоторые возможности поговорить на мои любимые темы: эротика страха, например.
Взаимообусловленность садомазохизма и стремления к власти. Сложные взаимоотношения чести и совести.
— Ваши герои живут, неосознанно приближая себя к внутренней трагедии, которую, как они надеются, может разрубить война. Но читатель-то знает, насколько страшной эта война окажется в действительности. То, что с ними вот-вот случится — это наказание за неумение жить?
— Почему «неумение жить»? Хотел бы я посмотреть на того, кто умеет, особенно во времена, когда относительность всех этих умений подчеркивается глобальной катастрофой. Я не думаю, что история наказывает людей. Я даже думаю, что интерпретация общей катастрофы как наказания за частные грехи – вещь довольно самонадеянная. Но Ахматова – которая как раз об этом, по-моему, написала «Поэму без героя», — как раз и была довольно самонадеянным человеком, в хорошем смысле слова. Она же считала себя последней, а не первой, — что тоже эгоцентрично, но не самодовольно.
Вообще, в романе много интерпретаций происходящего, их выдвигают разные герои, и я не хотел бы уплощать книгу, выбирая какую-то одну версию. Пусть будет хор.
— В рассуждениях ваших героев очень явно сквозит параллель между их временем и нашим: двадцатые и девяностые, тридцатые — и 2010-е. Выходит, что вы сопоставляете с нашей современностью времена, когда люди, разочаровавшиеся в системе, собственными руками заканчивали свою жизнь (если их не уничтожала сама система). Что вы хотели этим сказать?
— Не думаю, что они заканчивали жизнь собственными руками. Скорей уж система, твердея, раздавливала всякие иллюзии, а люди, как кролики перед удавом, ждали, что обойдется, если не слишком громко дышать.
Параллель на самом деле в одном – выход из внутреннего кризиса через внешнюю войну.
Но этот выход иллюзорен, что я и пытаюсь показать в книге.
— Возвращаясь к предыдущему вопросу: примером такого самоубийцы, разочаровавшемся в жизни и во времени, можно считать Владимира Маяковского. Именно его биографию вы выпустили в прошлом году: впрочем, на взгляд читателя, это, скорее, не биография, а полемическое эссе, заостренное и очень эмоциональное — вы будто собрали воедино все, что когда-нибудь передумали о Маяковском и он, несомненно, очень важен для вас. Какое место в мире ваших романов занимает его фигура, его время и его поколение?
— Не «на взгляд читателя», а на взгляд одного весьма субъективного рецензента, который, при всей своей доброжелательности, за которую спасибо, не захотел или не смог понять логику, по которой книга организована. Это совсем не эссе и ни в коем случае не полемическое, и принцип этой книги далеко не в собирании всего, что я передумал о Маяковском. Но каждый, в конце концов, имеет право на любые интерпретации (кроме, конечно, экстремистских или призывающих к нарушению территориальной целостности).
Маяковский под прозрачным псевдонимом «Корабельников» действует у меня в «Орфографии», а больше, в общем, нигде. И к «Июню» он никакого отношения не имеет. У него хватило ума не доживать до этого времени.
— В вашей книге персонаж по фамилии Крастышевский пишет сводки Сталину так, чтобы скрытое в них послание незаметно для вождя въелось ему в подкорку, будто хочет переписать историю буквально с помощью слов. У вас было скрытое послание к читателю и должен ли вдумчивый и внимательный читатель пытаться его разгадать?
— Есть интересный парадокс: каждая удачная книга содержит автоописание. Сейчас в «Гонзо» (российское издательство с штаб-квартирой в Екатеринбурге — «Газета.Ru») выходит роман Дэвида Марксона «Любовница Витгенштейна», где этот принцип реализован наиболее полно и наглядно. (Дети на уроках часто задают вопрос: а где он реализован, скажем, в «Войне и мире»? IV том, 3 часть, 10 глава). В этом смысле – ну да, «Июнь» более или менее построен по принципам, которые в третьей части формулирует Крастышевский: важны количества глав во всех трех частях, композиция реализует конкретную задачу, тайное послание зашифровано на фонетическом уровне.
Но если я его назову, оно попадет в поле сознания, а я рассчитывал воздействовать на подсознание – не всех читателей, конечно, а тех, от которых что-то зависит (имею в виду не власти, а скорее экспертов, формирующих общественное мнение). Некоторые из них эту книгу безусловно прочтут.
— В романе много любовных линий. Может ли любовь для ваших героев быть противоядием от времени?
— Не так уж много, всего две. Крастышевский любит литературу. Это отчасти роман про три моих возраста, и хотя я больше всего любил быть Мишей, а мучился в возрасте Бори (хотя и по совсем другим причинам, просто возраст трудный), — сегодня я ровесник Крастышевского и больше всего озабочен проблемами невербального (или не только вербального) воздействия на вещи. Надоело терпеть.
Вопрос о том, в какой степени любовь может быть противоядием от времени, был бы очень занятен, если бы любовь сама не была в огромной степени порождением времени. Скажем, садомазохизм в отношениях Миши и Вали порожден именно характером эпохи и говорит о ней больше, чем любые политические дискуссии. Это справедливо отметил Борис Кузьминский (выдающийся российский литературный критик, редактор и переводчик — «Газета.Ru»), сравнивая первую часть со второй.
Честно говоря, я и хотел показать время именно через сложные, больные, извращенные отношения этих двоих, и эта задача представлялась мне самой трудной.
Сейчас, кстати, у многих именно такие страсти, взаимное мучительство на фоне притяжения, минимум эмпатии, обусловленный, конечно, репрессивным характером эпохи. То ли таким образом вымещается страх, то ли в основе любви и власти лежат сходные инстинкты, но, затрагивая эту тему, мы далеко зайдем. И, с другой стороны, наговорим банальностей…
— Как вам удалось настолько красочно передать образ Москвы 30-х? Вдохновляла ли современная Москва?
— Спасибо на добром слове, но какая же там красочность? Просто мальчик, проводив девочку и возвращаясь домой, во все времена воспринимает пейзаж с особой остротой, и у него возникает мысль о тайном союзничестве мира, в котором все устроено так, чтобы его жалкая страстишка получила особенно выгодную подсветку. И дома смотрят на него с тайным одобрением, и листва пахнет для него, и фонарь подмигивает. У меня много воспоминаний на эту тему, я вообще довольно сильно все переживал от 15 до 25 лет, потом немного привык и, что особенно печально, перестал думать, что все это для меня.
— «Июнь» — это роман большой социальной идеи или только искусство, вдохновленное историческим образом? И должна ли вообще литература, как журналистика или публицистика, пытаться что-то менять, раскачивать лодку?
— Я не очень себе представляю роман без идеи. Зачем его тогда писать? Но и идея – не более чем повод написать то, что соответствует твоему темпераменту, твоим представлениям, твоим умениям, наконец. У меня однажды была бессонница, все в квартире спали, а я нет. Сидел раскладывал «Сапера». Ну и подумал, что вот могла быть такая история – финская война, мальчик влюблен в девочку, а она невенчаная вдова убитого героя; но поскольку она его тоже любит, а быть вдовой героя ей надоело — то почему бы ей вдруг и не позволить ему чуть больше обычного.
А это увидела, допустим, явная какая-то сука, которая спрашивает: что ж ты, так тебя и так, порочишь память героя? А девочке же надо как-то реагировать, потому что она учится не блестяще и ей все прощают за статус. И она должна будет настучать на мальчика, чтобы спасти себя, но отношение к ней, наверное, резко переменится после этого, да? И как будут развиваться при этом их отношения, на фоне той самой сильной физической тяги? Я вообще, не буду врать, много глупостей в жизни наделал именно из-за этой сильной физической тяги.
Мне показалось, что интересно было бы это написать, и я отложил другой роман и написал «Июнь». Кое-что в нем мне было страшно писать, включался внутренний цензор.
Я тогда уехал преподавать в Штаты, где этот цензор как-то меньше давил и больше помалкивал, и закончил книгу.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Машу Ратину, в чьем доме так увлекательно сочинялось. Спасибо вам, Маша. И детям вашим прекрасным, и родителям, и веселым друзьям. Мне давно нигде не работалось так отлично, как в вашей гостевой комнате с видом на цветник.
Что касается «не раскачивать лодку»… Оно бы хорошо, если бы мы плыли в лодке. По крайней мере был бы выбор, раскачивать ее или нет. Но мы плывем на совсем другом, очень большом корабле, где от нас мало что зависит. Имеет ли смысл раскачивать «Титаник»? Праздный, по-моему, вопрос.
Беседовала Александра Борисова
Источник: Газете.Ru


 облако тэгов
облако тэгов

