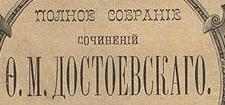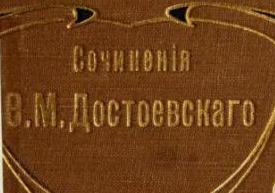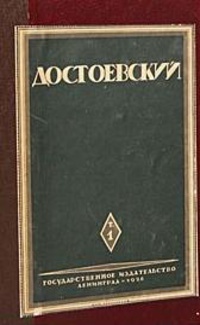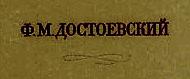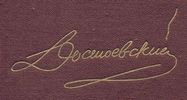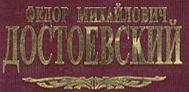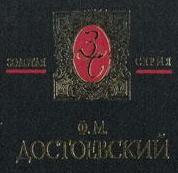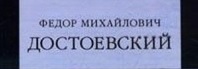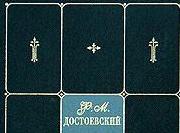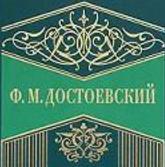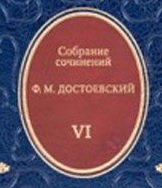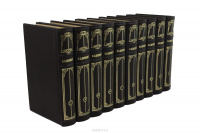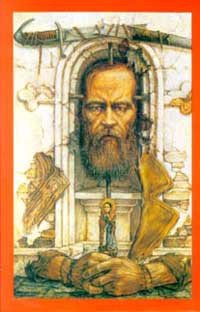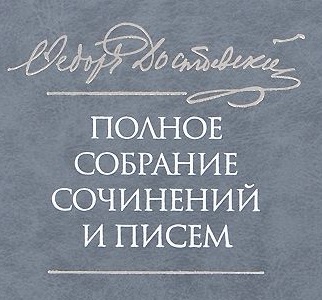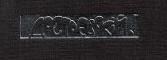| |
| Статья написана 3 декабря 2016 г. 23:45 |
Поскольку я начала путаться в их страшном количестве, перепишу для себя по крайней мере. Дореволюционные издания 1) Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 6 томах (Суворин, 1886 г.) Небольшое издание Суворина. Статус: не открыто, необходимо уточнить содержание томов. 2) Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 12 томах (Пантелеевы, 1888-1889) Дореволюционное издание, поэтому обложек нет — каждый покупатель заказывал себе владельческий переплет по вкусу. Правда, и титульные страницы есть тоже не по всем. Непонятно, можно открыть серию в таком виде или нет, непохоже, чтобы где-то еще можно было найти по ней больше инфы. Статус: не открыто, тк. нет обложек и детального содержания томов. 3) Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 12 томах. СПб.: А.Ф. Маркс (1894-95) 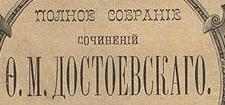
Тоже дореволюционное издание. Статус: открыто и озеленено (!) lordalex, спасибо ему! 4) Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 14 томах (Пантелеевы, 1904-1906) Второе Пантелеевское издание (на нем указано 6-ое, но не верьте!). А первое Пантелеевское издание — п.12), хотя на нем тоже значится, что оно "третье". На самом деле, эта нумерация просто считается по изданиям вообще, а не внутри одного издательства. Тоже нет полных данных, даже по всем томам. Статус: не открыто, нужны детали содержания томов и титульные листы. 5) Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевскаго в 23 томах (1911-1918) 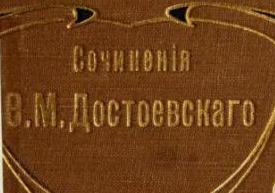
Дореволюционное издание, довольно полное. Статус: составлено полностью и открыто, нуждается в озеленении.
Советские издания 6) СС Достоевского. Изд-во Ладыжникова, Берлин, 1919-1922 
Иностранное издание, вошли основые художественные произведения. Статус: не открыто. Нет полной информации по содержанию томов, обложек, выходных данных. 7) Ф.М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений (1926-1930) 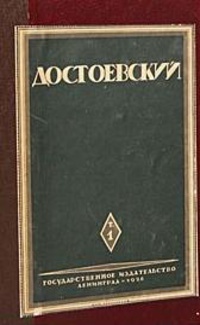
По этому изданию практически нет инфо. Из советских оно было самым первым. Статус: не открыто, нет содержания по томам, нужны нормальные обложки. 8) Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в 10 томах (1956-58 гг.) Гослитиздат 
Очень популярное собрание, которое много у кого было в СССР)) Неполное, конечно. Статус: открыто, озеленено. 9) Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 17 томах (1972-76 гг.) 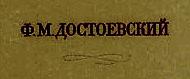
Академическое ПСС, первое наиболее полное издание ФМ. На его основе впоследствии было подготовлено 33-томное издание, но и это можно назвать достаточно полным для обычного читателя. От 33-томного оно отличается отсутствием, например, множества черновых редакций одного и того же произведения и отрывков из него. Статус: открыто, нуждается в озеленении. 10) Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 томах (33 книгах) 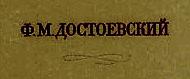
Наиболее полное из целиком вышедших СС ФМ, насколько мне известно, и наиболее распространенное. Статус: открыто, нуждается в озеленении (надо сесть и сделать, учитывая, что оно у меня есть дома). 11) Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в 12 томах (1982 г.) Правда 
Небольшое, но симпатичное СС, кажется, последнее советское, с иллюстрациями Глазунова и под редакцией приличных людей. Статус: открыто, озеленено. Спасибо atgrin за озеленение. 12) Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15 томах — малое академическое 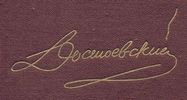
Малое академическое издание, изданное в 88-96 на основе 33-томного ПСС. Статус: открыто, озеленено и внесено целиком замечательной Kamima Современные издания (а) Современные неполные 13) Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в 7 томах (1994 г.) — "Лексика" 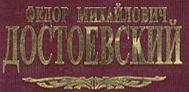
Еще одно небольшое издание. Статус: отрыто, необходимо озеленение. 14) Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в 5 томах (2003 г.) — "Мир книги", "Литература" 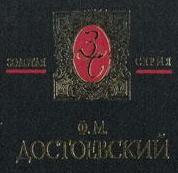
В 5 томов вошел далеко не весь корпус ФМ, понятно. Статус: не открыто, нет деталей, страниц и тд. 15) Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений, 2008 г. ("Мир книги", "Литература") 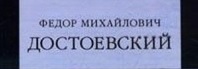
Только романы. Статус: не открыто, нужно уточнить содержание томов и общие данные. 16) Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 9 томах (2003-08 гг.) — "АСТ" 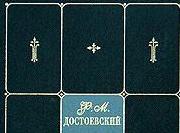
Очередное издание только основных произведений. Статус: не открыто, нужно содержание отдельных томов и нормальные обложки. 17) Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в 10 томах (2005 г.) Рипол Классик, Престиж Книга, Литература 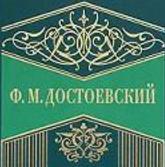
Очередное недавнее неполное СС, похоже, каждое издательство считает своим долгом выпустить несколько романов и повестей ФМ без особой подготовки и назвать это собранием сочинений. Статус: открыто, необходимо озеленение. 18) Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 10 томах (2008 г.) — "СЛОВО" 
Обычное подарочное издание, кожаные обложки, от корпуса работ ФМ — только основные романы и повести, не для того, чтобы читать, а чтоб на полке красиво смотрелось. Статус: не открыто, нет содержания отдельных томов и полных выходных данных. 19) Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в 10 тт. СЛОВО/SLOVO. 2012 г. 
Издательство СЛОВО не успокаивается и клепает СС с разными обложками чуть не каждый год) По интернет-данным, содержание в них вроде бы совпадает, бумажные книги не видела. Статус: не открыто, нет деталей по томам, нормальных обложек. 19а)Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 10 томах (подарочное издание) — 2015, СЛОВО 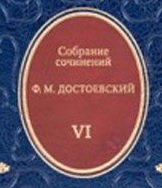
Неугомонное издательство СЛОВО перевыпускает одно и то же подарочное СС ФМ под разными обложками с завидной регулярностью, лучше б они свою энергию в более полезное русло направили. Никакой разницы в содержании с пунктами 18 и 19 нет. Статус: не открыто, нет деталей по томам и обложек. 20) Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 10 томах (2010) — Книжный клуб Книговек 
Неполное современное издание, ничего особенного. Статус: не открыто, нужны обложки на каждый том и озеленение. 21) Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в 10 томах ("Marly", 2015) — Книжный клуб Книговек 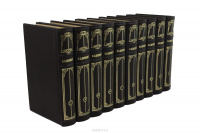
По содержанию то же, что и п.20), только подарочный вариант в кожаных обложках. Статус: не открыто, нужны обложки, детализация содержания. (б) Современные полные Вышли целиком: 22) Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 20 томах (1998) — Терра 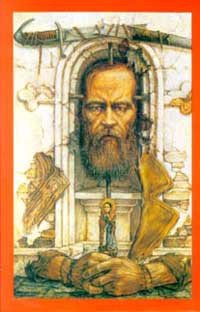
Хорошее полное собрание, по сути, аналогичное по полноте изданию "Воскресенья". Статус: открыто. Единственное полностью озелененное, спасибо героической SnowBall. 23) Ф.М. Достоевский. ПСС в 18 томах (20 книгах) — 2005 — "Воскресенье" — обычное издание 
То же, что и п.24), только обычно издание, не подарочное. Если кто хочет купить в дом СС Достоевского и ищет приличное издание, но без особых научных изысков — я бы рекомендовала это. Статус: составлено полностью и открыто, нуждается в озеленении. 24) Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений: 18 томов в 20 книгах (2006) — "Воскресенье" — подарочное издание 
Одно из наиболее полных и адекватных современных СС, подарочный вариант. Статус: составлено полностью и открыто, нуждается в озеленении. В процессе выхода: 25) Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений и писем в 35 томах (Наука, 2014) 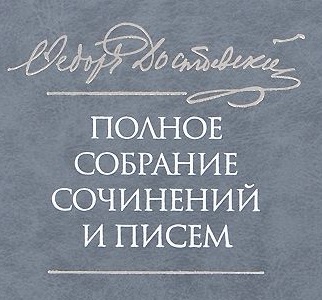
Второе издание академического ПСС — п. 9) Если кто хочет завести самое полное русское издание, и притом новое — имеет смысл обратить внимание на это. Правда, из 35 томов я пока видела вышедшими только 5, и сколько лет оно еще будет выходить, неясно. Статус: не открыто, тк не вышло полностью, вышедшие тома нуждаются в озеленении. 26) Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. Канонические тексты (под ред. Захарова) 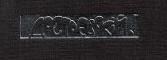
Издание в авторской орфографии-пунктуации, представляет интерес скорее для исследователей. Все тома еще не вышли, я не проверяла инфо последнее время, но пока у меня есть данные по 9 томам из 15 запланированных. Статус: не открыто, тк не вышло полностью, вышедшие тома нуждаются в озеленении. tbc...
|
| | |
| Статья написана 3 декабря 2016 г. 17:54 |
сабж Совершенно гоголевский паноптикум, только, в отличие от Гоголя, не смешной, а скорее раздражающий. Изрядное число персонажей, каждому из которых автор уделяет куда больше внимания, чем тот заслуживает. Задолго до того, как понять, какую роль персонаж НН играет в сюжете (преимущественно никакой) мы узнаем всю его жизнь, от обстоятельств встречи родителей до того, во что он одет сегодня. Это призвано, видимо, посмешить читателя, но в таком случае автор угождает очень низменным вкусам, потому что юмор у него, по сути, петросяновский. От того, что герой, отправляющийся из французской провинции в "крестовый поход" на поиски якобы пропавшего Папы Римского, страдает одну ночь от клопов, вторую от блох, а третью от комаров, мне, скорее, не смешно, а жаль потерянного времени. И так, по сути, во всем. Если пересказывать сюжет, опуская все эти детали, то получится, скорее всего, плутовской роман или нечто вроде: история про способы отъема денег у населения. Но сюжетная часть занимает едва ли десятую от объема текста, а все остальное — детали биографии и эмоции героев, с экскурсами в их прошлое и прошлое их родственников и знакомых. Это не приключенчесий роман, а галерея портретов, но чем дальше всматриваешься в них, тем яснее осознаешь, что попал не в художественный музей, а в Кунсткамеру: урод на уроде. Удивительно, на самом деле, как автору удалось изобразить в основном вполне обычных людей так, чтобы они вызывали смесь неприязни и презрения. Притом, что он "проникает" в каждого героя достаточно основательно, становясь на его точку зрения. Обычно в такой ситуации как раз читатель невольно начинает испытывать симпатию и сочувствие к герою, потому что принимает его внутреннюю логику. Но тут — ничего подобного. Ни одного симпатичного или интересного персонажа на весь роман, сплошь какие-то личины: вот самоуверенный сопляк, вот восторженный туповатый провинциал, вот бездарный, но старательный писатель, вот шлюха с добрым сердцем. Сплошь маски, как в китайском театре. Что до самого сюжета — группа мошенников обирают аристократию якобы под видом необходимости спасения плененного Папы Римского — то он так и не раскрывается толком. О.Бендер придумывал идеи для отъема денег у населения значительно лучше, и реализовывал их значительно быстрее. В данном случае же, поскольку мошенники сами тоже "глупые личины", из текста неочевидно, чтобы они действительно поимели от своей дурацкой затеи какую-то прибыль кроме того, что целый день при деле. Как приключенческий роман не удался. Как социальная сатира — удался бы, если бы автор чуть меньше внимания уделял житейской достоверности своих характеров: они достаточно карикатурны, чтобы раздражать, но недостаточно, чтобы смешить.
|
| | |
| Статья написана 26 ноября 2016 г. 23:35 |
Необычайно интересное и качественное исследование. Вообще чем больше читаю исторические работы, тем больше убеждаюсь, что понимания у читателя обычно оставляет больше не последовательное изложение исторических фактов в рамках заданного периода, а исследование какой-то одной темы — пусть даже в более широком периоде и географии. В этот момент история перестает быть набором случайных дат и имен и приобретает некоторую внутреннюю логичность. Конкретно "Сценарии власти" — большое двухтомное исследование "царского мифа", который создавал вокруг себя каждый из русских монархов, от Петра I до Николая II. Той сложнообъясняемой, но вполне уловимой по своим проявлениям абстракции, которую можно было бы назвать концепцией, или идеей правления. "Миф" этот составляется из нескольких компонентов: во-первых, личность самого правителя; во-вторых, тот идеальный образ правителя, который у него нарисовался в голове (а практика показывает, что в жизни правители далеко не всегда соответствуют своему идеальному образу. К примеру, Петру это удалось, а Николай II с треском провалил задание). Ну и в-третьих, внешние факторы: обстановка в стране, позиция советчиков, внешняя политика и т.д. Все это при каждом из монархов формирует некий образ действий и мыслей, которого тот придерживается на протяжении всего царствования — ну а если монарх придерживается, то все остальные, понятно, тоже, во всяком случае, это насаждается. По сути, заданной изначально парадигме никто не изменял — не считая разве Александра II после разочарования в реформах. Уортман, конечно, не придумывает эти парадигмы из головы, и, собственно, практически не формулирует, за исключением очевидных случаев. Но скорее, он так последовательно выстраивает факты, впечатления очевидцев, официальные материалы, что у читателя формируется очень четкое представление о том, каким было то или иное правление, что думал о себе царь и что думали о царе разные слои общества. В основе исследования лежит очень детальный анализ саморепрезентации монархии. Ну а как проявляется монарх XVIII-XIX вв. для подданных? — первым делом через официальные церемонии и "верхнеуровневые" документы (манифесты и тд). Поэтому автор рассматривает наиболее значимые официальные церемонии очень детально, реконструируя, почему это было сделано именно так, а не иначе, почему новый монарх последовал по стопам предыдущего или, наоборот, не последовал и тд. По сути, Уортман также пишет историю в хронологической последовательности и, пожалуй, даже несколько шире, чем принято у русских историков-классиков. Но он рассматривает все со своеобразного угла зрения, обусловленного предметом исследования, поэтому некоторые вопросы, которые в "школьной" истории принято выделять как важнейшие в периоде, оказываются на периферии его обзора, зато другие, менее "популярные" выходят на первый план. Это очень интересная точка зрения для тех, кто более ли менее знаком со "стандартным" изложением, владеет основным фактажем и может за счет этого оценить мастерство автора подсвечивать нужные ему предметы. К примеру, Уортман очень детально рассматривает детство, образование и подготовку к правлению будущих монархов — понятно, что все это имеет решающее значение для формирования личности, которая следующие лет 30 будет определять, куда идти целой стране, но обычно эти вопросы как-то опускают. Он так же детально пишет про личную жизни — понятно, что это тоже влияет непосредственно на поведение правителя. К примеру, интересное наблюдение: правители XVIII века, от Петра до Павла, в этой области распоряжались по принципу "что хочу, то и ворочу" (ну, то есть, захотел сделать императрицей литовскую крестьянку — и сделал; захотела взять в любовники конюха — и никто не остановит). При этом император оставался единоличным правителем, его личная жизнь была его личным делом, и ситуация на личном фронте никак не сказывалась на его "общественном лице". В XIX веке, напротив, примерный семьянин Николай I вводит совсем другую парадигму: семья на троне, императорское семейство как образец идеала для подданных. Александр-освободитель, правда, со своим демонстративным мезальянском это с треском провалил, но в глазах общества концепция уже была изменена, и его осуждали за "несохранение чистоты". Кто бы посмел осуждать Екатерину, скажем. В целом складывается впечатление, что за два века русская монархия прошла путь от "император понимает, что происходит, и управляет этим" (Петр — Екатерина) через "император понимает, что происходит, но не управляет этим" (второй и третий Александры) к "император не понимает, что происходит, и не управляет этим" (Николай). Тут-то все закономерно и закончилось. Понятно, что крушение империи в значительной части, видимо, обусловлено внешними обстоятельствами, но личность правителя также сыграла при этом некоторую роль — и тем интереснее посмотреть, как именно. Собственно, даже не правителя, а правителей — начиная с того же Александра II. И тем интереснее посмотреть, откуда все начиналось. Уортман приходит к довольно неожиданным, но логичным в русле всего текста выводам: что парадигма русской монархии — это парадигма иностранных правителей-завоевателей. Начиная с призвания Рюрика власть воспринимается и, что самое главное, сама себя преподносит как нечто "не отсюда", за счет этого становясь над подданными и не допуская никакого сравнения с ними. Не важно, постулируется ли преемственность от Рюрика, из Византии или от Иисуса Христа — концепция остается все той же. Разумеется, такой власти тяжело идти на компромиссы с подданными. Не стоит думать, что в книге столько же абстрактных рассуждений, сколько пишу я сейчас — напротив, она состоит преимущественно из фактажа с очень небольшой частью выводов, но этот фактаж так хорошо и полно подобран, что создает в итоге понимание идей, которые даже прямым текстом не прописаны. Уортман разрабатывает свою тему за счет очень широкого круга источников, начиная от дневников и воспоминаний учителей будущего правителя и заканчивая характерным для эпохи архитектурным стилем, также отражающим представления монарха. Уровень работы с источниками, действительно, впечатляет. При этом текст совершенно не перегружен и читается очень легко, не требуя никакого специального напряжения, чтобы запомнить тот или иной набор фактов. А за счет переходов между разными областями общественного и личного (от текста манифеста о вступлении на престол до того, как вела себя на балу любовница императора) не устаешь и не начинаешь скучать. Я думала, что кое-что знаю об этом периоде, но даже в области значимых фактов открыла для себя много нового, не говоря уж про "общее понимание". Всем интересующимся русской историей настоятельнейше рекомендую, короче.
|
| | |
| Статья написана 15 ноября 2016 г. 21:22 |
сабж Очень интересный по структуре роман, состоящий из трех переплетающихся линий: галльского аристократа времен заката Римской империи, французского поэта времен Авиньонского пленения пап и французского историка, живущего в первой половине 20 века и захватившего, соответственно, и Первую, и Вторую мировые войны. Галльский аристократ Манлий Гиппоман пишет на досуге философский трактат, называющийся "Сном Сципиона" — спустя много веков его найдет и будет пытаться изучать непутевый поэт Оливье Нуайен. А еще спустя много веков их обоих уже будет изучать наш современник. На протяжении всего текста главы, посвященные всем троим, переплетаются, и истории жизни героев развиваются, можно сказать, параллельно — с поправкой на существенную разницу в возрасте смерти, правда. Здесь, конечно, таится очевидная опасность: смешение героев, но Пирс отлично справился со своей задачей. Они совершенно разные, и при этом у них много неожиданно сходных черт. Одна, впрочем, является основной: приверженность культуре в самом широком и возвышенном смысле этого слова, почитание ее за величайшую ценность и попытки сохранить в то время, когда, кажется, все рушится. Окраинам Римской империи угрожают варвары, на улицах Авиньона 14 века равно бушуют чума и чернь, во Франции века 20 — немцы. Все, что для героев дорого, рассыпается на глазах и, кажется, кроме них никто не озабочен особо сохранением этого — больше преследуют свои шкурные интересы или просто пытаются спасти свою жизнь. Помимо культуры, у каждого из трех героев есть еще одна ценность, столь же не взаимная в плане счастья — любовь. Даже притом, что та самая волшебная женщина к герою и не равнодушна — но все равно отношения в ней не приносят того комфорта взаимной любви, а лишь прустовские мучения. Притом, что избранницы у всех различаются еще больше, чем сами герои, и троих дам уж, пожалуй, кроме любви героев к ним не объединяет ничего — разве что очень тонко проведенные исторические параллели. История развивается в разных веках, но в одном месте географически — Авиньон и окрестности, поэтому каждый последующий герой может найти буквально материальные остатки жизни своего предшественника (прежде всего, конечно, копию рукописи Манлия, потом — заброшенную часовню, построенную при Оливье). В этом плане роман — такой маленький рай для тех, кого трогает археологическая романтика; мысль о том, что много веков назад на том же самом месте реальный человек, о котором ты читал в книгах, был, воевал, молился. В целом, несмотря на очень широкую и качественную историческую проработку (с этой точки зрения ужасно интересно) текст очень прустовский в плане описания эмоций и мыслей героев. Несмотря на обилие событий и широкий временной разбег эмоциональная часть преобладает над всем, и текст воспринимается не как история, рассказанная со стороны, а именно как выстраданное каждым из героев настоящее. За каждого из троих переживаешь по-своему, хотя умом я симпатизирую, пожалуй, только галльскому аристократу, ради спокойствия своего мира ставшему христианским епископом. В возрасте героев тоже есть, собственно, некоторая символичность. Несмотря на то, что мы последовательно переживаем детство, юность и зрелость каждого (кто до скольки дожил), в итоговом восприятии Манлий остается пожилым умудренным человеком, Оливье — юнцом и Жульен — человеком средних лет. С другой стороны, по тексту можно провести много значимых параллелей, иногда полных, иногда — нет. Каждый из троих героев, кстати, в определенный момент оказывается перед выбором: чтобы спасти свою любовь, им нужно рискнуть собой и всем, что им дорого. Двое выбирают одно, третий — другое. Вопрос моральной оценки правильности выбора, конечно, исключительно частный, но я опять же голосую за Манлия — и не могу взять в толк, почему его выбор в итоге осуждается его же женщиной, когда она сама его именно этому и научила. Так же распределяются и их характеры: Манлий — человек жесткий и умный, Оливье — порывистый, а Жульен — скорее, ни то, ни другое, просто обычный, не слишком уверенный, но и не слишком пассивный человек. Двое ломаются и гибнут под гнетом чудовищных обстоятельств, третий прогибает обстоятельства под себя, принеся для этого в жертву то, что было, по сути, его "человеческой" частью жизни "ради общего блага". Очень важное и, пожалуй, основное достоинство для такого рода романов: он очень качественно сделал с точки зрения исторического и культурного контекста. В нем нет никаких глупых и очевидных оплошностей, ни в общем, ни в частном. С одной стороны, автор отлично проработал фактаж, с другой стороны, этой работы и усилий в тексте не видно, что свидетельствует в его пользу. Но дело даже не в фактаже, а в общем впечатлении, которое остается от каждого витка истории: ощущение исторической верности не фактов, а поведения и мыслей героев в их временном контексте — а на этом проваливаются часто даже те, кому удается справиться с фактами. В общем, роман смогут без ужаса и с удовольствием читать люди, которые не от меня только что узнали про Авиньонское пленение)) И все же текст очень лиричный. В нем нет никакой загадки, тайны, внезапного поворота, который нельзя было бы предсказать страниц за 50 — просто три жизни в непростые эпохи. Текст из тех, что читаются ради удовольствия в процессе, а не сколь-либо выдающегося финала, потому что по сути эта история трех жизней, а финал всех жизней всегда один, и довольно грустный, вне зависимости от того, сумел ли герой добиться желаемого или нет.
|
| | |
| Статья написана 8 ноября 2016 г. 21:43 |
сабж Самое главное, и только что пришедшее на ум: это "Пикник на обочине", показанный с другой стороны. Герой, глазами котрого представлен "дивный новый мир", так же не понимает, что происходит, как работает эта странная техника, чего, собственно, хотят эти странные пришельцы, пусть они и люди, и разговаривают. Никто не трудится особо ему ничего не объяснять, и он до конца воспринимает этот чужой мир как враждебную Зону. Только вот пришельцы — вовсе не загадочные невидимые существа, а "наши", Комкон, прогрессоры, ум, честь и совесть человечества. Они делают большое, важное дело: спасают гибнущую в бесконечных войнах от рук злодеев-политиков нищую, голодную и необразованную страну. Заодно — пытаются спасти персонально лучших ее представителей, ученых, интеллигентов, просто даровитых людей, способных подняться выше соотечественников и стать на одну ступеньку с прогрессорами. Проблема в том, что герой, Гаг, от лица которого ведется повествование — отнюдь не Багир Киссэнский. Некоторое время еще надеешься, что его постигнет какое-то озарение, он поймет совершенно ясную для читателя гуманистическую цель Корнея и иже с ним и начнет наконец вести себя как человек и задавать правильные вопросы. Настолько очевидные для читателя. Но этого так и не происходит, и не произойдет. Если что-то и изменилось в герое, то ненамного. Поначалу он вызывает большую злость. Хочется сказать, вот пример человека с засранным, извините, сознанием. Голова у него напрочь забита продукцией патриотического производства, и кроме как "зомбирован", лучшего термина к нему не подберешь. Печальная, но довольно распространенная история, когда человек может воспринимать окружающий мир только через призму своего очень негибкого и ограниченного шаблона. Типа, вот наши храбрые воины и их злобные трусы, наши доблестные командиры и их злодеи и тд. Все новое классифицируется по тому или иному разделу. В жизни, кстати, это можно наблюдать в изобилии, и даже в не слишком сглаженных формах. Но постепенно начинаешь думать: а почему, собственно, так происходит? Почему эти умные, добрые и замечательные люди, наши прогрессоры, не смогли подобрать ключ к этому мальчику-вояке, почему они, фигурально выражаясь, пичкают пятилетнего сразу высшей математикой вместо того, чтобы учить его считать на пальцах, не объяснили ему основ своего мира и своей цели так, чтобы он понял. Неужели не смогли — да вряд ли. И приходишь к выводу, что скорее дело в другом. Корней подобрал Гага, повинуясь минутному порыву человеколюбия, спас умирающего, потому что мог, это очень понятно. Но на самом деле этот Гаг ему совершенно не нужен. В его существовании в доме Корнея нет никакой цели, все их беседы — исключительно жест доброй воли Корнея, который чувствует себя обязанным как-то развлечь и "научить" гостя, но это результат именно воспитания и человечности, а не планомерная работа, и потому не приносит никаких результатов. На самом деле ни Корней, ни кто-то другой из "наших" не прикладывает никаких существенных усилий к тому, чтобы Гаг понял — у них просто не стоит такой задачи. И робота он ему дал, очевидно, чтобы Гаг не скучал — и только Гаг склонен придавать этому какой-то особый смысл, как "пустышкам" из Зоны. Спасли, выжил, и пусть живет — ведь им очевидно, что в нашем мире, в хорошем доме и с едой, ему куда лучше, чем в своей войне и нищете. Гаг так и остается "на обочине", и, возможно, будь он чуть умнее или чуть больше похож на "наших" — он смог бы адаптироваться сам, за счет собственных усилий — но, очевидно, свойства его характера и воспитания таковы, что это невозможно в принципе. Практически весь путь до него нужно было бы сделать "нашим", он не Данг, который сумел, наоборот, пройти этот путь сам. Никто не захотел, и Гаг так и остался "на обочине" цивилизации прогрессоров. Возможно, пребывание в доме Корнея только слегка изменило его, буквально чуть-чуть, но уже достаточно, чтобы отличать от других зомбированных головорезов. На это намекает последняя глава, "одно мгновение может все изменить", как по Беллю — на что и остается надеяться.
|
|
|


 облако тэгов
облако тэгов