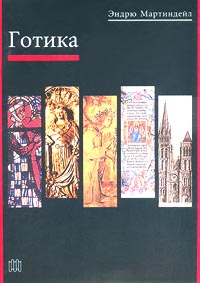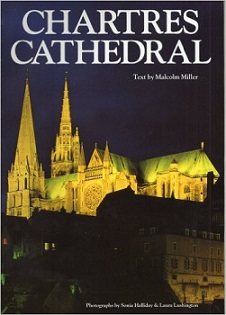| |
| Статья написана 2 сентября 2016 г. 22:17 |
Мне хотелось почитать Спинозу после книжки Ялома (учитывая, что роман про Спинозу идет у него третьим после двух романов про моих любимых философов — Ницше и Шопенгауэра), но добралась я до него только сейчас. Впечатления смешанные — местами кристально ясно и я полностью согласна, и меня только восхищает тонкость его построений, а местами спинозовская логика — совершенно за пределами моего понимания. Основная проблема, которую я вижу в этом Трактате — в том, что Бога, собственно, можно легко исключить из уравнения полностью. Именно Бога в спинозовской трактовке как некое всеобъемлющее существо, равное природе, включащее в себя все и вся, совершенное, обладающее всеми атрибутами и тд. — можно не учитывать, как мы не учитываем в уравнениях механики, что вселенная расширяется. И любовь к такому Богу даже в странном спинозовском смысле поможет реальным людям достичь счастья не больше, чем любовь к разбегающимся вселенным. С другой стороны, очень интересно посмотреть, как Спиноза логически приходит к таким выводам, поскольку в безупречности логики ему не откажешь, если делать поправку на знания о мире 17 века. К примеру, он говорит, что у Бога, да и вообще у всего, есть только два атрибута — мышление и протяжение, а все остальные аспекты являются модусами того или другого. К примеру, протяжение составляется из движения и покоя, и тело есть лишь соотношение этих двух модусов в определенной пропорции. И созданный им мир во всех его проявлениях также является наиболее совершенным из возможных, поскольку мир, собственно, равен Богу. В этой философии проблемы теодицеи как таковой не существует, поскольку "хорошее, дурное или грех являются ни чем иным, как модусами мышления", и не существуют в реальности. "Все вещи необходимы и в природе нет ни добра, ни зла". Я бы сказала, что для 17 века это удивительное прозрение. Очень интересно то, что Спиноза говорит о человеке, в частности, разбирая природу отдельных страстей. У него отличная аргументация, и совершенно оргинальная. Собственно, он логично полагает, что "страсти происходят из мнения". Так, например, "ненависть происходит из заблуждения, основанного на мнении <...> если кто-либо сделал заключение, что нечто хорошо, а другой прихолит и делает нечто во вред этому, то в нем возникает ненависть к виновнику, что никогда не имело бы в нем места, если бы люди знали истинное благо". Применяя это к любой ситуации ненависти, понимаешь, что сложно поспорить. Между прочим, логика Спинозы приводит к таким выводам, которые и в рамках нашей "обычной" морали, и в рамках христианства, и даже, возможно, в рамках иудаизма вызвали бы вопросы и подозрение в ереси. "Честь и стыд не только бесполезны, но вредны и гибельны, поскольку они основаны на самолюбии и заблуждении, что человек является первой причиной своих действий и потому заслуживает похвалы и порицания". По той же причине, кстати, вредны угрызения совести и раскание — их стоит заменить разумом, а не увеличивать свою печаль от неправильного мнения. Также же играючи, как с теодицеей, Спиноза расправляется с постулатом о свободе воли: "воля не есть вещь в природе, но лишь фикция <...> нечего и спрашивать, свободна ли она или нет". По его логике вполне можно сказать, что воля — это модус мышления, ну а поскольку мышление — это всего лишь атрибут Бога... А никакого дьявола в единственном числе или во множественном, конечно, не существует и не может существовать в мире, где все есть Бог. Мне еще очень нравится внезапно проскользнувшая очень житейская и правильная мораль: "Если же кто-то видит, что его мудрость, благодаря которой он мог бы быть полезным ближним, презирается и топчется ногами, потому что он носит дурное платье, то он сделает хорошо, если с целю помочь им наденет платье, которое не отталкивает их, и, став таким образом похожим на своих ближних, привлечет их на свою сторону". Именно этого добродетельного смирения и капли разума не хватает очень многим, кто заявляет, что хочет помочь ближним, но не готов надеть их платье. В целом мне очень нравится у Спинозы интеллектуальная честность. Развивая свою мысль, он задает очень логичные вопросы, и далеко не всегда находит на них удовлетворительные ответы. С другой стороны, некоторые его идеи настолько точны и хороши. что их и сейчас вполне можно взять на вооружение в качестве жизненных ориентиров. Действительно, если Бог = все, то "законы Бога не таковы, чтобы их можно было нарушить". И поскольку Бог состоит из всего, любовь к чему-нибудь иному, собственно, не может иметь место, получается, что бы ты ни любил, ты так или иначе любишь Бога в каком-то его проявлении. Отдельный и очень интересный аспект, вечный тонкий момент религиозных философий — взаимодействие человека и Бога, всякие экстазы и мистические практики. Но и здесь Спиноза безупречен, и совершенно не к чему придраться, когда он говорит, что "мы считаем невозможным, чтобы Бог мог проявлять самого себя любям посредством какого-то внешнего знака", что постигнуть Бога можно только разумом. Так же прекрасна и необычна идея относительно того, что такое свобода: "он есть прочное существование, который наш разум получает благодаря непосредственному соединению с Богом, с тем, чтобы вызвать в себе идеи, а вне себя действия, согласующиеся с его природой". Для удобства предлагаю атеистам заменить в этой фразе слово Бог на слово "природа" или "мир" — и сразу все встанет на свои места. Свобода — это понимание устройства мироздания и действие в соответствии с ним. Действительно, если пытаться действовать против, то все время будешь ощущать *несвободу*, т.к. законы Бога не такие, чтобы их можно было нарушать. Безупречность и полная законченность этой логики покоряет. Пожалуй, если уж необходимо выбрать Бога, то я голосую за спинозовский вариант как самый разумный.
|
| | |
| Статья написана 30 августа 2016 г. 22:17 |
сабж Не помню точно, каким образом у меня оказался в читалке этот роман — я Синклера Льюиса отродясь не читала, не собиралась и даже не знала, что он, оказывается, получил Нобелевку. Но так уж вышло, что в самолете захотелось чего-то нового, и, в целом, я довольна. Первое время я думала, что это такой Драйзер, который ради разнообразия решил написать не про молодого Тома Риддла бездушного делягу, а нормального человека с недостатками, страстями и т.д. Как и с Драйзером, "Эрроусмит" — очень тщательный, детальный и суховатый роман-биография. Нельзя сказать, чтобы он был романом воспитания, поскольку детство и юность героя рисуются очень скупо, а в основном текст посвязщен его "взрослому" возрасту — от поступления в университет где-то до 40-летия. В центре повествования — студент-медик, который позже становится ученым-микробиологом в Америке начала 20 века. Удивительным образом текст то ли специально, то ли бессознательно построен так, что герою совсем не сочувствуешь, во всяком случае, я так и не смогла найти в себе ни симпатии, ни сочувствия. Собственно, как и к герою "Трилогии желания". При этом нельзя сказать, чтобы герой был каким-то неприятным или даже слишком обыденным — нет, у него, в общем, достойная и вполне насыщенная жизнь и со взлетами, и с эпическими падениями. Что замечательно по тексту — это описание жизни в многообразии, попытка охватить все стороны одной насыщенной жизни, в которой есть и работа, и любовь, и дружба. Автор очень удачно изображает, как герой пытается жонглировать этими "стеклянными шарами" и периодически какой-то из них роняет. Так и бывает, хотя обычно в романах-биографиях сосредоточиваются на какой-то одной стороне личности героя, упустив все остальные. Но в реальности-то все не так, никто не бывает просто ученым или просто мужем, во всяком случае, нормальные люди, всегда есть еще множество радостей и обязательств в других областях. Пресловутая тема work-life balance, который никак не может установить герой, для меня лично тоже весьма актуальна, поэтому меня так занимают его мучения и метания. Правда, временами мне кажется, что более разумный человек все-таки смог бы привести все это воедино, получив тот же результат, но не принося в жертву своих близких. И страшно раздражает в герое это его периодическое вставание в красивую позу, когда он произносит, нет, я должен от всего, от всего отказаться ради науки! Не буду обедать с твоей тетей — ради науки!!11 Нуну)) Обидно в общем-то, что автор остановится, по сути, ни на чем, такое впечатление, что ему просто надоело. Герой не совершил ничего эпического, кроме дурацкой длительной ссоры с женой (ради науки!), нет никакого итога его жизни. А в глубине души я все-таки считаю, что если уж ты испортил кровь самым близким людям ради какого-то дела, причем сделал это с таким пафосом, — то должен тогда как минимум в этом деле добиться чего-то значительного. Иначе получается, что ты принес эти жертвы за других совершенно зря. А вот на этот вопрос мы ответ так и не узнаем — открыл ли герой что-то значимое или просто настолько замучился бороться с обстоятельствами, нести стандартный груз ответственности и обязанностей взрослого человека. Удивительное дело, что настолько непростому в общении персонажу, как наш увлеченный герой, достаются настолько же адекватные и преданные женщины, которые терпят все его выкрутасы, понимают и тд до последнего. Хотя, по-хорошему, терпеть такое отношение не следует, особенно если кроме мужчины у тебя нет никакой собственной активной жизни, интересов и тд — в этом раскладе вполне можно было бы существовать параллельно. Мне очень понравилось, как сделан роман технически во всех аспектах — и прорисованы персонажи, и обстоятельства, и стилистика. Перевод, кстати, очень хорош, и Льюиса выгодно отличает от Драйзера наличие чувства юмора — причем юмора того тонкого вида, когда автор не пытается пошутить специально, но находит настолько точные слова для описаний, что становится местами смешно. Так же хороши (хотя и мало привлекательны) персонажи — это отличная галерея характеров, практически ни одного из "серой массы", все — люди с исключительными и узнаваемыми особенностями. При этом ни один из характеров не является преувеличенным или комическим, хотя некоторые и создают такой эффект — но в то же время они все более чем жизнеспособные и легко представить их и в своем окружении. Правда, наблюдать за ними, как и за героем, интересно скорее с исследовательским интересом — чувств симпатии они не вызывают. Единственное исключение — профессор Готлиб, в которого влюбился молодой Мартин Эрроусмит на заре своего студенчества. Льюис написал очень трагически-романтичную фигуру мрачного, замкнутого и фанатичного ученого, исключительно прямолинейного, жесткого и при этом давно принесшему себя в жертву своей науке. В того персонажа, который становится кумиром молодого Эрроусмита, действительно, легко влюбиться. Правда, спустя 20 лет, изображая уже постаревшего и сдающего Готлиба, Льюис сильно скрашивает это впечатление — но тем не менее нарисованный в начале книги характер вызывает самые яркие эмоции. Еще очень хороши все описания работы Эрроусмита — я имею в виду не техническую, а организационную часть. Как он работал сначала врачом в захолустье, потом подвязался в общественном здравоохранении, потом, наконец, попал в приличное научное учреждение. Описание каждого места, всех деталей организации, взаимоотношений людей, непростых требований. И переход в каждое место кажется наконец-то лучом света для героя, и каждый раз оказывается, что и там свои проблемы, совершенно неожиданные, и все не так радужно. В общем, как с любой сменой работы. При этом, как и при любом нормальном развитии карьеры, герой все равно продолжает двигаться наверх, к своей цели. Забавно, что даже попадя в научный институт, где ему дают сразу приличные деньги, лабораторию и не требуют почти год вообще никаких отчетов и результатов, он тоже умудряется быть в итоге недоволен и спустя время не так уже восхищается коллегами, как раньше, — но это нормальное свойство человека. Реализм, детали и чувство юмора, с которым описаны все злоключения (а по сути, вполне нормальные переходы) героя от одной работе к другой — самое интересное, что есть в тексте.
|
| | |
| Статья написана 26 августа 2016 г. 22:24 |
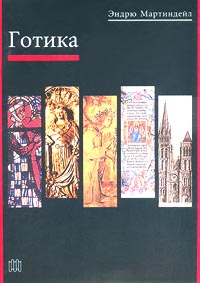
Небольшая книжечка рассказывает об истории готики как направления в искусстве, особо уделяя внимание архитектуре, скульптуре и живописи. Текст охватывает основные периоды от зарождения до расцвета готики, то есть с середины 12 века до начала 15 и интернациональной готики. Не сказать, чтобы я вынесла много нового в плане понимания готического стиля как такового — учитывая, что иллюстрации в книжке черно-белые (что очень печально), а "технических" подробностей немного. В этом плане смотреть глазами гораздо продуктивнее, чтобы начать что-то различать. Зато по каждому из искусств и по каждому периоду автор приводит буквально огромное количество примеров, снабжая их вполне интересными и объемистыми описаниями. Честно признаюсь, приятно читать и думать, вот здесь я был, и здесь тоже. По этой же книге можно составлять список будущих поездок — учитывая, что расположение шедевров готической архитектуры частично, но не полностью совпадает со стандартными туристическими центрами. Книжку стоит читать после того, как посмотришь на готику "вживую", и внимательно, хотя бы в некотором объеме, потому что она открывает глаза на некоторые ньюансы и тонкости, которых сходу не замечаешь, пораженный. Как сделаны складки на одеждах у статуй, например, и как манера делать эти складки различается не только по эпохам, но и по регионам, и от мастера к мастеру. Как в разных соборах решается вопрос распределения веса, где-то подпорки так выносятся, что соборы становятся похожими на остроугольных пауков, где-то из вообще не видно, насколько различается, казалось бы, одинаковая манера делать ребра свода. Признаюсь, из всех охватываемых Мартиндейлом искусств (включая архитектуру, скульптуру, живопись и отдельно, пожалуй, можно выделить книжные иллюстрации) меня больше всего занимает, конечно, архитектура, а скульптура — куда в меньшей степени. В архитектуре я понимаю хотя бы в самых общих чертах. Тем не менее, читать про остальные направления очень интересно, к тому же, несмотря на значительный объем информации и упоминаемых произведений искусства. Автор описывает каждое произведение искусство кратко, и при этом достаточно исчерпывающе, так что начинаешь понимать, в чем его отличия от других в том же стиле и того же периода. Приятная необременительная и познавательная книжка с большим количеством иллюстраций. Теперь хочется найти что-то более наукообразное именно о готической архитектуре, правда.
|
| | |
| Статья написана 25 августа 2016 г. 21:47 |
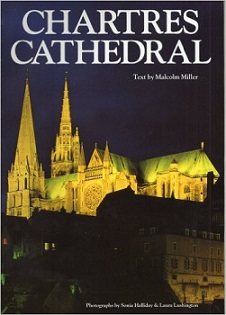
Я всегда стараюсь в соборах и музеях покупать книги, посвященные конкретному месту или какой-то ассоциированной с ним узкой теме, но из недавней поездки по Франции привезла только одну эту книгу про Шартрский собой — остальные не устроили по объему и качеству. Книга хороша для историка искусства и архитектуры. Что самое главное для меня, в ней не только много иллюстраций (фоток у меня все равно больше, хоть и не такого качества), но и много текста. Правда, дальше 13 века автор не заходит, ну и да кого интересует, что там было дальше, действительно :what: В начале кратко описывается история строительства собора, его внешнее убранство, с особым тщанием — знаменитый лабиринт (жалею теперь, что не купила какой-нибудь сувенирчик с его изображением), столь же знаменитые вытянутые скульптуры на Королевском портале. Большая часть книги посвящена описанию витражных окон, которых в соборе всего 176, при этом каждое, разумеется, состоит из пары десятков мелких картинок, объединенных общей темой. Витражи в Шартрском соборе старые, значительная часть — 12 и 13 веков, что особенно интересно. Но, признаться, даже я, любитель витражей, и то несколько притомилась. Обидно, что больше всего места отдается "стандартным" витражным сюжетам: древо Есеево (оно там отличное, правда), Страсти Христовы, Вознесение Богородицы и тд. При этом в соборе много совершенно замечательных и необычных витражей. 
Один из самых знаменитых — Зодиакальное окно, с изображением знаков зодиака и сопутствующих им по времени года занятий. Привычные знаки зодиака при этом изображаются совершенно феерически, вот, например, это рак, с человеческим лицом, что характерно (про шведский социализм я уже шутила по другому поводу, но и тут не могу удержаться). Нашла качественные фотки зодиакального витража здесь . В общем, отличная интересная книжка, чтобы понастальгировать про отпуск)
|
| | |
| Статья написана 22 августа 2016 г. 22:16 |
Я читала "Человеческое" не так давно, правда, в другом издании и в переводе С.Л.Франка и подробно конспектировала. В новом ПСС сделан и новый перевод М.В. Бакусева — он хорош, хотя, мне кажется, местами уступает Франку в поэтичности, но, возможно, выигрывает в правильности — тут я за полным незнанием немецкого не могу судить. Правда, с удивлением обнаружила, что "Смешанные мнения и изречения" и "Странник и его тень" — это по сути вторая часть "Человеческого", которая тоже входит в этот том. Раньше их на русском, кажется, и не было, во всяком случае, в полном приличном переводе. Не могу сказать, что "Человеческое" — любимая моя книга у Н. Она слишком разбросанная, в ней слишком много по-настоящему высоких мыслей перемежается размышлениями совершенно текущего характера о современном Н. немецком образовании, музыке, литературе — все те имена, которые никто уж и не помнит давно, за исключением пары титанов, которые уже не подлежат обсуждению на таком уровне. "Смешанные мнения" в этом плане даже проигрывают первой, общеизвестной части "Человеческого", в которой хотя бы афоризмы рассортированы по тематике. С другой стороны, вот, я прочитала один и тот же текст с разницей в 5 лет, интересно, изменилось ли как-то восприятие? Учитывая, что от прошлого текста я не помню *ничего* (в художественной литературе есть хоть слабая надежда вспомнить сюжет, но в подобном варианте — увы). Беглый просмотр сделанных в том и другом издании пометок показывает, что подчеркнутые фразы довольно часто совпадают — это даже комично, я совершенно этого не помню! Ни что подчеркивала, ни что выписывала. Помню, правда, что раньше меня больше всего в текстах Н. занимали религиозные вопросы — а сейчас, скорее, моральными. Его религиозные вопросы для меня как-то перестали быть проблемой, поэтому мне интересно посмотреть, но неинтересно по существу. Зато вот вопросы общественной и частной морали — здесь Н. просто кладезь полезных и точных наблюдений о том, как все мы устроены. "Убогие, мелочные условия делают человека убогим; подлость и благородство человека в добре и зле обычно зависят не от качества переживаний, а от их количества" (1-72). Вот почему длительный стресс, болезнь, нищета меняют самый лучший характер, хотя внезапно оказавшись в непростой ситуации, человек вполне способен на образцовое поведение. "Как только религия становится господствующей, ее противниками становятся все те, кто мог бы быть ее первыми последователями" (1-118). Применимо, заметим, также к идеологии или государственному устройству. Все те — это в данном случае все приличные люди, очевидно. Забавная еще мысль на тему религии, на самом деле применимая ко всему: "человек получает настоящее наслаждение в том, чтобы насиловать себя чрезмерными требованиями, а потом обожествлять эти тиранические требования в своей душе"(1-137). Но это же так логично, если уж ты чему-то принес большие жертвы, надо оправдать его как значимое хотя бы постфактум. Причем неважно, что это, материнство, идеальная фигура или аскетизм и целебат. Это очень перекликается с афоризмом из другого раздела, где Н. говорит о плененных и свободных умах. "Оправданны все вещи, ради которых мы пошли на жертвы" — вот позиция плененных умов, и Н. тут же находит ей отличный пример: "Война, начатая против воли народа, продолжается с воодушевлением, как только приводит к первым жертвам". Печальные и всегда современные замечания о литературе мне у него очень нравятся, хотя, мне кажется, в области суждение искусств Н. периодически перегибает палку, заходя в область собственных страстей, сильно далеких от каких-то общих оценок. "Плохие писатели должны быть всегда, ведь они удовлетворяют вкусы неразвитых, незрелых возрастных категорий, у которых тоже есть свои потребности..." (1-201). С этим, в общем, нельзя не согласиться. Мне нравится еще, хотя совсем не импонируют, слова о свободе: "тот, кто не использует две трети своего времени для себя, — тот раб", то есть, по сути, все присутствующие, а кто нет, того наше общество однозначно заклеймит трутнем и нахлебником, если только он не лежит при смерти. Очень хорошо у Н. всегда то, что он замечает не только в обществе, но и в государстве (а в женщинах он ни черта не смыслит). К примеру, прекрасная мысль, что правительство будет дежаться религии там, где чувствует себя бессильным как-то реально улучшить положение людей, а религия облегчит им хотя бы душевные страдания. Подчас его идеи кажутся настолько актуальными и провидческими, что я несколько раз проверяла год выхода книги. "Такое высоко цивилизованное, а потому неизбежно утомленное человечество, которое представляют сегодняшние европейцы, нуждается не просто в войнах, а в величайших и ужаснейших, то есть во временных рецидивах варварства" (1-477). В 1878 году написано, до величайших рецидивов не очень далеко, но еще прилично. Или вот, о несчастной нашей родине: "В России существует эмиграция интеллигенции: люди едут за границу, чтобы читать и писать там хорошие книги. Но этим они способствуют тому, что их покинутая родина все больше превращается в разинутый зев Азии". Со второй частью можно поспорить, с первой — вряд ли Наконец, есть несколько афоризмов (штут 5 набертся на книгу), рядом с которыми я просто подписываю "это я", потому что это так)) "Чрезмерными усилиями они добиваются себе лишнего досуга, а потом не знают, что с ним делать, кроме как отсчитывать часы, покуда те не выйдут до конца". Неумение отдыхать по-человечески — отличительная особенность штирлеца. "В одиночестве одинокий пожирает сам себя, а на людях его пожирают люди. Вот и выбирай". Хорошая фраза для эпитафии. Есть еще цитата, про, извините, интернет: "И в душе неизбежно имеются известные клоаки, в которые она сливает свои нечистоты: для этого годятся люди, отношения, сословия, или родина, или весь мир, или, наконец, для тех. чье самомнение неизмеримо, — Господь Бог". И наконец фраза из тех, которые можно без особого стыда повесить на стенку: "Кратчайший путь — не тот, что прямее всех, а тот, на котором наши паруса раздуваются самими благоприятными ветрами: так говорит наука кораблевождения. Не следовать ей значит быть упорным: твердость характера тут загрязняется глупостью". Мне лично очень свойственна такого рода глупость, которую обычно хвалят как необычайную целеустремленность, хотя местами, наверное, стоило бы остановиться и подумать, а надо ли мне вообще туда. Не раз оказывалось, что это абсолютно впустую, кроме радости от собственного усердия (с). Мне, собственно, нечего сказать о "Человеческом" в целом, потому что в нем нет ничего целого, но форма и содержание частей — квитнэссенция Н., которого я люблю, и это, видимо, уже навсегда.
|
|
|


 облако тэгов
облако тэгов