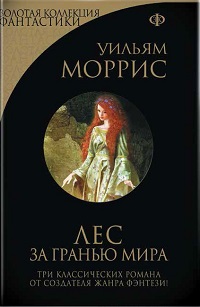Много лет назад я читала роман Кэндзабуро Оэ "Опоздавшая молодежь" и испытывала ужасно раздражение не только от того, что он был страшно скучным, но прежде всего — от самого посыла. Опоздавшая молодежь — это то поколение, которое во время Второй мировой было слишком маленьким, чтобы принять участие в войне и, конечно, героически погибнуть, зато они хлебнули послевоенной американской оккупации, последующего преклонения перед всем американским и прочих неприятностей, которые ждали побежденную нацию (не самых ужасных). И весь пафос романа про то, что вот она несчастная, эта молодежь, а была бы на несколько лет старше, могли бы героически погибнуть пилотами-камикадзе, так клево же! На сравнении с европейским "потерянным поколением", юность которых пришлась на Первую мировую, а зрелость — на Вторую, сожаление о поколении, росшем в мирное время, каким бы оно ни было, кажется каким-то диким цинизмом человека, который не знает, о чем говорит.
Однако книга Морриса подтверждает обратное: да, знает, и это правда такая странная идеология, кажущаяся дикой человеку, воспитанному в христианской традиции признания ценности каждой отдельной жизни. Исследование Морриса подсвечивает совершенно противоположный концепт в японской культуре на протяжении всей истории ее развития: тот факт, что героями и великими личностями история Японии многократно признавала не просто людей, потерпевших поражение и погибнувших на выбранном пути, но прямо скажем, сделавших это из бессмысленного упрямства. То есть не "пусть я умер, но не зря", а именно что "героически умер, и все зря" или даже и стало только хуже, и совсем закопал дело, ради которого боролся, и был официально объявлен предателем вне закона. Это как если бы СССР не распался, "врагов народа" не реабилитировали, но наряду с советской идеологией на культурном уровне признавалось бы геройство этих людей, бессмысленно погибнувших за Белых, скажем. Притом, что герои Морриса преимущественно кончали свою жизнь именно как враги государства — по крайней мере, власть предержащих в тот момент. И возвеличивали их вовсе не потому, что спустя время власть сменилась и маятник качнулся в другую сторону, а их былые сторонники вышли из тюрем и подполья — нет, это делала все та же уничтожившая их официальная власть и далее народная память. То есть сам по себе героизм их гибели прекрасно уживался с противоположной идеологией, более того, даже в какой-то мере подпитывался противоречием этой идеологии — не как вызов ей, а как крайняя форма бессмысленной жертвы.
Моррис рассказывает десять историй о таких героях, девять из которых посвящены конкретным личностям, начиная с древнейших времен (эпохи Хэйан) и вплоть до 19 века, а последняя — японским пилотам-камикадзе времен Второй мировой. Понятно, что применительно к персонажам, скажем, эпохи войны Тайра и Минамото источники несколько ограничены, однако их хватает, чтобы создать разностороннюю картину событий. Приятно, что Моррис не дает собственной оценки, кто тут плохой, а кто хороший, а, с одной стороны, фиксирует исторические факты, а с другой — то, как эти факты трансформировались в легендах, культуре и литературе, чтобы собрать образ героя, о котором японским детям рассказывают в школе. Такую ценную книгу о Японии с таким взглядом мог написать только образованный иностранец, с одной стороны, в достаточной мере знакомый с японской историей и культурой, а с другой — носитель совсем других ценностей, рефлексирующий о различии этих ценностей. Тот факт, что Моррис не просто выдвинул некую общую идею об особенностях японского подхода к "героизации" персонажей, но подкрепил ее очень детальными примерами из всех истории Японии, практически на протяжении 10 веков. Каждая из глав книги посвящена одному такому герою и обстоятельно (насколько можно реконструировать) описывает весь ход событий, начиная с детства героя и предпосылок развития противостояния и заканчивая его битвой и последующим восприятием его личности, становлением той самой посмертной славы. Моррис подчеркивает, что в японской культуре особо ценится такое качество как "искренность" (которое лично я бы скорее назвала упрямством) — трагический герой упорно идет к своей цели / следует своим ценностям, несмотря на то, что неуспех на этом пути становится ясен задолго до развязки, и ему дается достаточно возможностей с него свернуть, но они все игнорируются. Более того, именно поражение как раз и придает ему значимости, а вот те персонажи, которые выигрывали соответствующиее противостояния, добивались или оставались у власти и добивались по итогам каких-то реальных целей — их культурная интерпретация как раз делает злодеями. Моррис неоднократно это подчеркивает, что в Японии героем становится вожак подавленного бунта, который не принес стране ничего, кроме крови, а вовсе не сегун-реформатор, умело построивший политическую карьеру и принесший на своем поприще практическую пользу стране.
Крайнее свое проявление этот феномен находит в летчиках-камикадзе — и дело не в самоубийственной тактике и отсутствии жалости к молодым людям, которые радостно, как бараны, шли на убой, когда "партия сказала надо". Дело в том, что, по сообщениям Морриса, их гибель была преимущественно бессмысленной, тактика камикадзе — ужасно неэффективной т.зр. результата, и военное руководство это прекрасно осознавало. Но все именно что исходили их парадигмы, что бессмысленная смерть во славу отечества, даже если она не принесла врагу никакого урона, — едва ли не лучшее, что может сделать молодой человек 20 лет в своей жизни. И от желающих стать камикадзе не было отбоя, а объявленная императором капитуляция после бомбардировки Хиросимы разрушила их мечты и едва ли не обессмыслила остальную жизнь.


 облако тэгов
облако тэгов