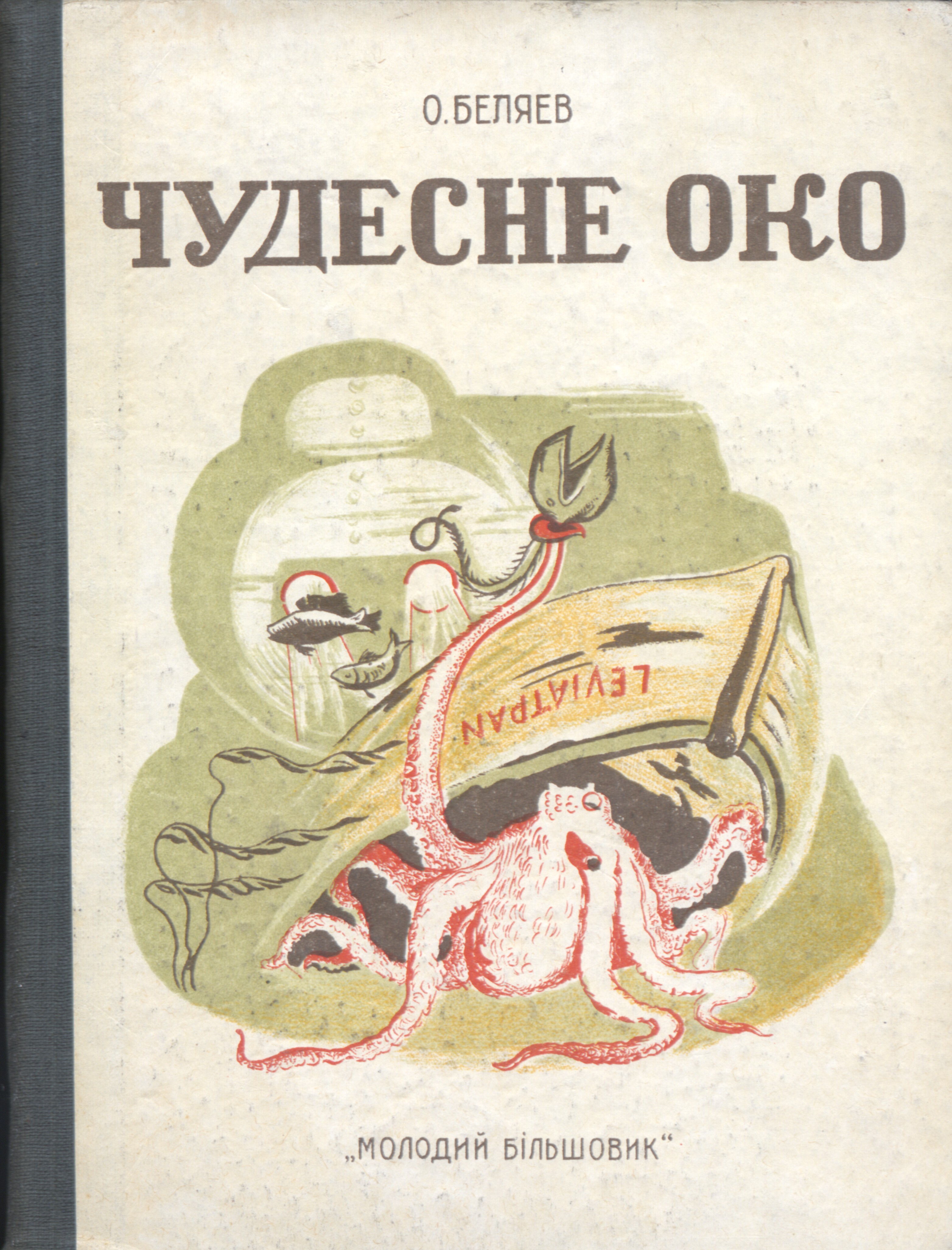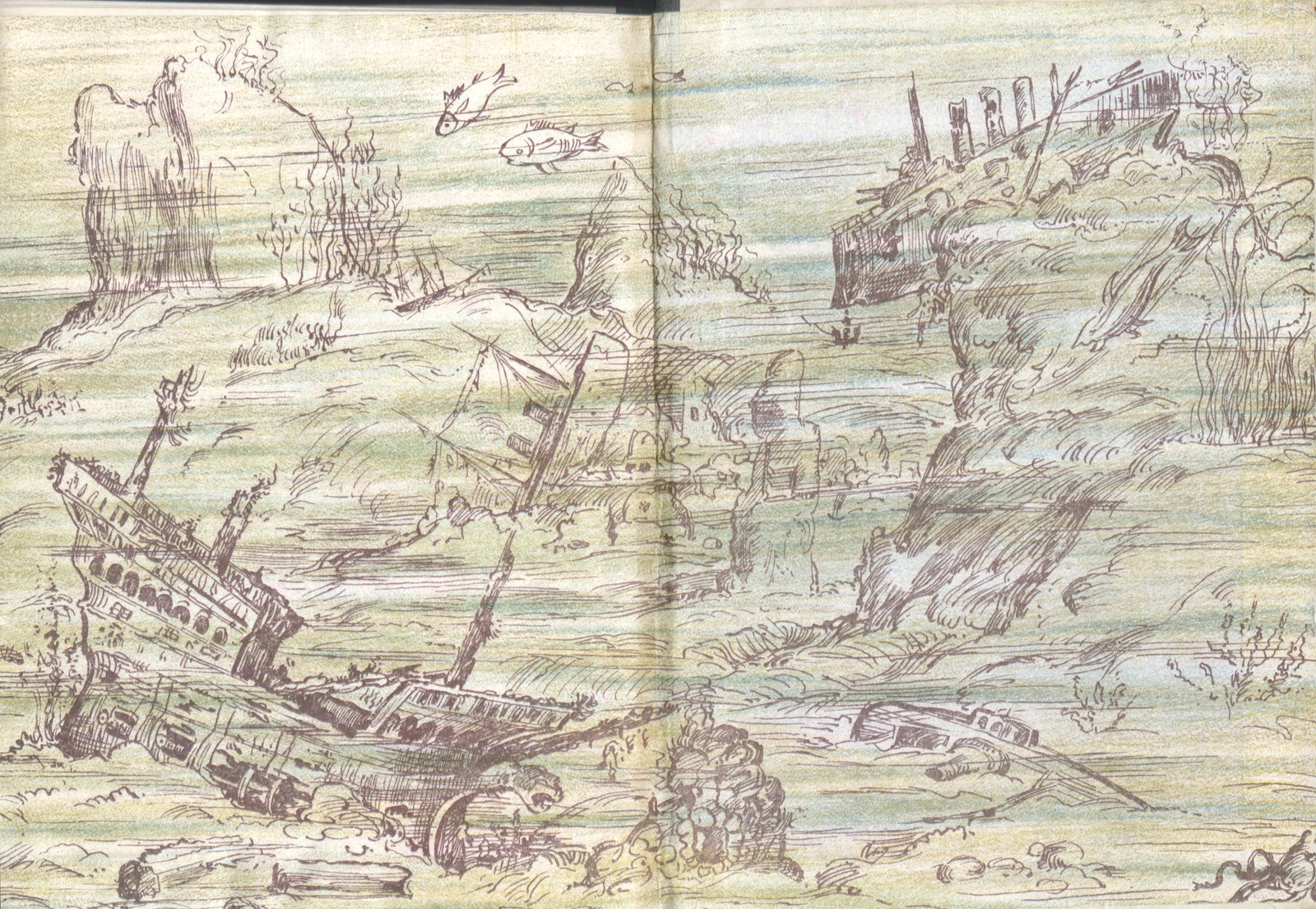признался автор «Старика Хоттабыча» своему приятелю М. Лезинскому.
Действительно, жанр волшебной сказки мало интересовал Л. Лагина. За всю
меньше всего придавал значения. На сегодняшнее время «Старик Хоттабыч»
не оставляет равнодушными не только читателей, но и литературоведов.
приобрела только после войны: начиная с 1950-х гг. книжка регулярно
немецкий, чешский, китайский и др.). Популярности «Старику Хоттабычу»
добавила одноименная экранизация Г. Казанского, полюбившаяся советскому
зрителю. В результате, к концу 1960-х гг. уже все знали «Хоттабыча»: если
не «бумажного», то хотя бы «экранизированного». Но если сравнить все
разные книги. Возникает вопрос: «А какого же Хоттабыча все знали?» Того,
«Хоттабыча». Мало кто задумывался о существовании различных версий
их всего было.
Лезинский М. В гостях у старика Хоттабыча. 1
На данном этапе исследования жанр «Старика Хоттабыча» находится за рамками научного 2
интереса, поэтому далее произведение будет именоваться как повесть.
3
В современном литературоведении принято считать, что существовало
только две версии – исходная, с которой началась история публикаций, и
редакция 1955 г. Однако, если обратится к работам исследователей, статьям
читателей-дилетантов, то обнаруживается невероятная путаница в датах. Эта
путаница происходит не только потому, что повесть имеет больше, чем две
редакции, но и потому, что этот вопрос почти не исследован и не разрешен в
науке. Из того небольшого количества работ, посвященных этой проблеме,
только одна аргументированно опровергает традиционную точку зрения:
А. Х. Омраан, подробно исследовав издание 1951 г., пришел к выводу, что
За неимением рукописного материала в ходе исследования будут
использованы только печатные издания, начиная с первой и заканчивая
последней прижизненной публикации «Старика Хоттабыча», то есть с 1938
по 1979 гг. Опираясь на уже существующие научные работы и критические
статьи, затрагивающие проблемы текстологии «Старика Хоттабыча»,
количество сравниваемых изданий можно ограничить 1940 – 1958 гг.: именно
в этот период появлялись различные версии произведения. Принимая во
внимание тот факт, что каждая новая редакция, дополняясь главами,
вырастала в объеме, то метод исследования будет выходить за рамки
построчного сравнения: искать изменения, сделанные в строке, предложении
или абзаце представляется невозможным при внесении в произведение
новых объемных фрагментов текста. Таким образом, принцип анализа будет
смещен в область фиксации основных смысловых изменений, которые
влекут за собой всевозможные правки – изъятие, добавление, замену или
перестановку текста. Из этого следует, что не всякое изменение в
произведении будет значимым при работе над ним, а только лишь то, которое
повлияло на его смысловую организацию.
Результатом проделанного анализа станет сопоставительный обзор всех
изменений текста, установление количества редакций «Старика Хоттабыча»
и обозначение основных тенденций редакторской работы автора. Кроме
этого в работе будут рассмотрены произведения, послужившие источником
возникновения замысла «Старика Хоттабыча» – «Медный кувшин» Ф.
Анстея и сказка «О рыбаке» из сборника арабских сказок «Тысячи и одной
ночи». Также будет сделана попытка дать ответ на вопрос, что позволяло
тексту при каждом редактировании не разрушить своей художественной
целостности. Настоящее исследование, посвященное текстологии и поэтике
«Старика Хоттабыча», в конечном итоге, позволит последовательно и в
деталях проследить творческую историю произведения и положить конец
научной путанице.
5
«Старик Хоттабыч»: текст
Перед тем как обратиться непосредственно к сравнению редакций
«Старика Хоттабыча», необходимо немного сказать о его первой публикации.
Впервые повесть появилась в журнале «Пионер» в 1938 г. Печаталась она в
трех последних номерах: 10, 11 и 12, и изначально состояла только из 20
глав.
№ 11 : 3
Таинственная бутылка
Старик Хоттабыч
Испытание по географии
Хоттабыч действует вовсю
Необыкновенное происшествие в кино «Роскошные грезы»
Еще одно необыкновенное происшествие в кино
«Фигаро здесь №1»
№124
Девятнадцать баранов
Вдвоем в парикмахерской
Беспокойная ночь
Не менее беспокойное утро
Почему у С. Пивораки изменился характер
Интервью с легким водолазом
Намечается полет
В полете
Лагин. Л. Старик Хоттабыч // Пионер. 1938. № 10. С. 62 – 73. 3
Лагин. Л. Старик Хоттабыч // Пионер. 1938. № 11. С. 90 – 104. 4
6
№135
Опять все хорошо
Хоттабстрой
Старик Хоттабыч и Мей Ланьч-джи
Больница под кроватью
Роковая страсть Хоттабыча
Удивительно, что ни положительных, ни отрицательных отзывов
«Старик Хоттабыч» в свое время не получил, хотя полностью соответствовал
требованиям детской литературы. Л. Лагин в повести изобразил пионеров,
которые, впоследствии стали образцом для подражания: умные, смелые,
уверенные в себе и преданные советской идеологии Волька и Женя
олицетворяли тот идеальный тип подростков, который пытались воспитать в
СССР. И именно такие герои становятся «воспитателями» отставшего от
жизни Хоттабыча. Повесть очень хорошо оснащена всеми приметами
современности, имеет увлекательный сюжет, много смешных сцен, но, по
всей видимости, не представляла собой особой ценности для детской
литературы.
Оригинал и первая редакция 1940 г.
В 1940 г. вышло отдельное издание повести6. В том же году появился
единственный своевременный отклик на новую книжку – рецензия А. Ромма,
в которой отмечалась оригинальность сюжета, заключавшаяся, по большей
части, в выборе главного героя. А. Ромм пишет, что не сладко бы всем
пришлось, если бы такой джинн достался, например, Тому Сойеру7. Но
встреча Хоттабыча с пионером Волькой Костыльковым, который не только
Лагин. Л. Старик Хоттабыч // Пионер. 1938. № 12. С. 96 – 108. 5
Далее в тексте будет именоваться как И40. 6
Ромм. А. Л. Лагин. Старик Хоттабыч // Дет. лит. 1940. № 8. С. 40. 7
7
ничего не просит, но и от всего отказывается, стала очень удачным
авторским ходом в уже известном сюжете. А. Ромм признал книгу хорошей и
занимательной, однако поставил в упрек автору его манеру изложения,
которая «слишком зависит от традиций юмористики» . 8
Первое отдельное издание только частично совпадало с журнальной
версией. Увеличился объем глав – вместо 20 глав стало 57 – и были внесены
различные изменения. Этот очевидный факт позволяет говорить о том, что
повесть была существенно переработана. В одном из интервью дочь
писателя, Наталья Лагина, рассказывает, что «Хоттабыч» был написан в
поездке на Север, в командировке на Шпицберген, в которую его вместе с
художником Борисом Ефимовым (братом М. Кольцова) отправил А. Фадеев.
Командировка была спланирована неожиданно и быстро, сразу же после
ареста М. Кольцова, чтобы спасти судьбы редколлег газеты «Правды» от
подобной участи9. Более того, в том же интервью Наталья Лагина
утверждает, что до 1957 г. «Хоттабыча» не переиздавали.
Согласиться с тем, что повесть не переиздавали, нельзя: факты говорят
об обратном. А вот командировка на Север, действительно, оказала свое
влияние на повесть, с тем только замечанием, что повесть была там не
написана, а переписана и дополнена. М. Кольцова арестовали в декабре
1938 г., а к этому времени «Старик Хоттабыч» почти полностью был
напечатан в журнале. Подтверждением тому, что командировка повлияла на
творческий замысел, служат новые главы, появившиеся в первом отдельном
издании: «Мечта о «Ладоге»», «Переполох в Центральном экскурсионном
бюро», «Кто самый знатный?», «Что мешает спать?», «Риф или не риф?» и
др. В новых главах автор повествует о путешествии главных героев на
ледокольном пароходе «Ладога» в Арктику. Во время этого же путешествия к
числу основных действующих героев добавился еще один – Омар Юсуф ибн
Там же: С. 41. 8
Лагина Н. Л. Автор «Стрика Хоттабыча» брат гонорары конфетами: беседа с дочерью писателя // 9
Комсомольская правда. 1999. 19 янв. С. 11.
8
Хоттаб, брат старика Хоттабыча. Помимо того, что добавился новый
материал, были отредактированы уже опубликованные ранее главы.
Кинотеатр, в который отправились старик Хоттабыч и Волька,
изначально назывался «Роскошные грезы», а в И40 (как и во всех
последующих переизданиях) он переименовывается в «Сатурн». Знаменитый
сюжет о превращении девятнадцати советских граждан в баранов изначально
разворачивался в парикмахерской ««Фигаро №1» Ростокинского района,
банно-прачечного треста» (Пионер. №10. С. 73). В И40 она превращается
просто в «парикмахерскую районного банно-прачечного треста» (И40.
С. 15) . «Царь джиннов Джирджис из потомков Иблиса» (Пионер. №10. 10
С. 71), месть которого Хоттабыч видит во всех проявлениях транспортной
цивилизации, становится теперь «Джирджис ибн Реджмус, внук тетки
Икриша». Что касается персонажей, если сравнивать оригинал повести с его
первой редакцией, можно сказать, что они еще дорабатываются и
додумываются. Например, образ С. Пивораки, которого Л. Лагин наградил
говорящей фамилией, изначально обладал только одним недостатком –
словоохотливостью, поэтому и глава называлась «Почему у С. Пивораки
изменился характер». О его пристрастии к пиву и сваренным ракам ничего не
говорилось, и конец главы, где сообщается, что С. Пивораки сменил
фамилию на Ессентуки, заканчивался следующим образом:
«О причинах этого перелома в его характере и образе жизни Степан
Степанович никому, даже своей жене, так по сей день и не
рассказал» (Пионер. №11. С. 99)
Фабула повести усложнилась за счет вставки новых глав. Появились
новые персонажи, новые места действия и новые события. К некоторым из
отличий оригинала и первой редакции мы будем возвращаться, чтобы
продемонстрировать эволюцию правки того или иного эпизода.
Издание 1940 г., по которому приводятся цитаты, далее в работе будет обозначаться И40. 10
9
Редакции 1940 и 1951 гг.
Традиционно в литературоведении следующую редакцию датируют
1955 г. В той немногочисленной литературе, которая посвящена повести,
только несколько исследователей заметили еще одну промежуточную
послевоенную редакцию, сделанную в 1951 г. И. Дубровская в статье
«Творческая история сказочной повести Л. Лагина «Старик Хоттабыч»»11
пишет: «С 1952 г. начались переиздания, и каждый новый вариант автор
дорабатывал, максимально политизируя…»12. Большое внимание редакции
1951 г. уделил А. Х. Омраан в диссертации «Аксиологические модели
авторских сказок в русской литературе конца 1930-х – 1960-х гг.» Одна из 13
глав научного исследования посвящена именно редакциям «Старика
Хоттабыча».
Исправленный в 1951 г. «Старик Хоттабыч» вновь увеличился в объеме
вдвое, несмотря на то, что количество глав стало меньше – вместо 57 их
стало 53. Исчезли бесследно главы «В парикмахерской», «Девятнадцать
баранов», «Почему С. С. Пивораки переменил фамилию», «Опять всё
хорошо», «Случай в отделении милиции», а на их месте появились новые –
предисловие «От автора», «Беспокойный вечер», «Третье приключение в
метро», «Опять эскимо», «Новогодний визит Хоттабыча». Большая часть
сохраненных глав была переработана. Основные причины, которые могли
побудить писателя переписать повесть – это давление «сверху» и изменение
условий жизни и политики государства. В уже упомянутом интервью
Натальи Лагиной есть чрезвычайно важное замечание, что при переиздании
«Старика Хоттабыча», хотя она и утверждает, что до 1957 г. этого не делали,
Дубровская И. Творческая история сказочной повести Л. Лагина «Старик Хоттабыч» // Русский 11
язык, литература и культура в современном обществе: Материалы междунар. науч. конф. Иваново,
2002. С. 591 – 595.
Там же: С. 595 12
Омраан А. Х. Аксиологические модели авторских сказок в русской литературе конца 1930-х – 13
1960-х гг. (Лагин / Волков): автореферат диссер. Воронеж, 2012. 22 с.
10
ее отца «заставили максимально политизировать» повесть. Однако, 14
учитывая многократное несовпадение того, что говорит Н. Лагина с тем, что
мы имеем на самом деле, этому можно доверять только отчасти. О влиянии
на судьбу повести государственными органами упоминал и сам Л. Лагин, о
чем пишет в мемуарах М. Лезинский: «Я писал памфлет на книжки
подобного рода, а Хоттабыча изувечили, выбросили из книги несколько глав
и так отредактировали, что памфлет превратился в волшебную сказку» . 15
Вторая причина заключается в содержании книги: большое количество
эпизодов, касающихся внутренней и внешней политики 1950-х гг.,
синхронизированы с тем, что происходило на самом деле. Нельзя забывать,
что к 1951 г. после Второй Мировой войны изменилась расстановка сил
политического влияния, а между СССР и Америкой шла холодная война. В
это же время управление страной всё еще принадлежало И. В. Сталину, и до
разоблачения культа личности Сталина и последующей критики его режима,
а вместе с тем и ослабления цензуры на литературу, еще целых три года.
Новый «Старик Хоттабыч», невинная детская повесть, приобретает
сатирико-политический подтекст и становится отнюдь не детской. Каждый
взрослый читатель мог ощутить в ней морализаторство и зависимость от
советской идеологии. Л. Лагин обновляет набор проблем, в результате чего в
его повесть наполняется обличительной критикой Америки, её
капиталистического строя и экономического подчинения себе других стран.
В новой редакции объектом негативных оценок Л. Лагина становятся не
пороки советского общества, а вся западная культура. В результате «Старик
Хоттабыч» парадоксально преображается: исчезает сатира на советский
бюрократизм, поведение советских граждан. Взамен возникает неприязнь ко
всему, что прямо или косвенно связанно с капитализмом и, в особенности, с
Лагина Н. Л. Автор «Стрика Хоттабыча» брат гонорары конфетами: беседа с дочерью писателя // 14
Комсомольская правда. 1999. 19 янв. С. 11.
Лезинский М. В гостях у старика Хоттабыча. 15
URL: http://www.proza.ru/2012/02/29/985 (дата обращения: 28.05.2017)
11
Америкой. В повести встречаются бесконечные выпады против
наличие здравого рассудка. Билет, который вытянут Волька, теперь будет про
Индию. На первый взгляд, ничего удивительного в вопросе для экзамена по
географии нет. Однако в тексте присутствует авторский комментарий,
придающий главе политический характер: «Он раскрыл рот и хотел
сказать, что полуостров Индостан напоминает по своим очертаниям
треугольник, что омывается этот огромный треугольник Индийским
океаном и его частями – Аравийским морем на западе и Бенгальским заливом
– на востоке, что на этом полуострове расположены две большие страны –
Индия и Пакистан – и много княжеств, которые называются
независимыми, но так же как и Индия и Пакистан, остаются по существу
колониями Англии, что это очень нищие земледельческие страны, и так
далее и тому подобное» (И51. С. 19 – 20).
Все, что Волька захочет сказать об Индии на экзамене, увидит своими
глазами Женька, отправленный в Индию Хоттабычем. Рассказ Жени в И40
передан очень коротко и политкорректно: «Поверьте автору на слово, что
Женя вел себя там так, как надлежит вести себя в условиях жестокой
эксплоатации юному пионеру. Автор этой глубоко правдивой повести
достиг довольно преклонного возраста и ни разу не обострил отношений с
вице-королем Индии. Ему поэтому не хотелось бы испортить эти с таким
трудом наладившиеся отношения. А рассказ Жени Богорада, совсем еще
юного гражданина Советского Союза, о том, что он видел в Индии,
придирчивые дипломаты могли бы определить, как вмешательство во
внутренние дела жемчужины британской короны» (И40. С. 38).
В 1951 г. после краха колониальной системы и обострения отношений
СССР со странами Запада, то, что раньше автор скрыл от читателей, теперь
появилось на страницах повести: «Выволокли. А там уже стоит
покупатель. Понимаешь, по-ку-па-тель! Пришел покупать меня в рабы! Они
там людей продают и покупают. Но я не дрогнул. Я говорю: «В чем дело?
Почему вы меня держите за руки? Какое право вы имеете драться? Я
свободный советский человек». Тогда один из них говорит: «Тут тебе,
13
болван, не Советский Союз, а Британское содружество наций, и ты не
свободный человек, а мой раб» (И51. С. 60).
И далее, когда Женька захотел пожаловаться на беспорядок, ему
ответили: «Нашел… кому жаловаться – англичанину! Да если бы не
англичане, ‒ да продлятся их жизни в счастье! – в Индии давно уже не было
бы работорговли» (И51. С. 66)
Небольшой рассказ Жени Богорада настраивает читателей против
Англии, как колонизаторской страны, и лишний раз вносит политические
подробности в повесть. Англия, с которой еще в 1930-е гг. политические
отношения больше грозили войной, нежели союзничеством, теперь вместе с
Америкой станет мишенью, в которую Л. Лагин в новой редакции будет
метко бросать критикующие реплики героев. Однако Англия, по сравнению с
Америкой, резкой критике будет подвергаться реже. Примером этому служат
некоторые замены в тексте: если в И40 на найденной в океане мине было
написано «Made in England», то в И51 герои прочтут «Made in USA».
Критику Англии также можно обнаружить в главе «Роковая страсть
Хоттабыча», где под роковой страстью подразумевается увлечение
Хоттабыча радио. Если в И40 «Волька ловил для него Владивосток и Анкару,
Тбилиси и Лондон, Киев и Париж» (И40. С. 146), то в И51 и Анкара, и
Лондон, и Париж заменены «Ленинградом, Минском и Ташкентом» (И51. С.
259). Замены сделаны неспроста: в 1930-е гг. бедного джинна-старика за
такие дела могли бы обвинить в шпионаже.
Выпады против Америки появляются в новых главах И51, например, в
«Беспокойном вечере». На месте нее в предыдущей редакции по хронологии
была глава «Девятнадцать баранов». Многие читатели подметили в таком, на
первый взгляд, характерном для сказки превращении человека в животное,
сатиру на советских граждан, которые и без чар джинна , а только под
влиянием советской пропаганды и талантливой государственной политики
14
превратились в «стадо», которое «должно резать или стричь»16. Об этом
пишет М. Горелик в статье «Возвращение Хоттабыча»: «Но вернемся к
нашим баранам. <…> …кремлевский маг в отличие от сравнительно
добродушного Хоттабыча любил резать и получал от этого удовольствие» . 17
В 1951 г. было опасно допускать к переизданию книгу, содержащую такие
политические оплошности, и Л. Лагин убирает все, что связано с баранами.
Несмотря на «пластичность» писателя, выраженную в непротивлении
государственным требованиям относительно изменений в тексте, Л. Лагин
остается верен себе и не упускает шанса указать на недостатки и пороки
современного ему общества, маскируя это опрометчивостью Хоттабыча. В
появившейся главе «Беспокойный вечер» старик накинется на официантку,
возмутившись её обслуживанием и грозя превратить её сначала в пыль, а
потом в воробья. Недовольство качеством обслуживания в Советском Союзе
тут же сопряжено с очередным выпадом против капиталистических стран:
«Это за границей, в капиталистических странах, работники
общественного питания вынуждены выслушивать всякие грубости от
клиентов, но у нас… И вообще непонятно, чего вы повышаете голос… Если
есть жалоба, можете вежливо попросить у кассирши жалобную книгу.
Жалобная книга выдается по первому требованию…» (И51. С. 40).
Кульминацией в развитии антиамериканской линии становится
появление в СССР мистера Гарри Вандендаллеса, в имени которого узнается
автор антисоветского «плана Даллеса» Аллен Уолш Даллес. В И40 вместо
американского бизнесмена был «гражданин Хапугин, бывший частник, а
теперь помощника заведующего хозяйством кустарной артели «Красный
пух»» (И40. С. 60). Бывшего частника и американского бизнесмена, конечно,
кое-что сближает – например, жажда денег или страсть к накопительству. В
образе Хапугина Л. Лагин концентрирует все отрицательные черты, которые
Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный»: 16
Пушкин А. С. Собр. соч. Пушкина: В 10 т. Т. 2: Стихотворения 1820 ‒ 1826. Л.: 1977. С. 146.
Горелик М. Возвращение Хоттабыча // Новое время. 2004. № 31. С. 35 17
15
порождает капитализм. «Паршивый частник» ‒ так отзовется Волька о
Хапугине ‒ противостоит скромным пионерам, не придающим деньгам
никакой ценности. Когда Хоттабыч подарит Вольке мраморные дворцы, то
Волька ему ответит на это так: «В нашей стране не принято, чтобы дворцы
принадлежали частным лицам» (И40. С. 68). Этой же идеей он
руководствуется, когда отказывается от верблюдов с тюками золота: «Стать
ростовщиков! – возмущенно воскликнул Волька. – Пионер – и вдруг
ростовщик! Да знаешь ли ты, что у нас в стране уже давным-давно нет
ростовщиков?! Ты меня очень насмешил, Хоттабыч. <…> Я лучше умру, чем
буду купцом. Пионер – частник! Торговлей у нас занимаются государство и
кооперация» (И40. С. 58).
Хоттабыч, привыкший за всю свою долгую жизнь к тому, что роскошь и
богатство – это то, что каждый хочет получить, недоумевает по поводу
происходящего: «У вас очень странная и непонятная для моего разумения
страна» (И40. С. 58). В И51 Хоттабыч выскажет еще одну мысль, близкую
идеям капитализма: «Деньги – это власть, деньги – это слава, деньги – это
сколько угодно друзей! Вот что такое деньги!» (И51. С. 85). Но воспитанный
и умный Волька знает цену настоящей дружбе: «Кому нужны друзья за
деньги, слава за деньги?» (И51. С. 85)
Любопытно, что джинн, который крайне неравнодушен к богатству, как
и Хапугин с Вандендаллесом, не вызывает негативного к себе отношения,
как последние. Мистер Гарри Вандендаллес олицетворяет типичного
американца, дельца, который всю свою цель существования сводит к
накопительству и завоеванию власти. В новой редакции появляется критика
существующей в Америке расовой борьбы:
«‒ Ну, а негры могут дать белым сдачи, если им это интересно?
‒ Ф и , к а к о й г л у п ы й ш у т к а ! – р а с с е р д и л с я м и с т е р
Вандендаллес» (И51. С. 111).
16
Негативные эмоции вызывают и сыновья мистера Вандендаллеса,
которые, по его рассказу, «целый день играют в бандит и гангстер» (И51.
С. 110). После, когда американец спросит Женю, хочет ли он быть банкиром,
тот ответит, что он не сумасшедший и «у нас, слова богу, не Америка» (И51.
С. 111). Пионеры, настроенные против американского прохвоста, ни на шаг
не отступят от своих убеждений и будут проявлять крайнюю враждебность к
американцу. Против его алчности и высокомерия не устоит даже Хоттабыч.
Если все желания Хапугина сводились к тому, чтобы получить побольше
материального блага, то Вандендаллес на этом не останавливается и требует
власти, чтобы «вся Россия, весь мир должен принадлежать американскому
деловой человек!» (И51. С. 118). В уста одного американца Л. Лагин
вкладывает формулу, которая на которой зыблется вся американская"
политика – порабощение России и обретение всемирного влияния. Хоттабыч,
поиграв с самолюбием алчного Вандендаллеса, в конце концов превратит его
в «облезлую рыжую «шавку»: «Так он по сей день и проживает в своей нью
йоркской квартире в собачьем виде. Богатейшие владыки Уолл-стрита
постоянно шлют ему отборные кости с собственного стола. Раз в неделю
он выступает за это с двадцатиминутным лаем в радиопередаче «Голос
Америки» (И51. С. 201 – 202).
Еще одно поле битвы капитализма с социализмом развернется в Италии,
куда герои прилетят на поиски брата Хоттабыча. В И40 Волька, Женя и
Сережа, оказавшись в незнакомом месте, свое местоположение определяют
по знаку на пролетавшем рядом гидроплане. В том, что они в Италии, у них
не было даже сомнений. Их смутило другое. «Почему же тогда так много
людей гуляет в рабочее время по улицам и валяется на пляже? Неужели это
все прогульщики?» (И40. С. 119) ‒ спросит Женя у генуэзца. Ребята
настолько привыкли к тем порядкам, которые установлены в их стране, что
даже не догадывались, что мир может быть устроен иначе. Кроме того,
время, в которое происходят события в новой редакции, ознаменовано
Второй Мировой войной, и жизнь в Европе не могла идти спокойным и
17
мирным ходом. 1940 г. – это время, когда в Италии бушует фашизм, царит
установленный Б Муссолини тоталитарный режим. Новое руководство
страны лишило граждан многих прав и свобод, а взамен наложило на них
новые обязанности и налоги. «Крупная [рыба] пойдет утром на продажу,
чтобы нам было чем уплатить налоги синьору Муссолини. Вы, наверное,
знаете этого синьора: он все время заботится, чтобы у нас в кошельках не
валялись лишние денежки» (И40. С. 121), ‒ так простодушно расскажет
пионерам рыбак о своей нелегкой жизни. В послевоенной редакции с
рыбаков все так же будут требовать деньги, но не Муссолини, который к
тому времени уже умер, а некий министр финансов, иначе «у синьора
военного министра не будет на что покупать американское оружие» (И51. С.
176).
Новые налоги появлялись, а население в то время бедствовало и
страдало от безработицы: «По узким, грязным уличкам слонялось без дела
много взрослых мужчин и женщин» (И40. С. 118). Жене, удивившемуся тому,
как много людей слоняются без дела, противопоставлен «юный генуэзец»,
который в свою очередь удивился обратному: «А разве в Неаполе нет
безработных?» (И40. С. 119). Образ генуэзца, охарактеризованный одной
деталью, изменится в новой редакции: если в И40 это был просто мальчик,
мастеривший кораблик из фанерной коробки, то в И51 – это мальчик,
«сидевший на щербатом пороге у распахнутых дверей мрачного серого
трехэтажного дома и мастеривший из старой-престарой сигарной коробки
пароход» (И51. С. 171).
Удивило советских пионеров и то, что «никто из лежавших на пляже не
пользовался красиво раскрашенными удобными кабинками, а все
раздевались прямо на пляже и здесь же, около себя, хранили свою одежду. Не
менее удивительно было и то обстоятельство, что большинство мужчин на
пляже были давно не бриты» (И40. С. 118). В этих мужчинах угадываются
солдаты (неотъемлемый атрибут военного времени), а их одежда – это
военная форма. Находиться в фашистской Италии в 1940 г., безусловно, было
18
опасно, но пионеры к этому оказались готовы. Как только они приземлились
в Италии, Волька скомандовал: «Прежде всего снять галстуки – и в карманы
<…> …какая бы это ни была страна, можно наперед сказать, что пионерам в
ней не сладко» (И40. С. 118). Удивительно, что герои знают, где пионерам не
место, но не знают, где царит безработица и свирепствует фашизм.
В И51 происходит переадресация негативных оценок с СССР на
Америку: Л. Лагин вносит в текст приметы современности и обращает
обновленную информацию против Америки. Вместо итальянского
гидроплана над Италией появился американский самолет, но ни у кого из
ребят даже не мелькнула мысль о том, что они могут быть в Америке: «Одно
из трех, ‒ сказал Волька: ‒ мы попали или в Грецию, или в Югославию, или в
Италию» (И51. С. 169).
Вместо безработных генуэзцев в новой редакции появились
«бастующие против де Гаспери и американских крыс» (И51. С. 172). Как
известно, к 1950 г. многие страны заключили союз с Америкой, которая по
«плану Маршалла» взяла на себя обязанность обеспечить финансовую
поддержку некоторым европейским странам для восстановления экономики
после войны. Взамен этому Америка получила свободный сбыт своей
продукции, причем зачастую именно продукции, а не сырья, на рынки странсоюзников,
что благополучно оздоравливало американскую экономику. Об
этом Л. Лагин тоже не забыл упомянуть: «Пять пароходов, шедших из
Америки в Европу с оружием и яичным порошком, и три парохода,
возвращавшихся из Европы в Америку с награбленным по «плану Маршалла»
ценным сырьём…» (И51. С. 119).
Свободное пересечение итальянских границ американцами
иллюстрируется в повести еще и тем, что одновременно с ребятами в
Италию прилетает мистер Вандендаллес, которого встречают префект Генуи
и местный епископ «с тяжелым золотым крестом на жирной груди» (И51.
С. 169). В то время такое беспрепятственное проникновение в страну было
19
дозволено исключительно американцем, тогда как жители других стран
должны были иметь для этого специальный документ. Этому есть
подтверждение в тексте. В И51, когда Хоттабыч оказался в тюрьме, чтобы
спасти пострадавшего из-за него рыбака Джованни (в И40 ‒ из-за золота, а в
И51 – из-за роскошных чемоданов, в которых никогда не заканчивалась
рыба), то инспектор (в И40 – «следователь») спрашивает у джинна, есть ли у
него заграничный паспорт. Но Хоттабыч, в силу своего долгого пребывания в
бутылке и разлада с цивилизацией, не знал, что это такое. Однако и для
людей, которые были более осведомлены о текущих событиях, заграничный
паспорт тоже был новостью. Это «документ, без которого никто, кроме
американцев, не имеет права въезжать в Италию и покидать её
пределы» (И51. С. 156) ‒ разъяснил инспектор Хоттабычу значение
заграничного паспорта. В И40 место этого отрывка занимал другой вопрос:
«А дозвольте узнать, внесли ли вы налог, причитающийся с вас как с
холостяка?» (И40. С. 133). Налог на холостяка – это не смешная выдумка
Л. Лагина, а реальный факт в истории Италии. Такой налог был
действительно установлен Б. Муссолини в 1926 г. Замена и актуализация
вопроса лишний раз усиливает политический характер повести и в то же
время отражает историческую реальность.
Оставляя в стороне Америку, вернемся к Советскому Союзу, где тоже
было не все идеально. Правки, появившиеся в И51, коснулись как советской
политики, так и советского общества. Для начала отметим, что изменился
общий настрой книги. В И40 персонажи, которые встречались в эпизодах,
часто были озлобленными, подозрительными, раздраженными и
скандальными. Это легко увидеть на примере следующих отрывков текста из
глав с одинаковым названием «Один верблюд идет…»:
20
Не вся, но какая-то часть экспрессивной лексики в новом издании
заменится нейтральной. В И51 голос матери уже не будет раздраженным, и
она не станет «накидываться» на Вольку. Пропадет мотив насмехательства
над чужим горем (поэтому некого станет превращаться в баранов), более
вежливым станет обслуживающий персонал в парикмахерской, метро и
других общественным местах, глупое любопытство сменится искренним
интересом и сопереживанием.
Исчезнет описание четырнадцати мрачных домов, перемещенных
Хоттабычем за город, чтобы освободить место для возведения помпезных
дворцов. Вместо них появится волейбольная площадка рядом с которой
будут качели, турники, песочница и клумбы. Характер замены имеет не
только экспрессивно-стилистическую функцию, но и фактическую: после
войны сносить было нечего. Наоборот, нужно было в кратчайший срок
восстановить все разрушенное. Количество мраморных дворцов, которые
возведет Хоттабыч в честь Вольки, в И51 уменьшится с четырех до трех.
Интересным представляется изменение мотивации переноса за город тех
«С о б р а в ш а я с я т о л п а бы л а
настроена резко отрицательно к
нашим героям. До слуха сразу
поскучневшего Вольки доносились
отдельные малоутешительные
реплики:
‒ Ездиют тут на верблюдах… <…
>
‒ Да, сидит, собака, и шляпой
обмахивается. Прямо как довоенный
граф.
‒ Чего смотреть! В отделение – и
весь разговор».
(И40. С. 54)
«С р а з у с о б р а л а с ь т ол п а .
Раздались реплики:
‒ В первый раз вижу: в Москве –
и вдруг разъезжают на верблюдах!
<…>
‒ Не иначе, как из Зоопарка. Там
их несколько штук».
(И51. С. 79)
21
самых четырнадцати мрачных домов. В журнальной версии Хоттабыч
переносит дома за город, чтобы сохранить их для Жени Богорада, который с
грустью поведает ему об их скором сносе, чтобы расширить улицу и
построить «новый дом-дворец». За этими словами скрыт реальный факт,
когда в Москве на ул. Горького, для того, чтобы расширить улицу,
передвигали многоэтажный дом. В И40 замечание Жени Богорада о сносе
останется, и дома так же перенесутся за город, но эти два явления не будут
иметь причинно-следственной связи. Новые дворцы, построенные
Хоттабычем, в И40 находились на Первом Спасоболванском переулке, а в
И51 название их местонахождения бесследно исчезает. МКХ18 в И40, во
владение которого Волька захочет передать дворцы, в И51 изменилось в
РОНО . 19
Очереди, сопровождающие все приключения героев, нехватка товаров,
небрежное обслуживание – все эти недостатки начинают сглаживаться в
новой редакции. В И40 билеты в цирк, предварительно наколдовав,
Хоттабыч получил из кассы, потому как он «командировачный», что
спровоцировало толпу на споры и ругательства. В И50 Хоттабыч сам их
подделает, подсмотрев, как они выглядят. Новая глава в И51 «Третье
приключение в метро» явно демонстрирует положительный настрой
работников и их внимательное отношение к людям, с которыми им
приходится сталкиваться на работе: «Гражданин старичок, ‒ участливо
сказал ему дежурный, ‒ вы совершенно напрасно огорчаетесь. Сейчас будет
другой поезд, и вы чинно-благородно поедете себе к месту назначения».
(И51. С. 126) Для И40 такое доброе и вежливое общение вообще не
характерно.
В И51 исчезает «Случай в отделении милиции», и лишь небольшой
кусочек из нее будет сохранен в конце предыдущей по хронологии главы. В
Московское коммунальное хозяйство. 18
Районный отдел народного образования. 19
22
образе Васи Кочерыжкина, прозванного Ваксой оттого, что он все время
грязный, ‒ воплотился характерный для 1920 – 1930-х гг. тип беспризорника.
Не останется в новой редакции и жулика, который на теплоходе украдет
сосуд с братом Хоттабыча. Опираясь на подобные замены в повести, можно
предположить, что уровень преступности в СССР к 1950-м гг. значительно
снизился, и Л. Лагину пришлось убрать из текста устаревшие факты
действительности.
Сатира «Старика Хоттабыча», направленная против проблем советского
государства, гармонично сливается в тексте с пропагандой СССР и рекламой
его достижений. Так, например, в И51 в главе «Кто самый знатный?»
появляются имена известных советских работников и перечисляются их
заслуги:
«‒ Кто это твой Чутких? Султан?
‒ Подымай, брат, выше! Чутких – один из лучших в стране мастеров
суконной промышленности.
‒ А Лунин?
‒ Лунин – лучший паровозный машинист!
‒ А Кожедуб?
‒ Один из самых-самых лучших летчиков!
‒ А чья жена Паша Ангелина, что ты считаешь ее знатнее шейхов и
королей?
‒ Она сама по себе знатная, а не по мужу. Она знаменитая
трактористка!»
(И51. С. 218 – 219).
Надо сказать, что советские люди всегда были хорошо информированы
о всех достижениях Советского Союза. На страницах повести постоянно
мелькает газета «Пионерская правда», которая служит главным источником
информации для героев. Именно оттуда они узнают о ледоходном пароходе
23
«Ладога», там же читают о выдающихся работниках социалистического
соревнования.
Правки коснулись и глав, в которых повествуется о приключениях в
цирке. Китайский фокусник Мей Ланьч-джи, прототипом которого послужил
настоящий китайский актер Мэй Ланьфан, в новой редакции меняется на
артиста государственных цирков Афанасия Сидорелли, хотя его участь
останется той же: рассерженный Хоттабыч в обеих редакциях превратит
своих «коллег» в 72 маленьких одинаковых человечка. Куда значительнее
является исчезновение в И51 двух молодых людей, которые наблюдали за
Хоттабычем и «на этом основании они уже считали себя специалистами
циркового дела и тонкими знатоками черной и белой магии» (И40. С. 65).
Всякое отклонение от нормы в стране обязательно обрастало подозрениями и
тщательно отслеживалось. Вот и Хоттабыч попал под слежку. Исчезнет в
новой редакции и слово, которое он произнес на цирковой арене во время
колдовства – «лехододиликраскало» (Р40. С. 68). Это вообще единственный
раз, когда старик скажет что-либо во время своих чар. Лагинский неологизм
подозрительно созвучен началу иудейского литургического гимна «Леха
доди»20. Известно, что Л. Лагин был родом из еврейской семьи, что
объясняет появление в тексте такого неожиданного слова. В И51 вместо той
реплики Хоттабыч просто «выкрикнет какое-то странное и очень длинное
слово» (И51. С. 97).
После выступления к Хоттабычу будет предложено турне, но не по
СССР, Западной Европе и Северной Америке, как это было в И40, а «в
Москве и в периферийных цирках» (И51. С. 98). В условиях холодной войны
Запад перестает быть культурным ориентиром и образцом для подражания,
поэтому любая деятельность ограничивалась рамками СССР и странсоюзников
, причем без всяких сожалений по этому поводу.
Курий С. Перевоспитание джинна («Старик Хоттабыч» Л. Лагина): URL: http://www.ytime.com.ua/ 20
ru/85/4338/9/м (дата обращения: 27.05.2017).
24
Теперь обратимся к структуре повести. Старая схема «Старика
Хоттабыча» не позволяла добиться максимального эффекта от нового
материала, поэтому автору пришлось её частично трансформировать.
Помимо замен иностранных персонажей советскими и наоборот, Л. Лагин
уменьшает количество главных героев – в И51 исчезает Сережа Кружкин.
Выбросив из повести баранов, в числе которых был Сережа, Л. Лагин не
посчитал нужным написать альтернативную версию появления этого
персонажа в числе друзей Вольки. А. Ромм в рецензии отмечал, что Волька,
Женя и Сережа так похожи друг на друга, что бывает сложно вспомнить, кто
и что именно каждый из них делал. Скорее всего, Л. Лагин тоже чувствовал
слитность героев и постарался исправить этот недостаток, оставив только
Женю Богорада, характер которого существенно дорабатывался. В принципе,
из повести можно было бы убрать и Женю Богорада, а в Индию попасть
также случайно, как и в Италию. Но в этом случае нарушалась бы сама идея
пионерства, как коллективной деятельности, и потерялся бы очень важный
для детской литературы мотив дружбы и взаимовыручки. Волька с Женей
выступают на противоположном полюсе по отношению к Хоттабычу,
всячески демонстрируют правильные манеры поведения и служат образцом
для подражания любому советскому пионеру. Ребята, несмотря на свой юный
возраст, хорошо знают историю и географии, имеют представление о
политической обстановке в мире и проповедуют советскую идеологию. Тема
науки будет звучать на протяжении всей книги, а связанные с ней эпизоды
постоянно пополняться подробностями. Первое серьезное столкновение
Хоттабыча с цивилизацией произойдет в кино. Пытаясь осознать, как на
экране может происходить то же самое, что и в реальной жизни, Хоттабыч в
конце концов найдет этому объяснение: «Ну, это я всё понимаю. Это очень
просто. Все эти люди прошли сюда сквозь стену. Это я тоже умею» (И51.
С. 35). В паровозе, который появится на экране и промчится прямо на
зрителей, угадывается паровоз из короткометражки братьев Люмьер
«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Хоттабыч, не ничего не знающий о
25
достижениях в области кинематографа, видит в паровозе козни арабского
шайтана. Научно-технический прогресс превращает всемогущего джинна в
беспомощного старика, который всякий раз бросается бежать от всякого
проявления современной цивилизации. Точно так же, как и в кино, Хоттабыч
чувствует себя беззащитным и в метро, и на проезжей части города,
отскакивая от фар машин и светофоров. В конце концов Хоттабыч признает
свое бессилие перед наукой и попросит обучить его грамоте: «Так отвечай
же, не томи меня: будешь ли обучать меня наукам, которые дают каждому
человеку такую чудесную силу?» (И51. С. 205). Если в И40 научиться читать
и писать Хоттабычу предлагает Волька, то в И51 джинн сам просит об этом
пионера. Изменение источника мотивации говорит об эволюции в новой
редакции образа Хоттабыча и постепенной его адаптации к чуждому для
него миру. В И51 появляется новая глава «Новогодний визит Хоттабыча», в
которой рассказывается, как Хоттабыч решил навестить своего брата, по
глупости превратившегося в спутник. В главе проведена разница между
Хоттабычем и его злым братом, который из-за эгоизма и тщеславия
пренебрег советом Вольки и превратил свою жизнь в бессмысленное
существование. Хоттабыч, поначалу тоже возмущавшийся замечаниями
Вольки, пройдя школу воспитания Советского союза под руководством юных
пионеров, постигает преимущество знаний над магией. Превосходство науки
над волшебством достигает своей кульминации, когда Хоттабыч увлекается
радио и пытается честно устроиться на работу радистом.
В новом издании заметен еще один блок правок, следующий той же
тенденции. Иноязычные слова, периодически встречающиеся в И40, были
заменены русским аналогом. Так, например, в начале повести дворник,
которого Волька приглашает в гости на новую квартиру, в первой редакции
отвечает «мерси», а в последующей «с нашим удовольствием».
«Ассистенты» изменились в «помощников», «шпрехшталмейстер» в
«ведущего программу», «матчи» заменены «игрой», «аплодисменты»
26
«рукоплесканиями» и т.п. Такие замены вписываются в общий фон тех
изменений, которые выдерживает новая редакция.
Цель, которую преследует автор «Старика Хоттабыча» – перестановка
объекта критики и симпатии – влечет за собой изменения всех уровней
текста: от замены слов и словосочетаний, до изъятия глав и вставления
новых. В новой редакции едва ли можно найти хотя бы десяток страниц, где
нет никаких изменений. В результате кропотливой работы новое издание
«Старика Хоттабыча», несмотря на большое количество общих мест,
сходство сюжетной линии и почти одинаковую систему персонажей,
настолько отличается в идейном плане, что трудно сказать, что это все тот же
«Старик Хоттабыч», которого узнали читатели в 1940 г. Реклама советских
д о с т иже н и й, п р о п а г а н д а с о ц и а л и с т и ч е ско го с т р оя , к р и т ика
капиталистических стран и многочисленные выпады против Англии и
Америки изменили смысловую структуру повести и придали ей
политический характер.
Редакции 1954 и 1955 гг.
Рассмотренные выше две редакции «Старика Хоттабыча» были сделаны
с разницей в 10 лет. Это достаточно большой период времени, особенно если
учесть темп, с которым развивался СССР, чтобы книга 1940 г. могла
показаться устаревшей. Но какие причины заставили Л. Лагина через четыре
года вновь редактировать «Старика Хоттабыча»? Самый очевидный ответ –
это произошедшие после смерти И. В. Сталина перемены в стране. После
того, как власть перешла в руки Н. С. Хрущеву, Советский союз приобрел
новый облик. Демократизация литературы, разоблачение культа личности
Сталина, свобода слова, прекращение репрессий вызволили из заточения
фантазию и свободу писателей. Смена лидера страны потянула за собой
изменения во всех сферах общества. Следующая редакция «Старика
27
Хоттабыча», датируемая 1955 г., шла по горячим следам совершающихся
событий.
Для начала следует развести понятия редакция 1955 г. и издание 1955 г.
Относительно редакции следует сделать несколько разъясняющих
уточнений. В 1956 г. Г. Казанский экранизировал «Старика Хоттабыча», и
внимательный читатель вполне мог бы озадачиться такой экранизацией,
потому что добрая половина фильма абсолютно не совпадала с тем, что он
читал в книге. Очевидно, что пока Л. Лагин работал над сценарием, он в
очередной раз переделал повесть, отразив в ней современные реалии и
важные исторические события. Последняя редакция, появившаяся только в
1958 г., может быть датирована не позднее релиза фильма, то есть 1955 г.
Но в 1955 г. было выпущено переиздание книги, которое представляло
еще одну версию «Старика Хоттабыча». В книгу вернулись главы,
сохранившееся только в первой редакции: «Почему С. С. Пивораки сменил
фамилию» и «Чудо в милиции». Если в И51 Волька, чтобы избавиться от
бороды, сам вспоминает о «таро», то в новом издании связка событий
меняется, и даст совет воспользоваться «таро» Пивораки. Перед советом,
словоохотливый парикмахер восхищенно станет рассказывать о своей
поездке в Грузию, чего еще ни в одном издании не встречалось:
«Производится в Грузии. Прекрасная солнечная страна. Лично я просто без
ума от Грузии. Изъездил ее во время отпуска вдоль и поперек. Сухуми,
Тбилиси, Кутаиси… Нет лучшего места для отдыха! От души советую вам
на основании собственного опыта обязательно побывать в… Простите, я
несколько отклонился от темы» (И55. С. 55).
В милицию теперь приходит не беспризорник и жулик Вакса
Кочерыжкин, а хулиган Сережа Хряк. В целом, схема диалога милиционера с
хулиганами останется та же, за исключением нескольких вставленных фраз.
Грубость, с которой отвечает Сережа Хряк, и неуважение к дежурному
28
милиции, отражает изменения в воспитании подрастающего поколения и
смену взаимоотношений взрослых и детей.
Изменения коснулись и характера Вольки. Если в И51 он, как
примерный пионер, принципиально отказывается от подсказки, то теперь он
на нее, хоть и не сразу, соглашается: «Ужасно не хочется огорчать вас
отказом… Ладно, так и быть! География – это тебе не математика и не
русский язык. По математике или русскому я бы ни за что не согласился на
самую малюсенькую подсказку» (И55. С. 15). Волька соглашался на
подсказку еще в И40, но там, кроме реплики «Замечательно!» на
предложение джинна, не было никаких размышлений и самооправданий.
Женя вместо Индии будет отправлен в Аравию, в Йемен, хотя рассказ
его после возвращения ничем не будет отличаться от предыдущей редакции.
Расширена глава «Необыкновенное происшествие в кино»: теперь, до того,
как Хоттабыч признается, что он отправил Женю в рабство, читатель сам
заметит его бесследное исчезновение из кинозала.
Таким образом, уже в издании 1955 г. есть изменения, которые многие
исследователи причисляют к редакции, опубликованной в 1958 г. Новая
версия повести представляет собой контаминацию первой и второй редакций
с минимальным добавлением новых и заменой старых деталей. Отличия
переиздания от предыдущих версий указывает на очередную переработку
книги, которую, вероятнее всего, нужно датировать 1954 г. Сложнее дело
обстоит с редакцией 1955 года – она стала результатом всех трех имеющихся
версий «Старика Хоттабыча».
Сложность сопоставления всех редакций заключается именно в том, что
Л. Лагин зачастую не только дописывал что-то новое, но и возвращал старое.
В результате каждая новая редакция могла иметь следы всех предыдущих.
Опубликованный в 1958 г. «Старик Хоттабыча» увеличился до 64 глав. В
новой редакции сохранились основные тенденции изменений: актуализация
сюжета и синхронизация бытовых реалий книги с внешним миром, усиление
29
антиамериканской линии, пропаганда СССР и от ражение его
внешнеполитических отношений с другими странами.
Самым ярким новшеством И58 является ябеда Гога Пилюкин, по
прозвищу Пилюля. Л. Лагин добавляет в повесть новый отрицательный
персонаж, который по происхождению не принадлежит странам Запада,
однако во многом с ними связан. «Сплетники и ябеды – родимые пятна
капитализма» (И58. С. 162), ‒ подметит автор повести. Его первое появление
на страницах «Старика Хоттабыча» ознаменовано характерным для него
поведением: «Варвара Степановна! ‒ жалостно возопил Гога. ‒ Богорад мне
кулаком грозится» (И58. С. 55)
Введение в книгу Гоги Пилюкина повлекло за собой появление новых
глав, продолжающих новую сюжетную линию – «Глава, служащая прямым
продолжением предыдущей», «Необыкновенные события в тридцать
седьмой квартире», «Глава, в которой мы на некоторое время возвращаемся к
лающему мальчику». Лающим мальчиком Гога стал, как не сложно
догадаться, под действием чар Хоттабыча, который наказал его за склонность
к ябедничеству. Обращение Л. Лагина к этой теме свидетельствует о том, что
в СССР были распространены доносы. Кроме Пилюли появляется в повести
доктор, который догадается об истинной причине «заболевания» Гоги,
прочитав одной бессонной ночью томик арабских сказок «Тысячи и одной
ночи».
Не похож на себя в новой редакции Волька: примерный пионер, враг
жульничества и лжи теряет всякое уважение в глазах читателей. Лидер
своего класса теперь сомневается в своих знаниях и возможностях сдать
хорошо экзамен: «По географии я, честно говоря, на пятёрку не
вытяну» (И58. С. 15). Во всех предыдущих редакциях едва ли можно было
найти повод упрекнуть Вольку в честности и ответственности. В новом
издании слова его матери внесут каплю дегтя в идеальный образ ее сына:
30
«Неужели ты унизился до лжи? Я была о тебе лучшего мнения. <…> Мне
стыдно за тебя, юный пионер» (И58. С. 158 – 159).
В Хоттабыче начинают просвечиваться черты мстительного ифрита из
«Тысячи и одной ночи» и ощущаться родство с его неприятным братом
Омаром. Он стал чаще кидаться на людей и угрожать им жестоким
превращением в животного. При своем появлении из сосуда он ошарашивает
Вольку грубым упреком: «Не веришь, презренный?!» (И58. С. 13).
В каждой новой редакции, освободив джинна, Волька задает ему разные
вопросы: в И40 он примет Хоттабыча за иллюзиониста, в И51 и И55 – за
старика из домоуправления, а в И58 – из самодеятельности.
Дальнейшее знакомство двух главных героев повести наглядно
показывает, как начал реализоваться в СССР «план Даллеса»: «‒ Джин?..
Джин ‒ это, кажется, такой американский спиртной напиток?.. ‒ Не
напиток я, о пытливый отрок! ‒ снова вспылил старичок, снова
спохватился и снова взял себя в руки» (И58. С. 13 – 14).
Тема алкоголя и пьянства – не новая в повести. Еще в И40 многие
странности, происходившие в СССР из-за чар Хоттабыча, в глазах советских
жителей оправдываются их нетрезвым состоянием. То, как переносились по
воздуху многоэтажки видели только двое пьяных. Также принял за
алкогольные галлюцинации свой полет с Хоттабычем С. С. Пивораки.
Проводник, который рассказывал своему товарищу о неграх в вагонах, где
ехал Хоттабыч, тоже был не совсем трезв. В И51 Л. Лагин убрал связанные с
алкоголем комментарии и оставил только заключительные реплики о
подвыпившем проводнике. В новой редакции тема алкоголя возвращается
вместе с главой о Пивораки. В главу «Почему С. С. Пивораки переменил
фамилию» вставляется отрывок текста, в котором повествуется, как
Хоттабыч отправляется в Тбилиси за «таро» и попадает в прославленные
местные бани.
31
«‒ Скажи мне без утайки, о банщик, точно ли это те самые
прославленные тбилисские бани, о которых я слышал столь много
достойного удивления?» (И58. С. 78).
Возникновение тбилисской темы в повести символизирует
установившуюся дружбу между Грузией и СССР в 1950-е гг., а также
отсутствие в многонациональном государстве борьбы з а
самоидентификацию. Кроме Тбилиси в тексте возникают многочисленные
топонимы, не встречавшиеся раньше: Туапсе, Сочи, Адлер, Московское,
Куйбышевское и Черное море. В новой главе «Помилуй нас, о
могущественный владыка!» Волька, Женя и Хоттабыч попадают в Сочи в
санатории им. Орджоникидзе, откуда возвратятся на настоящем самолете.
Пролетая над Московским морем, Волька с гордостью скажет, что это море
делал его дядя. Необразованный Хоттабыч, считая, что только господь
способен творить моря и океаны, начнет почитать Вольку «племянником
Аллаха. Поддавшись всеобщему настрою пассажиров самолета, которые
высказывали почести дяде Вольки, и застыдившись своей неграмотности,
Хоттабыч решается попросить обучить его грамоте: «…когда они следовали с
аэродрома домой, Хоттабыч осведомился у своих юных друзей, не могут ли
они научить его грамоте, ибо он чуть не сгорел от стыда, когда ему
предложили прочитать слова «Славные творцы морей»» (И58. С. 113).
Идея могущества науки начинает доминировать в новой редакции, а
Хоттабыч чуть ли не в самой середине повести превращается в воспитанного
и грамотного советского гражданина. К магии он обращается только при
необходимости, например, наказать местных хулиганов, чиновников или
американцев.
Вводится в повесть еще один новый персонаж – учительница географии
Варвара Степановна, – которую джинн после провала Вольки на экзамене
пригрозил превратить в жабу. Варвара Степановна в И58 кроме школы
появляется еще в цирке и на «Ладоге». Образ учительницы, мелькающий в
32
начале, середине и конце повести, станет символом знаний. Хоттабыч,
постепенно обучаясь наукам, вскоре и сам признает свои подсказки ложными
(чего от него нельзя было ожидать в И40), а при встрече на теплоходе с
Варварой Степановной подарит ей цветы, тем самым отдав честь всем
учителям. Новый образ Хоттабыч всё дальше и дальше уходит от того,
который придумал Л. Лагин в 1938 г.
Снова меняется глава «О том, что приключилось с Женей Богорадом
далеко на Востоке». Дружеские отношения, установленные с Индией при
Н. С. Хрущеве, находят своё отражение в тексте. Женя Богорад, попавший на
Восток, не только не продается в рабство, но даже распевает «Катюшу» и
«Гимн демократической молодежи» с местными жителями и постоянно
повторяет лозунг советско-индийских отношений «хинди, руси – пхай,
пхай».
Все вышеперечисленные дополнения новой редакции будут полностью
или частично отражены в уже упомянутом фильме, а через два года появятся
на страницах нового издания. Расширение художественного пространства
повести, системы персонажей, изменение некоторых сюжетных линий в
конечном итоге создали еще одну новую версию «Старика Хоттабыча».
Редакция 1955 г., без привлечения промежуточной редакции 1951 г., при
сопоставлении с первым отдельным изданием производит колоссальное
впечатление и шокирует огромным количеством разночтений в сюжете. Но
имея перед глазами общую картину последовательного редактирования
повести, окажется, что большинство изменений было подготовлено
предыдущими изданиями.
Таким образом, подытоживая сравнительные анализы изданий, можно
сделать вывод, что редакций было не две, как это утверждается в различных
источниках, а четыре, которые можно датировать 1940, 1951, 1954 и 1955 гг.
Кроме этого, в работе А. Х. Омраана есть предположение, что существует
еще одна редакция 1972 г. Этот вопрос пока что не изучен.
33
Повесть «Старик Хоттабыч», как показало исследование, оказалась
очень емким произведением, которое при необходимости легко
модифицировалось. За неимением официальных доказательств сложно
утверждать, являлись ли правки давлением цензуры или же автор обновлял
повесть добровольно. Если довериться мемуарной литературе, то окажется,
что «Хоттабыча» все-таки изувечила цензура, и, по словам Н. Лагиной,
автору это стоило инфаркта. Однако, Л. Лагин не кажется писателем,
готовым бороться за каждое слово в своем произведении, что
подтверждается историей текста «Старика Хоттабыча». Он, скорее, был
«пластичным» автором и легко шел на компромиссы, чем и заслужил у
власти хорошую репутацию. Склонность к памфлетному письму позволяла
ему без особых усилий дорабатывать повесть, усиливая характерную для его
творчества критику капитализма и пропаганду советской жизни. Последняя
редакция текста, как показал анализ, подготавливалась постепенно, однако
при её сопоставлении с первым отдельным изданием ощущается резкий
контраст. После 1950-х гг. первая редакция была почти никому не известна, и
главенствующее положение занимала последняя, как самая актуальная и
современная. Первым, кто вернул читателям версию издания 1940 г., был А.
Стругацкий, посчитавший ее наиболее приемлемой ввиду отсутствия в ней
усиленной политической линии и морализаторства. Вслед за А. Стругацким,
считая первую редакцию наиболее близкой к первоначальному замыслу
автора и менее испорченной идеологией СССР, в качестве авторитетного
текста мы принимаем первую редакцию, и дальнейшие исследования
повести «Старик Хоттабыч» будем проводить на её материале.
34
«Старик Хоттабыч»: контекст
«Старик Хоттабыч» и «Медный кувшин»
О популярности «Старика Хоттабыча» в послевоенное время не стоит и
говорить: эту книжку любили все. Новая повесть-сказка пришлась по вкусу
советскому читателю, а слава джинна, очутившегося в СССР, разлетелась по
всему миру. Однако, вероятно, что, долетев до Англии, она могла вызвать
недоумение – как сильно книжка Л. Лагина напоминала английскую повесть
Ф. Анстея «Медный кувшин», написанную еще в 1900 г. Любопытно, что в
конце 1930-х гг. Л. Лагин был не единственным, кто переделывал
иностранные оригиналы. Вспомним «Золотой ключик» А. Толстого, в основу
которого положены «Приключения Пиноккио» К. Коллоди, «Волшебника
Изумрудного города» А. Волкова, идущего по стопам «Мудреца из страны
Оз» Ф. Л. Баума. Сходство «Старика Хоттабыча» и «Медного кувшина» было
отмечено сразу же после выхода отдельного издания А. Роммом,
единственным, кто отозвался тогда на книжку. Но рецензент ограничился
только наблюдением и вдаваться в подробности, в чем было это сходство, не
стал. На самом деле, перекличка обеих повестей улавливается уже с первых
строк, в которых задаются временные координаты и обозначаются главные
герои:
▪ «Медный кувшин»: «Сегодня – как раз шесть недель! Да, шесть
недель тому назад! – сказал вполголоса Гораций Вентимор и вытащил
часы. – Половина двенадцатого… Что же я делал тогда в половине
двенадцатого?»21
▪ «Старик Хоттабыч»: «В семь часов тридцать две минуты утра
весёлый солнечный зайчик проскользнул сквозь дырку в шторе и
устроился на носу ученика пятого класса Вольки Костылькова» . 22
21 Анстей Ф. Медный кувшин. М.: Северные дни, 1916. С. 5. Далее цитируется в тексте с указанием
названия и номера страницы.
22 Лагин Л. И. Старик Хоттабыч. М.-Л.: Детиздат, 1940. С. 3. Далее цитируется в тексте с указанием
названия и номера страницы.
35
Конечно, нельзя утверждать абсолютное совпадение повестей: они
отличаются и идеей, и композицией, и жанром . Однако, если их сравнить, 23
то можно отметить частичное совпадение мотивов, образов, элементов
фабулы.
В «Медном кувшине» тон произведению задает драма главного героя,
бедного и никому не известного молодого архитектора Горация Вентимора.
Он безнадежно влюблен в девушку, но не знает, как добиться её
расположения и заслужить уважение её родителей. Весь сюжет книги
посвящен тому, как выпущенный главным героем джинн попытается
исправить положение своего освободителя, тем самым принеся ему еще
больше несчастий. В «Старике Хоттабыче» видим иную картину: кроме того,
что главный герой ни в кого не влюблен, учится в школе и состоит в
пионерском отряде, в повести тема денег, карьеры и славы будет звучать
только там, где обличаются представители капиталистических стран. В этом
и заключалась вся прелесть советской переделки. Л. Лагин, поменяв героя,
изменил и идею книги. При таком условии, кажется, что может быть
одинакового в этих двух повестях?
В первую очередь, обратим внимание, что и Л. Лагин, и Ф. Анстей в
произведении упоминают сборник арабских сказок «Тысячи и одной ночи».
Но если Л. Лагин ссылается только на две сказки – «О рыбаке» и
«Волшебная лампа Алладина», – то у Ф. Анстея этот список гораздо шире. В
предисловии к «Старику Хоттабычу» автор опережает догадки читателей и
указывает на источники замысла. В «Медном кувшине», как только
появляется джинн, герои сами догадываются о его «происхождении»: «Не
думаешь ли ты, что там внутри сидит какой-нибудь гений, как в
запечатанном кувшине, которого нашел рыбак в «Арабских сказках»?» (МК.
С. 27). Чтобы получить справки о событиях, рассказанных джинном
Факрашем, Гораций прочитает «Историю Сейф-эль-Мулука и Бидии-эль
В русском издании 1916 г. жанр «Медного кувшина» обозначен как роман. 23
36
Джемаль» и «Историю Второго Царственного нищего». Кроме прямых
отсылок к сказкам «Тысячи и одной ночи» в тексте можно встретить и
непрямые: постоянные упоминания имени Сулеймана, Гарун-аль-Рашида,
Джарджариса, арабская надпись на медном кувшине и т.д. Также для
арабских сказок хорошо знаком мотив превращения человека в животное,
воплотившийся в «Медном кувшине» в нескольких вариантах: так, за своё
упрямство профессор Фютвой будет превращен в мула, а заказчик,
оклеветавший Горация, станет псом. Л. Лагин продолжает эту традицию, и
реализует её в главе «Девятнадцать баранов», которая затем бесследно
исчезнет из повести. На ее месте в поздней редакции появится новая, о Гоге
Пилюкине, который за ябедничество превратится в лающего мальчика. Оба
писателя используют один и тот же мотив, но, если Ф. Анстей делает это с
нравоучительной целью, то Л. Лагин преследует цели сатирические.
Основным связующим звеном между повестями и арабскими сказками,
безусловно, являются сами джинны. Ни Ф. Анстей, ни Л. Лагин не сделали
героем своих книжек именно того ифрита, которого выпустил рыбак в уже
упомянутой сказке – злого, неумолимого и жаждущего смерти своего
освободителя. Хоттабыч Л. Лагина – это чистая фантазия автора, не
имеющая арабского прототипа. Но в процессе дописывания «Старика
Хоттабыча» Л. Лагин реализует образ того злого ифрита и представит его как
брата старика Хоттабыча. На заимствование образа Омара из сказки «О
рыбаке» указывает почти дословная цитата монолога ифрита после
освобождения (об этом речь в следующей главе). В «Медном кувшине»
джинн Факраш по своему противоречивому характеру представляет собой
синтез фантазии самого автора и того образа ифрита, который описан в
сказке «О рыбаке»:
«При всех своих многочисленных недостатках, он всё-таки предобрый
старикашка, много лучше того джина, которого рыбак из «Арабских
сказок» нашел в своем кувшине» (МК. С. 107).
37
Появляясь из кувшина, Факраш, как и Хоттабыч, заявляет о великодушии
своего освободителя, рассказывает ему историю заточения и в знак
благодарности обещает щедро наградить. Причины, по которым Хоттабыч и
Факраш, окажутся в медных сосудах, будут отличны: в этом случае Л. Лагин
придерживался версии сказки «О рыбаке». Ф. Анстей, выбрав героем своей
повести джинна из другой сказки «Тысячи одной ночи», заимствует из
сборника и причину его заточения.
В отличие от Хоттабыча джинн Факраш не является в повести
центральным персонажем. Он появляется в сюжете неожиданно и ненадолго,
чтобы только узнать, удовлетворен ли его работой Гораций, и кроме главного
героя его больше никто не видит. Как и Волька, Гораций постоянно будет
испытывать трудности из-за джинна, чьи сюрпризы будут приносить ему
только беду и оборачиваться несчастьем для окружающих. И Гораций, и
Волька от подарков джинна будут отказываться, но мотивировки их будут
разные: если Волька борется с капиталистическими предрассудками джинна,
то Гораций принципиально против того, чтобы получить богатство и славу
задаром. Показательно, что Гораций благоприятно воспримет только одну
услугу Факраша, когда тот пришлет к нему богатого заказчика. Оба джинна,
несмотря на большие различия, имеют кое-что общее: они постоянно
обижаются на своих «повелителей», не принявших их подарки. Обиды
Хоттабыча всегда заканчивались в повести примирением героев. В «Медном
кувшине» всё наоборот: возмущение неблагодарностью Горация и
профессора будет возрастать и обернется чуть ли не катастрофой: если
профессор и заказчик отделались недолгим и унизительным превращением в
животных, то сам Гораций чуть не был убит. Оказавшись нежеланным
повелителем джинна, Гораций постепенно теряет над ним всякую власть и
становится его жертвой. Представ в самом начале безобидным, хотя и
подозрительным стариком, джинн оказывается злейшим существом, готовым
на что угодно, чего нельзя сказать о добродушном Хоттабыче, над чьим
гневом Волька никогда не терял власть. Наказания Хоттабыча, надо сказать,
38
как и Факраша, всегда очень справедливы, – джинны в арабских сказках
никогда не наказывали ради забавы. В отличие от Факраша Хоттабыч ни разу
даже не подумал за что-то отомстить Вольке, и тем более убить его (однако
образ Хоттабыча значительно изменится в последней редакции 1955 г., и
благодаря частым вспышкам гнева и непрекращающимся угрозам он всё
больше будет напоминать свой иностранный прототип). В первых редакциях
Л. Лагин не даст ни одного повода Хоттабычу злиться на Вольку. На
протяжении всей повести пионеры будут перевоспитывать джинна и обучать
наукам, что избавит их от лишних его подозрений и постоянных
недопониманий. Факраш же окажется в ловушке своего невежества, которое
превратит его в марионетку в руках Горация. Как и Хоттабыч, Факраш
боится цивилизации («Факраш сильно вздрогнул от грома проносившихся
над ними поездов и от пронзительных свистков локомотивов» (МК. С. 158))
и чувствует неспособность магии состязаться с научно-техническим
прогрессом человечества. Гораций угадал эту слабость джинна и преподнес
ему достижения современной науки как всемогущество человека над миром
природы: «…со времен великого Сулеймана мы покорили и приручили силы
природы и научили их исполнять нашу волю. Мы управляем Духами Земли,
Воздуха, Огня и Воды и заставляем их давать нам свет и тепло, передавать
нам вести, побеждать за нас наших врагов, переносить нас, куда мы
пожелаем…» (МК. С. 158).
Лорд-мэр, которого Гораций порекомендует как человека «единственного
в своем роде», кто «следит за исполнением закона, и, если в какой-нибудь
части земли случатся бедствие, он облегчает его», становится для Факраша
новым Сулейманом, власти которого он боится и могуществом которого его
шантажирует хитрый Гораций. Вспомним, что Хоттабыч в повести тоже
боялся метро, шарахался от автобусов, недоумевал, как может на стене ехать
поезд, что такое телефон и т.д. Но Волька, исполняя свой пионерский долг,
«приручает» отставшего от цивилизации старика к современному миру,
обращаясь к обману лишь в крайних случаях. Избавится от Омара, брата
39
Хоттабыча, ребятам поможет хитрость, построенная по тому же принципу,
как и уловка Горация: неосведомленный в науках джинн не догадается, что
солнце в Арктике не заходит не потому, что так захотел Волька, а потому, что
таковы законы природы.
Джинны, которые обязаны своим происхождением восточной культуре,
оказываются тесно с нею связаны. В сказке «О рыбаке» выпущенный из
сосуда ифрит будет описан, как дух, не имеющий очерченного, конкретного
облика. Факраш, как и Хоттабыч, характеризуются в повестях не как ифриты,
а как джинны, и являются героям в человеческом облике. Вероятно, что
прославленный образ Хоттабыча был навеян именно фантазией Ф. Анстея.
Сравним описания их внешности:
▪ «МК»: «…и когда дым рассеялся, то гость оказался не выше среднего
роста. Он был пожилых лет, почтенной наружности, в восточном
одеянии и в чалме темно-зеленого цвета. <…> Его густые волосы
свисали в беспорядке из-под высокой чалмы на щеки ровного, бледноревенного
цвета, седая борода падала тремя жидкими прядями, а
продолговатые узкие глаза цвета опала, были широко расставлены
слегла под углом…» (МК. С. 29 – 30).
▪ «СХ»: «…дым в комнате понемножку рассеялся, и Волька вдруг увидел,
что в комнате, кроме него, находится ещё одно живое существо. Это
был тощий старик с бородой по пояс, в роскошной шёлковой чалме, в
таком же кафтане и шароварах и необыкновенно вычурных
сафьяновых туфлях» (СХ. С. 7).
Чтобы выйти с Хоттабычем на улицу, Волька еще в самом начале
повести попросит его переодеться в что-то более современное, чтобы тот
своим видом не «бросался в глаза»: «Хоттабыч был великолепен в новой
пиджачной паре из белого полотна, украинской вышитой сорочке и твёрдой
соломенной шляпе канотье. Единственной деталью его туалета, которую
он ни за что не согласился сменить, были туфли» (СХ. С. 9).
40
В «Медном кувшине» Гораций также попросит сменить джинна свою
одежду, когда им вместе придется показаться в лондонском обществе:
«Доволен ли ты этим? – спросил джин, когда его зеленая чалма и широкая
одежда внезапно заменились обыкновенным цилиндром, фраком и брюками –
признаками современной цивилизации» (МК. С. 134).
Таким образом, оба джинна, представляющие свою культуру и заодно
олицетворяющие прошлую эпоху, оказываются вовлечены в современный
мир и подчинены его требованиям. Столкновение нового и старого, Запада и
Востока станет основной темой как «Медного кувшина», так и «Старика
Хоттабыча». Контраст двух культур ярче всего продемонстрирован в услугах
джиннов. Всё, что делают Факраш и Хоттабыч для своих «повелителей», как
правило, не являются исполнением желаний главных героев – джинны
одаривали их, исходя из своих представлений о богатстве и счастье. Услуги
Хоттабыча во многом напоминают то, что делает для Горация Факраш. И
Волька, и Гораций, сами того не желая, вдруг станут владельцами целого
каравана верблюдов. Сравним два отрывка:
▪ «МК»: «Из слабого тумана, который висел над дальней частью
площади, выдвигался караван высоких серых животных с длинными,
изящно изогнутыми шеями и жеманной походкой. <…> Один за другим
верблюды – очевидно, самые чистокровные – подогнули ноги, точно
складные скамейки, и улеглись в ряд по знаку своих вожатых, которые
теперь обратились с глубокими поклонами к окну, где стоял Вентимор»
(МК. С. 55 – 56).
▪ «СХ»: «Перед глазами Вольки предстала удивительная картина. Во
дворе было полным-полно тяжело нагруженных слонов, верблюдов и
ослов» (СХ. С. 51).
И Волька, и Гораций всё происходящее, при этом, наблюдают из окна.
Правда, Волька оказывается награжден более щедро: кроме верблюдов,
навьюченных тюками с золотом, шелками, коврами и т.д., в его владения
41
поступят еще и слоны, и ослы. Вышеприведенный фрагмент, очевидно,
позаимствован для «Старика Хоттабыча» из английской повести с
последующим дополнением. Появление верблюдов в Лондоне у дома г-жи
Рапкин, где жил Гораций, вызвали недоумение всех свидетелей этого
происшествия. Неожиданное появление экзотичных животных в СССР
спровоцирует многочисленные реплики, написанные Л. Лагиным в стиле
рассказов Зощенко: «Ездиют тут на верблюдах...» или «Эта животная
краденая».
В обеих повестях при появлении в городе верблюдов, сразу же где-то
неподалеку возникает милиционер (или полицейский), ничем не удивленный,
а лишь просто пытающийся контролировать соблюдение административных
порядков. Нескромные богатства впоследствии будут отвергнуты героями не
только потому, что в современном мире не представляют никакой ценности,
но и потому, что это могло вызвать подозрения и много вопросов.
Следующая услуга Факраша – это превращение комнат Горация в
восточный дворец, когда тот «пожаловался», что его жилище слишком
маленькое для такого количества тюков с сокровищами. Конечно, в
очередной раз услуга джинна оказалась очень своевременной: именно когда
профессор Фютвой просит Вентимора не заниматься расточительством и
подготовить скромный обед, бедный архитектор становится обладателем
нежеланного мраморного дворца: «…он увидел сводчатую восьмиугольную
переднюю с синими, красными и золотыми арабесками и богато расшитыми
драпировками; пол был мраморный, а посреди неглубокого бассейна из
алебастра бил с убаюкивающим плеском душистый фонтан» (МК. С. 71).
У Л. Лагина Волька оказался ничуть не хуже Горация. В главе
«Хоттабстрой», которая по хронологии идет раньше главы с верблюдами,
описываются четыре мраморных дворца, которые Хоттабыч воздвиг на месте
четырнадцати мрачных многоэтажных домов и преподнес Вольке в качестве
подарка: «Сейчас на их месте возвышались сверкающие громады четырёх
белых мраморных дворцов. Богатая колоннада украшала их фасады. На
42
плоских крышах зеленели роскошные сады, на клумбах алели, желтели и
синели невиданные цветы. Капельки воды, бившей из роскошных фонтанов,
играли в лучах восходящего солнца, как драгоценные камни» (СХ. С. 46).
В отличие от «Старика Хоттабыча» в «Медном кувшине» мотивировка
восточной тематики связана не только с происхождением джинна. С
Востоком связан также отец возлюбленной Горация, который увлекался
египетским искусством и старинными восточными письменами. Если Ф.
Анстей использует предметы восточной культуры, чтобы усилить конфликт
между Горацием и отца невесты, то Л. Лагин таким образом обличает
действительность. И мрачные многоэтажки, и «мраморные дворцы», за
которыми, по словам А. Х. Омраана24, зашифрованы возводившиеся
советской властью помпезные дома, – всё это характерно для Москвы 1930-х
гг.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что «Медный
кувшин», действительно, являлся источником замысла «Старика
Хоттабыча», и оказал влияние на построение фабулы и формирование стиля
произведения. Однако, нельзя сказать, что «Старик Хоттабыч» лишен
творческой оригинальности: Л. Лагин, заимствуя отдельные фабульные
элементы, полностью подчиняет их своей идее в соответствии с той
обстановкой, которая представлена в повести.
Проанализировав образы джиннов, теперь обратимся к центральным
персонажам. Вольку и Горация вопреки их совершенной противоположности
сближает одно качество – и тот и другой рассчитывают только на свои силы.
Размышляя над своими перспективами на будущее, Гораций неожиданно
прекращает эти мысли такой фразой: «Однако, ныть совершенно
бесполезно» (МК. С. 7). Точно также никогда не позволил бы себе «ныть» и
Волька – его сила воли и характера, подчеркнутые именем персонажа. Ф.
Анстей дает в повести образ самого заурядного архитектора, который «не
Омраан А. Х. Аксиологические модели авторских сказок в русской литературе конца 1930-х – 24
1960-х гг. (Лагин / Волков): автореферат диссер. Воронеж, 2012. 22 с.
43
был образцом мужской красоты» и чей талант был «выше среднего», и в
других, может быть, условиях он бы смог добиться всеобщего признания. Ф.
Анстей вычеркивает Горация из и ряда романтиков: «…он производил
впечатление человека, принимающего жизнь так, как она есть» (МК. С. 7).
Единственными причинами, которые мешали Горацию добиться успеха,
были гордость и нехватка энергии. С самого начала повести автор «Медного
кувшина» задает ориентир для героя, тем самым раскрывая ценностные
ориентиры английского общества: «…ему невесело было чувствовать, что с
каждым годом такой насильственной полупраздности он все более отстает от
прочих в погоне за богатством и славою…» (МК. С. 7). Гораций завидует
Бивору, удачному и успешному архитектору, в то время как у него самого нет
ни заказов, ни славы, ни перспектив. В «Старике Хоттабыче» Л. Лагин
вообще избегает ситуаций, где бы Волька мог кому-то позавидовать (хотя, в
поздних редакция Волька будет завидовать Пилюле, у которого есть собака).
Да и сам Волька не задан как персонаж-неудачник. Наоборот, он лидер в
своем классе, прилежный ученик, образцовый пионер. Гораций, который не
видит никакого решения своим проблемам и просто плывет по течению,
настраивает читателя на то, что должно случится чудо, которое всё изменит.
Таким образом, появление волшебной силы в «Медном кувшине» имеет
дополнительную мотивацию: она должна поправить положение Горация, и,
желательно, материальное положение, которое мешает его счастью. Вот что
он услышит от матери своей возлюбленной: «…я слышала, г. Вентимор,
ваше положение не таково, чтобы жениться в данное время» (МК. С. 25).
Оказывается, что для брака прежде всего важна финансовая состоятельность,
а потом только сам человек. Мысль о том, что Гораций не пытается изменить
свою судьбу, а подчиняется ей во всем, подтверждается его репликой в ответ
г-же Фютвой: «Но удача может прийти когда-нибудь» (МК. С. 25).
Пассивность Горация как раз доказывает то, что он не способен своими
силами добиваться успеха. Проблемы, огорчающие Горация, совершенно не
свойственны советскому пионеру – он знает, что делать и как. Он не надеется
44
на высшую силу, не надеется на чью-то помощь. В свои тринадцать лет он
каж е т с я б ол е е с ам о с т оя т е л ь ным и у в е р е н ным в с е б е , ч ем
двадцативосьмилетний Гораций. Но в пользу последнего можно засчитать то,
что он не хочет получить славу и богатство просто так, он хочет их
заслужить своим трудом, для чего, к сожалению, у него не хватает
мотивации. Именно поэтому он отказывается от денег Факраша, но с
радостью принимает подосланного им заказчика: «Вы меня поставили на
пусть к славе и богатству. Если я их не добуду, то виноват буду сам» (МК. С.
51 – 52). Волька же в повести ни в чем не нуждается, поэтому все услуги
Хоттабыча оказываются бесполезными. На примере сопоставления Вольки и
Горация лучше всего видно различие их менталитета и отношения к жизни.
Капитализм порождает несостоятельных, слабовольных людей, которые не
способны бороться даже за свое счастье. Деньги становятся визитной
карточкой человека и определяют его дальнейшую судьбу – даже будь он
гений, без денег ему ничего не светит.
Сопоставление двух повестей, английской и русской, подтверждает
наблюдения А. Ромма об их сходстве: их также много, как и различий. В
большинстве своем то, что позаимствовал Л. Лагин у Ф. Анстея, касается по
существу поэтики произведения. По идейному содержанию повести
абсолютно разные. По-другому и не могло быть – мир, в котором живет
Гораций, стал олицетворением зла для тех, с кем живет Волька. Именно
поэтому, несмотря на множественные заимствования, невозможно назвать
«Старика Хоттабыча» переделкой или подражанием. Л. Лагин создал свою
особенную повесть, которая сумела объединить восточную живописность с
московской мрачностью, соединить сказку с реальностью, примирить две
культуры, не имеющие, на первый взгляд, никаких точек соприкосновения.
45
«Старик Хоттабыч» и «Тысяча и одна ночь»
Все, кто когда-либо читал сказки «Тысячи и одной ночи», не могут не
вспомнить о них, познакомившись с Хоттабычем. Бесконечная похвала
Аллаху и Сулейману, торжественно-витиеватый стиль обращений, джины,
цари, мудрецы, золото, драгоценности – всё это воспето арабской культурой.
С «Тысячью и одной ночью» у Л. Лагина связана необычная история,
которой он поделился с читателями в автобиографическом рассказе «Тысяча
и одна ночь»25. Эта история о том, как он впервые познакомился с
настоящими писателями и видными деятелями литературы – В. Брюсовым,
В. Маяковским, Б. Шкловским – и чуть ли не стал формалистом,
исследующим повторы в сборнике арабских сказок. И если тогда, в 1920 г.
этот сборник заставил Л. Лагина усомниться в своих литературных талантах,
то двадцать лет спустя он принесет ему успех.
Об источниках замысла «Старика Хоттабыча», как уже неоднократно
говорилось, Л. Лагин написал в предисловии «От автора», опубликованном в
издании 1951 г. Опираясь на анализ предыдущей главы, понятно, что
арабские сказки были не единственным и даже не основным источником
замысла. Однако в повести и сказках также обнаруживаются общие места.
Говоря о каких-либо заимствованиях в «Старике Хоттабыче», нужно
помнить, что «Ф. Анстей при написании «Медного кувшина» также
опирался на «Тысячу и одну ночь», и какие-то повествовательные и
структурные элементы Л. Лагин мог перенимать опосредованно, через его
текст. Примером этому могут послужить совпадающие в повестях и сказках
эпизоды.
«Волшебная лампы Алладина», на которую ссылается Л. Лагин, не
имеет никаких совпадений с повестью, за исключением мотива появления
джинна из посуды (на этот раз это была лампа). Со сказкой «О рыбаке» дело
Лагин Л. Тысяча и одна ночь // Вслух про себя. М.: Дет. лит., 1978. Кн. 2. С. 184 – 203. 25
46
обстоит иначе: Л. Лагин позаимствует оттуда довольно обширный отрывок
текста. Сравним монологи сказочного ифрита и Омара Юсуфа ибн Хоттаба:
«О рыбаке» : «Знай, о рыба, что я один из джиннов-вероотступников, 26
и мы ослушались Сулеймана, сына Дауда, ‒ мир с ними обоими, ‒ я и Сахр,
джинн. И Сулейман прислал своего визаря, Асафа ибн Барахию, и он привел
меня к Сулейману насильно, в унижении, против моей воли. Он поставил
меня перед Сулейманом, и Сулейман, увидев меня, призвал против меня на
помощь Аллаха и предложил мне принять истинную веру и войти под его
власть, но я отказался. И тогда он велел принести этот кувшин и заточил
меня в нем и запечатал кувшин свинцом… и бросили меня в море. И я провел
в море сто лет и сказал в своем сердце: всякого, кто освободит меня, я
обогащу навеки. Но прошло еще сто лет, и никто меня не высвободил. И
прошла другая сотня, и я сказал: всякому, кто освободит меня, я открою
сокровища земли. Но никто не освободил меня. И надо мною прошло еще
четыреста лет, и я сказал: всякому, кто освободит меня, я исполню три
желания. Но никто не освободил меня, и тогда я разгневался сильным
гневом и сказал в душе своей: всякого, кто освободит меня сейчас, я убью и
предложу ему выбрать, какою смертью умереть» . 27
«Старик Хоттабыч»: «Знай же, о недостойный юнец, что я один из
джиннов, ослушавшихся Сулеймана ибн Дауда – мир с ними обоими! И
Сулейман прислал своего визиря Асафа ибн Барахию, и тот привёл меня
насильно, ведя меня в унижении, против моей воли. Он поставил меня перед
Сулейманом, и Сулейман, увидев меня, призвал против меня на помощь
Аллаха и предложил мне принять его веру и войти под его власть, но я
отказался. <…> Он заточил меня в этот сосуд и отдал приказ джиннам, и
они понесли меня и бросили в море. И я провёл там сто лет и сказал в своём
сердце: всякого, кто освободит меня, я обогащу навеки. Но прошло сто лет,
Тысяча и одна ночь: Рыбак // Живописное обозрение: ежемес. прилож. к ж. «Живописное 26
обозрение». 1894. № 1. С. 27 – 33, 46 – 54.
Там же. С. 30 – 31. 27
47
и никто меня не освободил. И надо мной прошло ещё четыреста лет, и я
сказал: всякому, кто освободит меня, я исполню три желания. Но никто не
освободил меня, и тогда я разгневался сильным гневом и сказал в душе своей:
всякого, кто освободит меня сейчас, я убью, предложив раньше выбрать,
какою смертью умереть» . 28
В издании 1951 г. Л. Лагин вставит в монолог потерянную в первой
редакции фразу «Всякому, кто освободит меня, я открою сокровища
земли»29. Нет никаких сомнений, что писатель держал эту книжку перед
собой, когда сочинял образ Омара ибн Хоттабыча. Первоначально для
повести была заимствована только первая часть монолога, в которой
говорится о причинах заточения, и относилась она к Хоттабычу. Затем, когда
Л. Лагин расширил фабулу, эти же слова повторит Омар, дополнив
оставшейся частью. Получившиеся повторы в повести еще больше
приблизили советскую повесть к арабским сказкам. Заметим, что при выборе
причины, по которой джинны оказались в сосудах, у Л. Лагина была
альтернативная версия, предложенная Ф. Анстеем в «Медном кувшине». Но
при условии той идеологии, которой подчинялась советская литература, тема
вероотступничества была куда благонадежней, чем намеки на заговоры
против царя. Вообще сюжет, связанный с обнаружением и освобождением
джинна из бутылки, построен только с опорой на сказку «О рыбаке». И
Волька, и рыбак находят бутылку (кувшин) с джинном в речке и не придают
ей никакого значения (Ср. Гораций свой кувшин купит на аукционе).
Повторяется обязательно и то, что горлышко имело какую-то печать, а
точнее, «печать господина Сулеймана». Даже крышку и рыбак, и Волька
одинаково открывают с помощью ножиков, предварительно соскребя печать.
Затем в арабском оригинале появляется громаднейший ифрит, не имеющий
ничего общего с очеловеченными в повестях джиннами, но разговаривает он
точь-в-точь как Омар из «Старика Хоттабыча». Дословное цитирование Л.
Лагин Л. И. Старик Хоттабыч. М.-Л.: Детиздат, 1940. С. 155. 28
Лагин Л. И. Старик Хоттабыч. М.-Л.: Детгиз, 1952. С. 253. 29
48
Лагиным речи ифрита в повести отождествляет его с Омаром, и повесть, в
этом случае, становится метаповестью. Ребята, разобравшись в чем дело,
вспомнят сказку и попытаются провести Омара точно так же, как это сделал
рыбак. Прямые переклички арабской сказки и «Старика Хоттабыча»
восстанавливают прямую взаимосвязь между текстами: Л. Лагин как будто
дописывает его путешествия, тем самым превращая «Старика Хоттабыча» в
продолжение «Тысячи и одной ночи».
Подводя итог анализу источников «Старика Хоттабыча», можно
сделать несколько выводов. Неоспоримым фактом остается утверждение, что
Л. Лагин использовал и сказки «Тысячи и одной ночи» и «Медный кувшин»
при написании повести. Но можно ли упрекать писателя в том, что его
повесть не имеет никакой ценности и является постой переделкой? Конечно,
нет. Об этом нам говорит весь проделанный анализ. Несмотря на частичные
совпадения фабул, небольшие дословные заимствования, «Старик
Хоттабыч» сохранил свою оригинальность, и в этом вся заслуга автора. Взяв
за основу известный сюжет, он обновил его новой действительностью,
новым героем, противопоставив это всё тому, что породило у него замысел
книги. Сохраняя традиции арабского фольклора, Л. Лагин создает
увлекательную советскую повесть, которая и по сей день не забыта
читателями.
49
«Старик Хоттабыч»: проблемы поэтики
Традиционно проблема редакций текста в литературоведении
исследуется в двух направлениях: текстологи пытаются установить основной
текст и количество редакций, а историки литературы заняты поисками
причин правок. Л. Лагин переписывал книгу много раз, и дело было не в том,
что у него со временем изменились взгляды на жизнь или художественноэстетические принципы. Существовали другие причины: нужно было как-то
считаться с советской идеологией, политикой государства и ходом истории. В
условиях быстрого развития страны книга десятилетней давности могла
легко попасть в число «устаревших» и восприниматься как памятник
прошлой эпохи. Однако большинство советских писателей не спешило по
такому случаю обновлять свои произведения перед каждым новым изданием.
Кому-то приходилось жертвовать своим писательским званием, чтобы только
не дать исчезнуть из произведения ни единому слову, кто-то соглашался на
исправления и своими же руками «калечил» текст, чтобы только подстроить
его под требования цензуры. «Старику Хоттабычу» в этом плане повезло
меньше всего: за его оригинальность (сохранение первоначального вида)
автор вовсе не боролся. Произведение постоянно претерпевало самые
различные изменения, то пополняясь, то уменьшаясь несколькими главами.
За неимением рукописей «Старика Хоттабыча» исследование проблемы
редакций ограничивается работой исключительно с печатными вариантами,
и восстановление основного текста, т.е. текста, сверенного с рукописным
источником и очищенного от возможных цензурных вмешательств и
издательских искажений, оказывается невозможным.
А что, если взглянуть на эту проблему с другой точки зрения, если
принять проблему редакций за сигнал того, что текст уникален и легко
поддается метаморфозам? Сам факт наличия нескольких версий «Старика
Хоттабыча», которые, несмотря на разночтения, всё же имеют общее «ядро»,
указывает на особую его структуру. Исключено, что любое произведение
всегда можно легко дополнить или сократить без искажения его основной
50
идеи. Для некоторых писателей иной раз даже замена нескольких слов
казалась настолько существенной, что изменение небольшой части
произведения было вообще немыслимым. «Старик Хоттабыч» оказался
более пластичным: трансформация произведения именно потому и была
возможной, что сам текст это позволял. На особенную структуру
произвдения указывает и данное автором его жанровое определение –
повесть-сказка30. Такая двужанровая характеристика говорит о том, что
автору для выражения своей идеи не хватало тех средств и возможностей,
который предоставлял ему один из жанров. На первый взгляд, «Старик
Хоттабыч» – типичная советская повесть. Вспомним, что изначально он был
напечатан в журнале «Пионер» и по своему содержанию полностью
соответствовал его программе: это повествование о событиях,
приключившихся с Волькой и его друзьями Женей и Сережей, политически
воспитанными и достаточно эрудированными для своего возраста
пионерами, которые, безусловно, являются образцом для подражания. В
заслугу Л. Лагину можно поставить и то, что он не сделал Вольку героемодиночкой,
хотя и характер, и даже имя юного пионера вполне это
позволяют. Автор подарил Вольке двоих друзей, за спасение которых тот
готов на любые жертвы (обратим внимание, что в книге, кроме учительницы,
мамы и бабушки отсутствуют женские персонажи). Это важно не только для
изображения темы дружбы и взаимовыручки: сама идея пионерства
предполагает коллективную деятельность, поэтому пионер не должен
геройствовать один. Однако подлинным героем повести, чье имя даст ей
заглавие, является всё-таки не Волька, а старик Хоттабыч. Как только этот
персонаж возникает на страницах книги, повесть перестает быть только
повестью: в свои права вступает сказка. Вымышленный герой-джинн,
волшебные предметы (ковер-самолет, чемодан с рыбой) и чудеса,
происходившие с главными героями, – всё это выходит за рамки реального и
соприкасается с фантастикой.
Только в журнальной версии жанр «Старика Хоттабыча» определялся как повесть. Одним из 30
объяснений этому может быть запрет в 1930-е гг. сказок вообще.
51
Чтобы попытаться понять, почему текст повести-сказки позволяет
постоянно его видоизменять, при этом не нарушая его художественной
целостности, нужно от исследования смысловой составляющей
произведения обратиться к изучению его формы и закономерностей
построения. Идея рассмотрения «Старика Хоттабыча» в таком аспекте
подсказана его жанром, который косвенно отсылает к работе В. Проппа
«Морфология волшебной сказки». Почти в самом начале работы В. Пропп
делает оговорку, что разработанная им схема волшебных сказок не работает
на сказках литературного происхождения . Учитывая это важное замечание, 31
нужно уточнить, как данная работа будет связана с исследованием В.
Проппа: с опорой на «Морфологию» повесть-сказка будет проанализирована
не столько с целью обнаружить в ней функции, организующие движение
сюжета, сколько построить аналогичную формальную схему и найти
повествовательные закономерности, объясняющие вариативность текста.
Анализ будет сделан на материале первой редакции «Старика
Хоттабыча» (1940) с привлечением примеров из других редакций. Версия
первого отдельного издания выбрана для данного анализа по следующим
причинам: во-первых, она является почти полным дублированием
журнальной версии (оригинала) с последующим расширением сюжета; вовторых,
в ней присутствуют изъятые впоследствии главы, которые как раз и
нужны, чтобы понять, почему их отсутствие не разрушает текст (в
последующих переизданиях глава «Девятнадцать баранов» и «Двое в
парикмахерской» исчезнут навсегда); в-третьих, появившиеся в первой
редакции новые главы, судя по их содержанию, написаны с целью улучшить
повесть и сделать её более интересной, нежели превратить в орудие
политического воспитания.
Анализ произведения состоит из трех частей. Первая часть охватывает
первые шестнадцать глав, которые поддаются разложению на функции и
представляют собой вполне законченную по смыслу часть книги. Вторая
Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2003. С. 23. 31
52
часть анализа опирается на следующие семнадцать глав, в которых
продолжается повествование о событиях, произошедших в Москве после
появления Хоттабыча. В третью часть включены оставшиеся главы, которые
посвящены приключениям героев в Италии и Арктике. Деление глав на три
части сделано не по тематическому, а по структурному принципу: в каждой
части строение и взаимосвязь глав имеют свои определенные
закономерности.
I
Несмотря на то, что В. Пропп допускает реализацию выработанной им
схемы только в фольклорных сказках, начало «Старика Хоттабыча» легко
раскладывается на функции.
«Сказка, – как пишет В. Пропп, – обычно начинается с некоторой
исходной ситуации. Перечисляются члены семьи, или будущий герой…»32
Исходной ситуацией, которая оставалась неизменной во всех редакциях, был
переезд семьи Костыльковых на новую квартиру. О будущем герое книги
читатели узнают с самых первых строк, а сразу за этим упоминаются и все
остальные члены семьи: родители и бабушка.
1. Один из членов семьи отлучается из дома.
После переезда Костыльковых на новую квартиру, отец Вольки уходит
на работу (при этом мать и бабушка остаются дома распаковывать вещи).
Отлучка отца играет принципиально важное значение, поскольку действие
этой и последующей функции взаимосвязаны.
2. К герою обращаются с запретом.
Повествователь сообщает, что Волька захотел сбегать на речку,
«правда, отец предупредил, чтобы Волька без него не смел ходить
купаться…»33 Учитывая, что время года в повести – лето, а Волька, как мы
Там же: С. 26. 32
Лагин Л. И. Старик Хоттабыч. М.-Л.: Детиздат, 1940. С. 6. 33
53
потом узнаем, – один из лучших ныряльщиков, желание искупаться кажется
совершенно естественным для героя и не обязательно должно
предупреждаться родительским запретом. В данном случае можно наблюдать
автоматическое применение сказочной структуры, когда действие,
характеризующееся в развитии сюжета как поворотное, должно быть
предупреждено взрослыми.
3. Запрет нарушается.
«Просто удивительно, как Волька умел всегда придумывать
оправдание, когда ему хотелось нарушить обещание, данное родителям» , – 34
сообщает повествователь. Надо заметить, что нарушение запрета важно не
только для развития сюжета, но для создания образа Вольки: именно так он
становится правдоподобнее, а поведение более естественно для его возраста.
Функция также включает в себя появление героя-антагониста, который будет
причинять вред остальным действующим лицам. Эту роль в повести-сказке
получит Хоттабыч, который появится благодаря нарушению Волькой
запрета. В отличие от волшебных сказок, где антагонист однозначно
отрицательный герой, старик Хоттабыч совместит в себе сразу две роли: он и
вредитель, и даритель одновременно. Этот парадокс даст основу для
разворачивания сюжета: совершаемые Хоттабычем действия, которые
обернутся для всех катастрофой, всегда имеют положительную мотивировку.
Двоякость джинна тесна связана с замыслом произведения. Сталкивая героев
разных культур, Лагин пытается показать относительность и изменчивость
ценностных ориентиров в разные периоды человеческого существования.
4-5. Антагонист пытается произвести разведку. Антагонисту даются
сведения о его жертве.
Появление Хоттабыча сопровождается представлением себя самого и
последующим обращением к Вольке с вопросом кто он такой и нет ли у него
какой беды. Волька сообщает джинну свое имя-отчество и признается, что он
Там же. 34
54
не совсем готов к экзамену по географии. Формально развитие сюжета
произведения соответствует модели волшебной сказки с той оговоркой, что
антагонист ненастоящий и «разведка» сделана не со злым умыслом.
6-7. Антагонист пытается обмануть жертву, чтобы овладеть ею или её
имуществом. Жертва поддается обману и тем невольно помогает врагу.
В. Пропп поясняет эту функцию так: «Прежде всего антагонист или
вредитель принимает чужой облик… <…> Затем следует сама функция: 1)
<…>, 2) Он действует непосредственно применением волшебных средств» . 35
Данная функция реализована в повести-сказке неполноценно. Хоттабыч
предлагает Вольке подсказку на экзамене, обещая ему несомненный успех в
испытании (в первых редакциях Волька соглашается сразу же, а в более
поздних – Хоттабычу приходится его уговаривать). Интересно, что элемент
«принятия чужого облика» тут тоже присутствует: Хоттабыч по требованию
Вольки переодевается в современную одежду, оставляя на себе лишь
незаменимые для него туфли.
8. Антагонист наносит одному из членов семьи ущерб (вредительство).
В главе «Испытание по географии» Волька остается обманутым:
помощь Хоттабыча не только не принесла ему пользы, но очень сильно
навредила. Мораль здесь вполне бытовая: автор осуждает подсказки,
способствующие поощрению незнания предмета. Хоттабыч, который
выступает в данном случае антагонистом, совершает целый ряд
«вредительств». После экзамена, когда герои пойдут в кино, Хоттабыч
наколдует Вольке бороду, которая станет мотивировкой похода в
парикмахерскую. Главы, повествующие об этих событиях, имеют в повести
большую важность: происходит расслоение сюжетной линии. Хоттабыч
наносит вред не только Вольке, но и его друзьям – Жене (в кино) и Сереже (в
парикмахерской). «Ссылка» Жени в рабовладельческую Индию станет
отдельной сюжетной линией, которая в первой редакции будет обозначена
Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2003. С. 30. 35
55
только пунктиром. В позднейших редакциях рассказ о путешествии Жени на
Восток превратится в отдельную самостоятельную главу. Другое ответвление
сюжетной линии связано с превращением Сережи в барана и угоном его в
исследовательский институт. В редакции 1951 г. Л. Лагин вообще уберет
главы «Вдвоем в парикмахерской» и «Девятнадцать баранов», в связи с чем
исчезнет из повествования и Сережа. Как уже было сказано, эпизод с
баранами будет навсегда исключен из последующих изданий. Исчезновение
из книги Сережи не сильно отразится на повести-сказке: кроме
запоминающегося превращения в животного, в книге он не имел особых
отличительных характеристик и часто вторил главным героям, поэтому после
изъятия эпизода с баранами этот персонаж оказался абсолютно ненужным.
Отсутствие главы также не нарушает повествования по причине её
второстепенного значения в движении сюжета.
Прежде, чем перейти к следующей функции, требуется сделать
комментарий относительно идущей по хронологии главы «Почему
С. С. Пивораки переменил фамилию», которая никак с функцией не связана.
Новый персонаж, некий С. С. Пивораки, появляется в повести-сказке для
того, чтобы побрить Вольке бороду, т.е. избавить героя от причиненного ему
вреда. Однако, бритье не играет в книге функцию ликвидации вредительства,
потому как борода все равно отрастет на следующее утро. В редакции 1951 г.
эта глава будет пропущена, но опять же, без особого ущерба повествованию,
так как играет второстепенную роль. По этой причине Лагин меняет
связующий элемент: Вольке больше не понадобится «брадобрей», потому
что он вспомнит, что у отца есть «таро». Функционирование главы и её
временное отсутствие наталкивают на мысль, что персонаж С. С. Пивораки
(имеющий две слабости – к пиву с раками и много разговаривать) придуман
автором с целью высмеять подобный тип людей. Глава приобретает скорее
обличительное, а не сюжетообразующее значение.
9. Беда или недостача сообщается, к герою обращаются с просьбой или
приказанием, отсылают или отпускают его.
56
Следующие главы условно делятся на два блока. Сначала сообщается о
пропаже Жени (глава «Интервью с легким водолазом») и сюжет продолжает
развиваться по схеме волшебных сказок, затем таким же образом решается
проблема исчезновения Сережи.
10-11. Искатель соглашается или решается на противодействие. Герой
покидает дом.
После того, как Волька узнает, что пропажа Женьки связана с
колдовством Хоттабыча, он немедленно собирается спасти друга. Хоттабыч и
Волька покидают дом и улетают в Индию. Так как антагонист в повестисказке фиктивный
и, более того, он служит своей «жертве», то функции 12 и
13 (испытание героя, которое подготовляет его к получению волшебного
средства или помощника) в тексте не реализуются. Начиная с поисков Жени
и Сережи Хоттабыч превращается из антагониста в помощника-дарителя.
14-15. В распоряжение героя попадает волшебное средство. Герой
переносится, доставляется или приводится к месту нахождения предмета
поисков.
Для того, чтобы добраться до далекой Индии, Хоттабыч предлагает
воспользоваться волшебным ковром-самолетом, который в тексте
обыгрывается, как вещь, неспособная в современном мире конкурировать с
достижениями техники. Герои летят медленно и при этом испытывают
ужасный холод. Конечно, сказочный ковер-самолет в современном мире, где
уже есть настоящие самолеты, не является никаким чудом. В поздней
редакции Л. Лагин реализует эту идею в следующей за рассказом о
восточных приключениях Жени главе, где герои будут возвращаться в
Москву из Сочи на реальном самолете. До Индии герои не долетят, потому
что Хоттабыч вовремя вспомнит, как расколдовать Женю. О событиях,
произошедших в самой Индии, мы узнаем только в поздних редакциях:
маленький комментарий автора о достойном поведении на Востоке будет
изменен в отдельную главу.
57
*Функции 16, 17, 18, где происходит бой между героем и
антагонистом, в повести-сказке не нашли своего отражения.
19-20. Начальная беда или недостача ликвидируются. Герой
возвращается.
В одно мгновение после того, как Хоттабыч вызволил Женю из
рабства, происходит знакомство героев. Сразу же после этого следует глава
«Опять всё хорошо», которая служит развязкой истории с баранами. Как
только Волька узнает о том, что в пропаже Сережи снова виноват Хоттабыч,
он требует вернуть его. Таким образом, беда, случившаяся со всеми героями,
ликвидируется. Все вышеперечисленные главы, за исключением
оговоренных двух, будут сохранены в последующих изданиях. Изъятые из
текста эпизоды представляют собой побочное развитие сюжета и имеют
дополнительную обличительную функцию, что становится основной
причиной такого свободного с ними обращения автора. Оставшиеся главы
представляют собой стержень произведения, поэтому, если и изменялись, то,
в основном, благодаря добавлению, а не сокращению информации. После
главы «Опять все хорошо», которая становится чем-то вроде счастливого
конца, можно бы было поставить точку и этим закончить повесть-сказку.
Таким образом, нефольклорная происхождение «Старика Хоттабыча» не
отменяет в нем законов построения волшебных сказок. В повести-сказке
реализована большая часть функций без нарушения их последовательности.
Но на этом Л. Лагин не остановился и придумал продолжение, которое в
равной степени объединило черты как сказки, так и повести. Главы второй
части анализа строятся по иной выработанной схеме, которая выявляется
благодаря повторяемости и закономерности функционирования.
II
Переломный момент, характеризующийся уходом от пропповской
модели построения сказки к другой, более свободной схеме, приходится на
главу «Будьте знакомы». Действие начинается на следующее утро после
58
случившихся событий, описанных выше. Волька собирает всех своих друзей
и знакомит друг с другом. Теперь тайна одного героя становится тайной
общей, а роль главного героя разделяется между приятелями. Но
коллективные походы в цирк и на футбол, совместные путешествия в
Италию и Арктику начнутся не сразу: основным действующим лицом
нескольких последующих глав по-прежнему останутся Волька и Хоттабыч.
Джинн продолжает играть двойную роль антагониста-дарителя, от благих
намерений которого страдают окружающие. В числе жертв оказываются как
главный герой, так и эпизодические персонажи. Анализ следующих глав
требует сделать замечание: во-первых, выделяются отдельные эпизоды,
граница между которыми не всегда совпадает с графическим делением
текста на главы; во-вторых, эпизоды обладают общей закономерностью
построения, благодаря чему, теоретически, повесть-сказку можно
продолжать до бесконечности.
Схема построения эпизодов : 36
1. Мотивировка.
Каждому событию, которое случается с героями, как правило,
предшествует либо просьба, либо произнесенные вслух без особой цели
сожаления, желания, восхищения и т.п. Действия Хоттабыча почти никогда
не происходят по его инициативе: обычно они провоцируются чужой речью,
неправильно понятой джинном.
Так, например, начинается эпизод с подаренными Вольке дворцами.
После знакомства ребят с джинном наступает пауза, а затем Женька с
грустью сообщает друзьям о том, что их дом собираются сносить. Никаких
других целей, кроме как поделиться новостью с товарищами, Женя,
очевидно, не преследует.
2. Вредительство Хоттабыча.
Эпизодом обозначается событие, которое охватывает все нижеперечисленные пункты действий. 36
59
Услышанное Хоттабычем, как правило, воспринимается не в том
прямом смысле, который подразумевается. Это порождает у него желание
помочь героям, удивить их, наградить и т.д. Все сюрпризы Хоттабыча или
оборачиваются для других бедой, или оказываются вовсе не нужными. По
этой причине кто-то из героев, главных или второстепенных, обязательно
страдает.
Таким образом, сообщение Жени о сносе домов становится
мотивировкой к действию Хоттабыча: он переносит четырнадцать
многоэтажных домов куда-то за город, а вместо них возводит четыре
роскошных дворца (глава «Хоттабстрой»). В числе пострадавших в этом
эпизоде оказывается Николай Никандрович Богорад, олицетворяющий всех
остальных жителей домов. Очевидцами происходящего, которые отделались
от «вредительства» Хоттабыча только удивлением, оказались два
подвыпивших гражданина. Вообще, мотив опьянения встречается в повестисказке
неоднократно и выполняет одну и ту же функцию – через него в
бытовую повесть встраиваются чудеса, изображаемые с точки зрения
обычных, ничего не знающих о джинне, людей.
3. Информирование о вредительстве (факультативно).
Обычно о том, что «натворил» Хоттабыч, герои узнают от него же
самого, в исключительных случаях они догадываются сами. Этот пункт не
играет большой роли в движении сюжета, поэтому основанием для
выделения является его регулярная повторяемость. «Донос» на самого себя
получается потому, что джинн постоянно ждет благодарности за свою
щедрость и похвалы за искусство владения магией. Однако, всё, что он
делает, приносит окружающим только хлопоты.
В главе «Хоттабстрой» этот пункт представлен следующим образом:
Хоттабыч в четыре часа утра будит спящего Вольку, чтобы показать ему
мраморные дворцы.
4. Испытание героя.
60
Испытанием является переживание ситуации, в которую попал герой из за колдовства
джинна. Именно она раскрывает сущность персонажа, его
отношение к материальному благу, к людям, обнажает его слабости и
пороки. Для джинна, прибывшего из прошлого, наивысшей ценностью
является богатство, поэтому всё его щедрые вознаграждения связаны с
золотом, драгоценностями, дорогими тканями и пр. Получая такие подарки в
стране, где повсюду звучат лозунги «Долой капиталистов-эксплуататоров!»,
можно ненароком стать врагом народа. Поэтому для Вольки каждый новый
сюрприз Хоттабыча становится настоящим испытанием, которое он,
отказываясь от всего, успешно проходит.
Волька не просто не принимает подарок Хоттабыча, но и проводит с
ним воспитательную работу: «Видишь ли, в нашей стране не принято, чтобы
дворцы принадлежали частным лицам. Пусть эти дворцы принадлежат МКХ
(Московское коммунальное хозяйство)» . 37
5. Отмена вредительства.
Под отменой вредительства подразумевается просьба или приказ
Хоттабычу прекратить действия колдовства. Если испытывается Волька, то
он обычно сам отказывается от услуг Хоттабыча, если испытываются другие,
то приказ об отмене «вредительства» поступает от Вольки. Сам Хоттабыч
никогда не пытается лишить других того, что он подарил или сделал для них,
если только его подарки не являются намеренным издевательством (как,
например, с гражданином Хапугиным).
«Зачем они мне – эти дворцы? Что я – учреждение какое-то?» , – так 38
Волька отказывается от щедрого подарка старика.
6. Ликвидация вредительства.
Лагин Л. И. Старик Хоттабыч. М.-Л.: Детиздат, 1940. С. 48. 37
Там же. С. 49. 38
61
После отмены обычно следует восстановление той прежней ситуации,
которая была до совершения вредительства. Иногда ликвидация
сопровождается колдовством, чтобы пострадавшие забыли о произошедшем.
Глава «Хоттабстрой» заканчивается тем, что дворцы растворяются в воздухе,
а многоэтажки переносятся обратно. Так как свидетели этого странного
происшествия были пьяны, а пострадавший отец Жени Богорада еще не
успел выйти на улицу и выяснить, что произошло, то Хоттабычу не
пришлось стирать из памяти героев это удивительное происшествие.
7. Использование вредительства (факультативно).
Пункт факультативный, потому что используется не во всех эпизодах, но
встречается многократно. Для полноценной пропаганды СССР Л. Лагин дает
героям возможность найти подаркам Хоттабыча применение на благо всему
обществу.
На следующий день после того, как Волька чуть не стал обладателем
мраморных дворцов, он поделится с Хоттабычем мыслью, что нужно было
от них не отказываться, а передать государству.
***
На примерах был разобран один эпизод, в котором рассказывается о том,
как Волька чуть не стал обладателем частной собственности. Обратимся к
следующим по хронологии эпизодам.
1) Эпизод с верблюдами
Глава «Кто самый богатый», с которой начинается следующий эпизод,
строится по той же схеме. Связующим звеном между эпизодами выступает
мотив обиды Хоттабыча на Вольку, который многократно встречается в
тексте и выполняет одну функцию. Новый эпизод начинается с примирения
героев, после чего они дружно идут на улицу прогуляться. Мотивировка к
очередному вредительству Хоттабыча дается через слова самого Хоттабыча,
который якобы очень возмущен тем, как с Волькой разговаривают его друзья:
62
они не ровня «богатейшему из богачей». После этого происходит само
«вредительство», о котором джинн лично уведомляет своего «повелителя»:
«Смотри и убеждайся в правоте моих слов!»39 После этих слов Волька видит
караван верблюдов, увешанных мешками с золотом и другими драгоценными
вещами. Неожиданное превращение в обладателя бесчисленных богатств
становится для Вольки настоящим испытанием. Первая и самая важная
проверка, – не поддаться искушению даров Хоттабыча, – юным пионером
пройдена успешно. Он не только не захотел стать обладателем каравана, но
даже испугался мысли о том, что его могут назвать рабовладельцем. Другое
испытание – что делать с верблюдами в центре Москвы и как не вызвать
лишних подозрений – закончилось безуспешно. Л. Лагин специально
использует такую ситуацию, чтобы показать, как современные ему советские
жители реагируют на то, чего никогда не видели. Затруднено движение на
дороге, толпа зевак недоуменно выкрикивает реплики в сторону, милиционер
пытается выяснить, чьи верблюды, а Волька устами Хоттабыча хамит
милиционеру – так описывает автор создавшуюся благодаря подаркам
Хоттабыча атмосферу. Прекращается этот балаган по требованию Вольки,
после чего на улицах Москвы снова воцаряется порядок. Но на этом эпизод
не оканчивается: золото, которое несли на себе верблюды, на следующий
день будет сдано Волькой в отделение Госбанка.
Переходным элементом к следующему эпизоду опять является мотив
обиды: Хоттабыч остается недоволен тем, как распорядились с его
подарками. После очередного примирения, Волька предлагает сходить в
цирк.
2) Эпизод в цирке
Герои попадают в цирк без труда, потому что Хоттабыч, хоть и через
кассу, достает бесплатные билеты. Конечно, со своими возможностями
джинн мог бы просто подделать билеты сам или провести друзей в цирк
Там же. С. 51. 39
63
незаметно. Однако Л. Лагин отказывается от такого простого хода, и
заставляет Хоттабыча жить по современным законам, благодаря чему
становится возможным отразить в книге современные бытовые реалии (как,
например, огромная очередь у кассы). Центральное место в главе «Старик
Хоттабыч и Мей Ланьчжи» занимает представление, которое устроит на
арене старый джинн. Это первое его «вредительство», которое никак не
связано с материальными ценностями, и, в данном случае, оно не служит
основной цели повести-сказки – противопоставить идеологию советского и
капиталистического государства. Мотивацией к выступлению стало
неприятие Хоттабычем того, что фокусник развлекает зрителей обманом.
Будучи настоящим волшебником, он не в силах видеть, как настоящее
искусство магии подменяется фальшью, и выходит на арену с криками «Это
никакие не чудеса!» . Фокусы джинна оборачиваются для зрителей 40
кошмаром: превращение иллюзиониста в семьдесят два маленьких, похожих
на него, человечка, оркестра в маленькую горошину, которую можно
положить в ухо, бесследное исчезновение под пиджаком у Хоттабыча
«знатоков черной и белой магии»41, растворение зрителей, взлетевших под
купол и т.д. Спасает всех повелитель могучего джинна Волька, который не
просто потребовал вернуть всё как было, а бросил Хоттабычу вызов, будто
бы ему это не под силу. Не разгадав хитрого замысла пионера, старик
Хоттабыч поддается на провокацию и расколдовывает несчастных
участников своего шоу. В этом же эпизоде реализуется и последний пункт
схемы: после выступления управляющий госцирка просит невероятно
талантливого Хоттабыча остаться работать у них иллюзионистом.
3) Эпизод с футболом
По такой же схеме строится эпизод с футболом, который, в отличие от
других, не связан с политикой и идеологией СССР. В основу конфликта легла
Там же. С. 64. 40
Там же. С. 65 – 66. 41
64
эстетическая причина: Хоттабыч и Волька окажутся болельщиками разных
команд. Джинн, всячески помогая «Шайбе», доводит ситуацию до абсурда:
начинают двигаться ворота, с неба падают мячи и т.д. Его «помощь»
оборачивается громким проигрышем «Зубила» и огорчением их
болельщиков. Волька, распознавший виновника событий, во имя
справедливости требует от Хоттабыча «честной игры». Впервые в повестисказке
встречается ситуация, когда Волька сам просит джинна об услуге, но
тот отказывается её исполнять. Такое неожиданное поведение Хоттабыча
раскрывает характер джинна с другой стороны: все его услуги обусловлены
исключительно его предпочтениями. А так как сознание, привычки и
система ценностей у джинна принадлежат эпохе трех тысячелетней
давности, то всякое его действие оборачивается «вредительством».
Заканчивается эпизод тем, что произошедшее на поле недоразумение
находит свое логическое оправдание, т.е. «вредительство» ликвидируется.
Теперь Волька остается обиженным на старика. Их примирению посвящена
заключительная глава «Примирение».
Как мы видим, эпизоды, связанные с необычными происшествиями
Хоттабыча и его друзей, имеют некую закономерность построения.
Основные пункты «вредительство» – «испытание» – «отмена» –
«ликвидация» – это то, без чего эпизод не может существовать. Наполнение
готовой схемы может быть самым различным. Пропуски между действиями,
о б о значенными п ункт ами, зап олняют ся ра звлекательный или
воспитательный информацией. Поэтому замены Л. Лагиным имен
персонажей, различных подробностей (три дворца вместо четырех,
Сидорелли вместо Мэй Ланьчжи и т.д.) не разрушают смысловой и
композиционной целостности произведения, однако отражают зависимость
книги от существующей в стране идеологии. Связь между эпизодами может
легко варьироваться, переделываться в нужном направлении: если убирался
какой-либо эпизод, то переходный «мостик» просто становился длиннее.
Переход от одного эпизода к другому имеет модель «обиды-примирения»
65
героев, и регулярность его повторения указывает на механический характер
связующего элемента: он не имеет никакой смысловой нагрузки, а выполняет
исключительно соединительную функцию.
Останавливая внимание на эпизодических переходах, нужно сделать
оговорку, что эпизоды о верблюдах и футболе разделены несколькими
главами, которые не укладываются в вышеизложенную схему. Одна глава
является последствием похода в цирк, где Хоттабыч объелся мороженым и
заболел. Это недоразумение оказывает существенное влияние на роль
джинна. Она меняется: Хоттабыч-антагонист превращается в жертву.
Поверженный лихорадкой, он лишается своих магических свойств и
перестает быть как вредителем, так и дарителем. Хоттабыч продолжает
выступать в роли жертвы и после выздоровления. Это относится к трем
главам, связанным с гражданином Хапугиным, которого изначально джинн
воспримет за своего повелителя. Главы построены зеркально: сначала
Хоттабыч бегает за высокомерным Хапугиным и выпрашивает у него кольцо,
затем Хапугин пытается отнять свое добро обратно. Тут же появляется
отсылка к сказкам «Тысячи и одной ночи», которые проясняют Хапугину
ситуацию и меняют расстановку героев. Только после получения кольца,
хотя и ненастоящего, Хоттабыч снова приобретает статус антагониста.
Вернув свои способности, он испытает их на Хапугине, наказывая за его
жадность. Это первый случай, когда «вредительство» Хоттабыча имеет
воспитательный характер и не ликвидируется.
Второй такой случай связан с наказанием беспризорника Ваксы
Кочерыжкина, о котором Хоттабыч узнаёт со слов Вольки. В книге опущены
подробности встречи. События произошли как бы «за кулисами», а в
повествовании мы узнает только об их последствиях: Хоттабыч заколдовал
хулиганов. При этом в главе «В отделении милиции» главные герои
отсутствуют, а о Хоттабыче мы лишь можем догадываться со слов
пострадавших. Джинн снова использует колдовство в воспитательных целях,
66
и Волька, который обычно пытается укротить старика, в этот раз ему не
препятствует.
III
Условно выделенная третья часть «Старика Хоттабыча» включает в
себя главы о приключениях героев за пределами Москвы. Это главы о
путешествии в Италию и поездке в Арктику, которые, по сравнению с
журнальной версией, в первом отдельном издании были абсолютно новыми.
В поздних редакциях изменения коснутся их меньше всего. Фактически,
главы представляют собой продолжение приключений героев со сменой
места действий. Полеты за границу понадобились автору, чтобы
локализовать действия книги в реальном мире, который не ограничивался
рамками СССР, ввести московские приключения героев в общий фон
истории и, в очередной раз, акцентировать внимание на преимуществе
советского государства.
Предлогом к путешествию становится тоска Хоттабыча по своему
брату Омару, который, как мы узнаем из начала книги, тоже был заточен в
кувшин. Однако мотивировка здесь опять довольно механическая: она
просто позволяет продолжить повествование. Если бы изначально основной
целью Хоттабыча являлось спасение брата, он бы сразу после освобождения
этим занялся. Однако джинн вовсе не тосковал по Омару, а весело разгуливал
с Волькой по Москве. Использование мотивировки поисков брата дает
автору широкий простор для творческой фантазии. Теперь он может увезти
героев хоть на край света и продолжать чередовать истории о приключениях,
пока не решит, что героям пора отыскать заветную бутылку. Что и
происходит в повести-сказке. Л. Лагин решил для поисков выбрать
фашистскую Италию и легендарную Арктику, являвшиеся в конце 30-х гг. в
центре новостей журнала «Пионер». «Немосковские» приключения
распадаются на две части, между которыми герои ненадолго вернутся домой,
чтобы Волька пересдал экзамен.
67
В первом случае, чтобы добраться до солнечной Италии, герои
используют волшебные средства. Сначала Хоттабыч предоставляет
парусник, после его крушения – ковер-самолет, затем ковер-гидросамолет.
Особняком в повести-сказке стоит глава, в которой рассказывается о том, как
герои ехали в поезде Москва — Одесса. Повествование ведется от лица
проводника, который не посвящен в тайну и не знает, что перед ним джинн.
Смена точки зрения позволяет по-новому увидеть то, к чему читатель уже
успел привыкнуть. Чудеса, свидетелем которых стал проводник, в
повествовании оправдываются его нетрезвым состоянием.
В итальянском путешествии присутствует сюжет, который строится по
разобранной выше схеме с небольшими трансформациями. Это сюжет о
бедном рыбаке Джованни. Хоттабыч, который узнает от Вольки, что рыбаки,
накормившие их во время его отсутствия, очень бедны, решает щедро их за
это отблагодарить. Так как герои теперь в капиталистической стране, то
подаренное золото не кажется совершенно неподходящим подарком. Более
того, получение подарка не сопровождается назидательными
комментариями. Но, как обычно, вознаграждение джинна оборачивается
бедой для получателя. Джованни идет в ювелирный магазин, чтобы обменять
золото на деньги. Там на него падает подозрение в сокрытии имущества от
государства и специальные люди уводят в «здание тайной полиции».
Повествование прерывается сменой места действия и возвращением к
поискам Хоттабыча, который в это время плавает в море и находит бомбу.
Два плана повествования соединяются, когда Джованни заметил и окликнул
возвращавшегося домой Хоттабыча. Отменяет «вредительство» сам
Хоттабыч, который впервые замечает, как его щедрость обернулось
настоящим несчастьем. Привыкший к перевоспитанию обидчиков с
помощью колдовства, Хоттабыч устраивает в отделении полиции буффонаду,
в которой начальники бьют друг друга дубинками.
Главы о путешествии в Арктику начинаются с очередного
вмешательства Хоттабыча в установленные порядки. Если бы это была
68
«чистая» сказка, то героям, очевидно, вообще бы не пришлось вспоминать,
что на ледокольный пароход нужно доставать билеты – они бы просто
очутились на нем. Но Л. Лагин раз за разом заставляет джинна почувствовать
себя в стране своим человеком и жить по правилам, установленным в
обществе. Этот прием имеет не только развлекательную функцию, но и
изобразительную – так автор вставляет в канву произведения реальные
признаки своей эпохи. Не справившись с задачей официальным путем,
Хоттабыч по привычке обращается к магии, и герои беспрепятственно
попадают на ледокольный пароход «Ладога». Главы «Что мешает спать?» и
«Риф или не риф?» разворачиваются по схеме «мотивировка» –
«вредительство» – «отмена» – «ликвидация». Центральное место последних
глав занимают интеллектуальные состязания между пионерами и Омаром
Юсуфом, братом Хоттабыча. Л. Лагин, используя сюжет арабской сказки «О
рыбаке», трансформирует его, тем самым дописывая продолжение
легендарной истории джинна. Попытка Жени укротить гневного Омара
проверенным способом, как это давным-давно сделал рыбак, заканчивается
тем, что злопамятный джинн вспоминает свою оплошность и разоблачает
Женю. Отсылки к претекстам воздействуют на читателей таким образом, что
они начинают верить в существование джинна. Более того, знание героями
арабских сказок обретает конвенциональное значение: и действующие
персонажи, и читатель оказываются в равных условиях, потому что читатель,
в этом случае, знает не больше героев произведения. Омар в повести-сказке
воплощает собой настоящего антагониста, который причиняет героям вред.
По канону сказки герои занимаются поисками похищенной антагонистом
жертвы. В данном случае найденная жертва сама оказывается антагонистом
и наказывает своих спасителей. Как и Хоттабыч, Омар совмещает в себе две
противоположные роли. Так как он воплощает в себе абсолютное зло и
постоянно угрожает героям смертью, то с ним не приходится вести беседы
политического характера. Противодействием силе джинна становятся
научные познания героев. Пропаганда науки звучит на протяжении всей
69
книги и реализуется благодаря регулярным столкновениям отставшего от
современности Хоттабыча с изобретениями техники. Высшей точкой
сопротивления магии и науки становятся спор Вольки и Омара, в котором
последний терпит поражение. Так наука побеждает в книге магию, и сама
превращается в нечто вроде магии. Научная тема также будет звучать и в
последней главе, и эпилоге «Старика Хоттабыча», где автор расскажет, что
старый джинн страстно увлекся радио и захотел стать радистом.
Подводя итоги исследования, можно сделать несколько заключений.
Возможность свободного варьирования текста определено особой
структурой произведения, впитавшего в себя свойства сказочного жанра.
Наиболее ярко сказочная основа проявляется в первой части, которая без
труда раскладывается на функции. Тесная взаимосвязь «Старика Хоттабыча»
с фольклорной волшебной сказкой также выражается в его «открытости» к
изменениям: при наличии «жесткого» каркаса, определяющего развитие
сюжета, наполнение его остается свободным от требований. Те главы,
которые отвечают за развитие сюжета (в которых реализуются функции),
представляют собой неподвижные элементы текста, и, соответственно, не
изменяются. Правки касаются только такие места, где происходит или
параллельное выстраивание сюжетной линии, или обрастание
подробностями какого-либо события (в промежутке между функциями).
Такие главы имеют второстепенное значение в развитии сюжета, что
позволяет устранять их из текста без особых трудностей (что наглядно
демонстрируют различные редакции). Ядром произведения можно
о б о з нач и ть име н н о ту часть «Ст а р ика Хот т а бы ча», кото рая
проанализирована с опорой на работу В. Проппа. Причин этому несколько.
Уже отмечалось, что первые шестнадцать глав настолько органичны и
полноценны, что «Старик Хоттабыч» мог бы ограничиться только ими.
Знакомство с героями, появление джинна и связанные с ним происшествия –
это то, без чего всё остальное казалось бы просто откуда-то вырванным и
непонятным, то, без чего произведение просто не смогло бы существовать.
70
Однако, он вполне мог бы обходиться без следующих глав. В принципе, без
особых трудностей можно убрать из текста вторую или третью часть, или
сразу обе, при этом не нарушив причинно-следственных связей. Как указано
в анализе, связка между разбираемыми частями механическая, поэтому при
изъятии одного блока, «мостик» между оставшимися легко налаживается.
Анализ, выявивший трехчастность композицию, наталкивает на еще один
вывод: так как каждая из частей обособлена и имеет свою индивидуальную
архитектонику, то, соответственно, изменения в одной из частей не влечет за
собой изменения в любой другой. Отмечая в «Старике Хоттабыче» сказочное
начало, стоит еще сказать, что в разных анализируемых частях оно
проявляется в разной степени. Отступлением от сказочной модели с
сохранением её свойств является вторая часть. Для построения следующих
друг за другом эпизодов Л. Лагин использует одну простую, но
продуктивную схему, и именно её наличие позволяет тексту видоизменяться
в зависимости от цели автора. Третья часть демонстрирует вообще
отсутствие каких-либо схем и закономерностей. Это говорит о том, что
сказочное начало уступило место повести. С этим, возможно, связано и
ослаблений политической линии, которую Лагин выстраивал с помощью
сказочных приемов. Сохраняется волшебный элемент, но он утрачивает свое
значение, так как неспособен противостоять науке (не случайно правки
меньше всего коснулись именно последних глав). Таким образом, создавая
«Старика Хоттабыча», Л. Лагину удалось объединить сказку и повесть в
таких пропорциях, что получилось уникальное, емкое произведение,
позволяющее перестраивать его в угоду любым пожеланиям и требованиям
эпохи.
71
Заключение
Теперь работа завершена и остается подвести итоги и сделать выводы.
Благодаря сравнительно-сопоставительному анализу изданий «Старика
Хоттабыча» 1940 – 1958 гг. стало возможным разрешить вопрос о количестве
редакций – их четыре. Как неоднократно уже повторялось, впервые повесть
была опубликована в журнале «Пионер» в 1938 г. Она была небольшой, но
несмотря на занимательность сюжета, казалась совсем недоработанной: еще
не до конца были оформлены характеры персонажей, а конфликт строился
довольно поверхностно и сводился исключительно к столкновению главных
героев, сознание которых определялось разным общественным строем.
После поездки на Север Л. Лагин, будучи под впечатлением от Арктики,
решил дописать свою книжку и дополнить её новыми приключениями
Хоттабыча и его друзей. Новая редакция повести вышла отдельным
изданием в 1940 г. Единственный полученный отзыв принадлежал А. Ромму,
который похвалил автора за оригинальность, интересный сюжет, хороших
героев, но отругал за манеру изложения. В 1940-е гг. «Старик Хоттабыч» не
переиздавался: Вторая Мировая война требовала книг иной проблематики.
Но с 1950-х гг. к нему снова возвратился интерес. Теперь, когда между СССР
и США шла холодная война, а Америка объявлялась врагом советской
страны, забытая книжка пришлась по вкусу советским читателям. Заменив
Англию Америкой, «шпрехшталмейстера» «ведущим программу», Хапугина
Вандендаллесом, в 1951 г. Л. Лагин публикует новую редакцию «Старика
Хоттабыча». Важно, что некоторые сюжетные изменения, которые
традиционно относят к редакции 1955 г., были немного раньше, именно в
этой редакции.
Следующие переиздания 1953 и 1955 гг. между собой не отличаются,
однако с редакцией 1951 г. не совпадают. Л. Лагин вновь взялся за
редактирование текста, чтобы актуализировать в нем современные проблемы
и обновить слой бытовых реалий. Новым в появившихся изданиях
оказывалось хорошо забытое старое: Л. Лагин вернул в текст главы, которые
72
убрал из предыдущего издания. Чтобы скрепить старый и новый материал,
ему снова пришлось переписать книгу. Антикапиталистическая
направленность повести стала еще ярче и громче зазвучала в новой редакции
тема науки, призванная доказать своё могущество и силу даже перед магией.
Пропаганда преимущества СССР перед странами Запада выйдет на
авансцену в следующей редакции, которую принято датировать 1955 г., хотя
опубликована она будет только в 1958 г. По словам А. Х Омраана, возможно,
что в 1972 г. была сделана еще одна редакция. Этот вопрос остался еще
неизученным.
По какой причине автору приходилось редактировать текст? Характер
правок сводится к двум задачам: во-первых, удалить из текста то, что стало
неактуальным и неправдивым относительно реальных событий, во-вторых,
максимально политизировать повесть. Для полноценного выполнения этой
задачи недостаточно было менять несколько слов или предложений –
приходилось обновлять весь текст. Ввиду того, что все правки подчинены
одной цели, которую диктовала идеология страны, каждая новая редакция
всё меньше отражала позицию Л. Лагина и всё больше государственные
требования. В связи с этим авторитетным текстом была выбрана первая
редакция (1940 г.), как наиболее близкая к изначальному авторскому замыслу,
и на её материале продолжилось изучение контекста «Старика Хоттабыча».
Следующая часть исследования посвящена изучению источников
возникновения замысла повести. Среди таких были сказка «О рыбаке» из
«Тысячи и одной ночи» и повесть «Медный кувшин» Ф. Анстея.
Сравнительный анализ «Старика Хоттабыча» и указанных произведений
позволил с уверенностью сказать, что при написании своей повести Л. Лагин
пользовался данными источниками. Обнаружились переклички и частичные
заимствования фабульных элементов. Однако, несмотря на формальные
сходства, «Старик Хоттабыч» сохранил свою оригинальность и не
превратился в эпигонство. Наоборот, использование сказочных приемов не
только позволило автору наиболее полно выразить свои идеи, но и создать
73
уникальную структуру повести. Последняя глава данной работы посвящена
изучению «морфологии» «Старика Хоттабыча», в которой доказывается
тезис о том, что вариативность текста обусловлена самой структурой
произведения. Повесть композиционно состоит из трех частей, каждая из
которых имеет свои механизмы построения. Различная архитектоника частей
делает их автономными по отношению друг к другу, в результате чего любая
замена, сделанная в одной из частей, не влечет изменения в другой, а текст
сохраняет свою художественную целостность. Усложнив простую
приключенческую повесть сказочными приемами, Л. Лагин создал
уникальный и пластичный текст, который легко синхронизировался с
реальностью и подстраивался под запросы общества. Трудно сказать, хорошо
это или плохо, но, вероятно, именно этому «Старик Хоттабыч» обязан своей
популярностью и по сей день.
74
Список использованной литературы
Источники:
1. Анстей Ф. Медный кувшин. М.: Северные дни, 1916. 202 с.
2. Лагин. Л. Старик Хоттабыч // Пионер. 1938. № 10. С. 62 – 73.
3. Лагин. Л. Старик Хоттабыч // Пионер. 1938. № 11. С. 90 – 104.
4. Лагин. Л. Старик Хоттабыч // Пионер. 1938. № 12. С. 96 – 108.
5. Лагин Л. И. Старик Хоттабыч. М.-Л.: Детиздат, 1940. 180 с.
6. Лагин Л. И. Старик Хоттабыч. М.-Л.: Детгиз, 1952 [перепл. 1951]. 272 с.
7. Лагин Л. И. Старик Хоттабыч. М.-Л.: Детгиз, 1953. 256 с.
8. Лагин Л. И. Старик. М.: Детгиз, 1955. 264 с.
9. Лагин Л. И. Старик Хоттабыч; Патент «АВ»; Остров разочарования.
М.: Сов. писатель, 1956. 817 с.
10. Лагин Л. И. Старик Хоттабыч. М.: Детгиз, 1958. 350 с.
11. Тысяча и одна ночь: Рыбак // Живописное обозрение: ежемес. прилож. к
ж. «Живописное обозрение». 1894. № 1. С. 27 – 33, 46 – 54.
Исследования:
1. Бабушкина А. Политическое воспитание детей и задачи детской
литературы // Дет. лит. 1937. № 9. С. 3 – 14.
2. Бегак Б. А. Проблема литературной сказки // Кн. и пролет. революция.
1936. № 6. С. 17 – 26.
3. Бегак Б. А. Хоттабыч и другие // Бегак Б. Правда сказки. М.: Дет. лит.
1989. С. 54 – 62.
4. Беляев А. Создадим научную фантастику // Дет. лит. 1938. № 15 – 16.
С. 1 – 8.
5. Буланова О. Тайны старика Хоттабыча // Эхо. 2015. 8 авг. С. 8.
75
6. Власкина М. И. Лагин Л. И. // Русские детские писатели XX века:
Библиографический словарь. М., 1997. С. 251 – 252.
7. Вождаев В. Фантастика? Нет, жизнь! // Лагин Л. Старик Хоттабыч:
повесть-сказка. М., 1990. С. 6 – 8.
8. Глущенко И. Путешествия через пространство и время в книге Л. Лагина
«Старик Хоттабыч» // Детские чтения. 2015. № 2. С. 124 – 141.
9. Горелик М. Возвращение Хоттабыча // Новое время. 2004. № 31. С. 34 –
35.
10. Горький М. Литературу – детям // Резец. 1933. № 15. С. 23 – 24.
11. Графов Э. И выпустили джинна из бутылки… // Культура. 1993. № 49.
12. Дубровская И. Творческая история сказочной повести Л. Лагина «Старик
Хоттабыч» // Русский язык, литература и культура в современном
обществе: Материалы междунар. науч. конф. Иваново, 2002. С. 591 – 595.
13. Ершов Л. Удобная сатира // Звезда. 1956. № 12. С. 152 – 165.
14. Желобовский А. Пионеры в литературе // Народный учитель. 1926. № 9.
С. 17 – 19.
15. Курий С. Перевоспитание джинна («Старик Хоттабыч» Л. Лагина):
URL: http://www.ytime.com.ua/ru/85/4338/9/м (дата обращения:
27.05.2017).
16. Ко н ова л ов А. В. Л а г и н Л. // П и с ат ел и н аш е го д е т с тва :
Библиографический словарь. Ч. 1. М.: Либерия, 1999. С. 234 – 235.
17. Лагин Л.: биограф. справка // Дет. лит. 1969. № 9. С, 77 – 78.
18. Лагин Л. Жизнь тому назад // Аврора. 1974. № 4. С. 67 ‒ 72.
19. Лагин Л. Тысяча и одна ночь // Вслух про себя. М.: Дет. лит. 1978. Кн. 2.
С. 184 – 203.
76
20. Лагина Н. Л. Автор «Старика Хоттабыча» брал гонорары конфетами:
беседа с дочерью писателя // Комсомольская правда. 1999. 19 янв. С. 11.
21. Лезинский М. В гостях у старика Хоттабыча.
URL: http://www.proza.ru/2012/02/29/985 (дата обращения: 28.05.2017)
22. Маршак С. Задачи детской литературы. Дет. лит. 1938. № 18 – 19. С. 14 –
16.
23. Маршак С. О детской литературе наших дней // Новый мир. 1944. № 3.
С. 149 – 153.
24. Матитуте Е. А. Песня и время (О советской массовой песне). М.: Знание,
1977. 96 с.
25. Медведев В. Беспокойный волшебник // Дет. лит. 1973. № 8. С. 10 – 15.
26. Мейерович М. Герои нашего детства // Дет. лит. 1938. № 20. С. 14 – 20.
27. Омраан А. Х. Аксиологические модели авторских сказок в русской
литературе конца 1930-х – 1960-х гг. (Лагин / Волков): автореферат
диссер. Воронеж, 2012. 22 с.
28. Петровский М.С. Книги нашего детства. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха,
2006. 422 с.
29. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2003. 144 с.
30. Разин И. К вопросу о пионерской и детской литературе // Красная печать.
1926. № 19. С. 32 – 36.
31. Рейсер С. А. Основы текстологии. Л.: Просвещение, 1978. 176 с.
32. Ромм. А. Л. Лагин. Старик Хоттабыч // Дет. лит. 1940. № 8. С. 39 – 41.
33. Русские писатели: XX век: Биографический словарь / Сост. И. О.
Шайтанов. М.: Просвещение, 2009. 623 с.
77
34. Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги:
Биобиблиографический словарь: в 3 т. / Под ред. Н. Н. Скатов. М., 2005.
Т. 2. 720 с.
35. Рыкачев Я. Неудачная повесть // Новый мир. 1945. №9. С. 123 – 125.
36. Саконская Н. Особенности детской литературы // Дет. Лит. 1939. № 2.
С. 76 – 77.
37. Советские детские писатели: Библиографический словарь. М.: Детгиз,
1961. 431 с.
38. Стругацкий А. О Лазаре Лагине // Лагин Л. Старик Хоттабыч: избр.
произв. М., 1990. С. 204 – 206.
39. Сухих И. Н. Теория литературы. Практическая поэтика: учебник.
СПб.: Фил.фак., 2014. 352 с.
40. Чудакова М. О. Мирные досуги инспектора Крафта: фантастические
рассказы и попутно. М., 2005. 111 с.
41. Шкловский В. О детской литературе // Дет. лит. 1938. № 18 – 19. С. 18 –
19.
42. Эйхенбаум Б. М. Основы текстологии / В сб.: Редактор и книга.
М.: Искусство, 1962. С. 41 – 98.
https://nauchkor.ru/uploads/documents/5a6...


 облако тэгов
облако тэгов