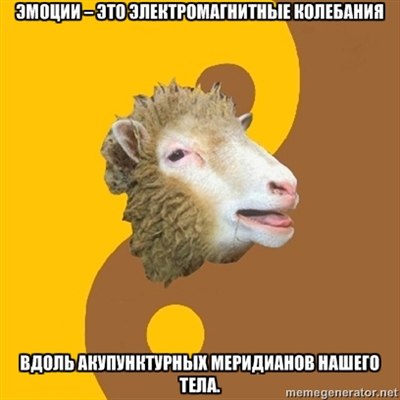| |
| Статья написана 31 марта 2013 г. 22:12 |
сабж Не знаю, что и сказать про книгу, две части которой прошли абсолютно мимо меня и оставили ощущение стойкого удивления, почему автор вдруг попал в разряд мировых классиков, а третья настолько впечатлила, что я не могла заставить себя продолжать читать, спать не могла толком, мне физически было от нее плохо. В общем, третья часть оказалась потрясающей. Что самое странное, Пруст пишет-то, по сути, одинаково. Очень-очень длинные периоды авторского текста с многочисленными отвлечениями, забеганиями назад, вперед, в сторону, флешбэками, какими-то совершенно не относящимися к сюжету сценами, причем не на несколько предложений, а на десяток страниц. И при этом нельзя сказать, чтобы он тяжело читался — напротив, я лично проглатывала это на лету. Слог легкий и очень плавный, поэтому не остается ни малейшего ощущения усилия, как, например, от Толстого. Притом не могу сказать, чтобы текст также доставлял удовольствие именно как текст — он глотается как манная каша, не оставляя за собой ощущения какой-то особо выдающейся стилистики, ритма, музыкальности и тд. Понимаю, что это зависит от перевода, конечно, но вряд ли переводчик увеличил длину фраз впятеро против оригинала. В сухом остатке то, чем цепляет Пруст — та самая пресловутая психологичность, проникновение в такие глубины, в которых люди не то чтобы сами себе не признаются — которые они даже не осознают. И вот тут, должна признать, я не вижу ему равных авторов. Потому что все остальные знаменитые авторы-психологи, пишущие, например, про ощущения любви, на фоне Пруста выглядят как сочинители тупых комиксов. Да, и любимый мной Достоевский — ладно, пусть не тупых комиксов, но все же тут очень видно, где личные авторские тараканы, а где изучение *чужой* психологии, проникновение в то, что происходит в голове у другого человека. Психологизм — это, конечно, необязательно интересно, зависит от того, к чему он применим. К примеру, "Комбре" с его неврастеничным героем-мальчиком, прокисающем в обществе взрослых людей, с матерью, которая усердно растравляет его Эдипов комплекс, и отцом, который, будучи нормальным человеком, никак не может осознать, что с ребенком, собственно, не так. Это очень натуральная ситуация и жизненная, на самом деле. Болезненная привязанность к матери, но не настолько, чтобы как-то повредить становлению личности и тд, а просто... бывает. Скука тихого провинциального городка, в котором все друг друга знают, бесконечные престарелые больные родственники, прогулки по одним и тем же дорожкам как единственное развлечение. Это скучно само по себе, и сколь бы достоверным не было изучение психологии, мыслей и чувств этого ребенка — оно не представляет интереса, потому что герой сам не представляет интереса. Его эмоциональная жизнь мне лично совершенно неинтересна, потому что неинтересна его жизнь реальная, пуста и скучна, и точно так же запертый мозг выдавливает из себя эмоции буквально на пустом месте, но этого все равно недостаточно, чтобы "сделать интересно". В "Именах стран", собственно, то же самое. Ну, детская влюбленность. Да, очень достоверно, да, очень точно. Но просто, банально и скучно, скучно. А вот "Любовь Свана" — это совсем другое дело. Признаюсь, вначале мне показалось, что Сван со своей любовницей очень напоминают печальную пару Сомс-Ирэн. Но Голсуорси на фоне Пруста тоже выглядит, как комиксы, в том числе потому, что мы видим только внешнюю картину, действия, подчас переигранные, подчас нарочитые. У Пруста действия и события отходят на задний план по сравнению с эмоциями героев. И это абсолютно верно, потому что когда ты сильно влюблен, для тебя события по большому счету не играют особой роли как таковые — они только запускают "эмоциональные весы". Вообще мне начинает казаться, что из всего, что я в принципе видела в художественной литературе на тему механики любви, на тему чувств, которые испытывают при этом, "Любовь Свана" — не только самое лучшая, но и единственно правильная вещь. Потому что честная в первую очередь. Это не шекспировская трагедия и не романтическая история из серии "любовь навеки", когда все просто, понятно и банально. Он любит ее, она любит его. Идеальный вариант, но в жизни так редко бывает, да еще чтобы это не вызывало ни малейших "колебаний воздуха" в процессе. В жизни обычно все очень неравновесно, и кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить. Притом, что в любви как таковой на самом деле очень много ненависти и корысти, очень много совершенно негативных и неправильных с классической точки зрения чувств. Но они же сам есть! Вообще абсолютно все, что испытывал Сван на протяжении всего их романа с Одеттой, настолько достоверно, настолько жутко, что это с трудом можно читать — сразу вспоминаются аналогичные ситуации из собственной личной жизни. Даже не ситуации, они-то как раз могут быть разными, и мы вообще говорим о художественном вымысле. Вспоминается, что да, я испытывала то же самое. Почему любовь Свана характеризуется в первую очередь словом "тревога"? Да потому что очень сильная влюбленность и вызывает первым делом это ощущение, как бы сказать, непокоя. А если предмет любви не идеален (не в смысле сам по себе, а в отношениях с тобой), то тревога становится все сильнее. Также и со всеми остальными эмоциями, который испытывает Сван: раздражением, внезапными порывами нежности, ревностью, безнадежными попытками освободиться от этого чувства, которое буквально уничтожает его. Это все так знакомо. Проблема не в том, что Сван любит с закрытыми глазами. Проблема как раз в том, что он любит с открытыми. В смысле, будучи взрослым неглупым человеком, прекрасно осознает и все недостатки Одетты, и ее, пардон, потаскушничество, и глупость, и мешанство, и то, что она его по сути использует. И при этом все равно ничего не может с собой поделать, ну потому что любит. Раз за разом прощает, решает "не раздражать" (там, где у него есть полное право, и доходит до совершенно нелепых с посторонней точки зрения ситуаций (я имею в виду эти просьбы Шарлю поехать к Одетте и поговорить о нем и тд). И при этом любовь Свана не возвышенная и благородная, а довольно таки эгоистичная, местами расчетливая, местами циничная. Не любовь Иисуса Христа ко всем людям, определенно. И при этом не на секунду не возникает сомнений в том, что именно в таком обличье, именно с такими "пятнами" это — огромное и потрясающее чувство. Тем более потрясающее своим несовершенством. Чувствую, я на самом деле не объяснила, что в "Любви Свана" такого и почему она произвела на меня такое шокирующее своей правильностью впечатление. Но я четко ощущаю и знаю по всем собственным опытам, что любовь выглядит именно так, не розы и песни, а тревога плюс попытки любой ценой добиться своего, поступаясь при этом чем угодно, и приливы нежности, и "застенчивый шпионаж", и все то, чего нет у Шекспира, но есть у Пруста.
|
| | |
| Статья написана 23 марта 2013 г. 22:04 |
Никогда раньше не слышала о таком авторе, и не услышала бы, если бы не Книжная рулетка, а зря. Автор презабавнейший. "Людоедское счастье" — образчик того черного юмора, который мне очень нравится: очень бытового, очень легкого, без высокомерия или натужности, отдающего настоящей теплотой и уютом, как ни странно. Потом я вычитала, что это первый роман из довольно длинного цикла про главного героя, некоего Бенджамина Малоссена, француза лет этак 30, "главы" большой семьи братьев и сестер, которых нарожала его непутевая мамаша, который работает "козлом отпущения" в большом Магазине. Что такое козел отпущения? — фигура библейская, натурально, и крайне забавная. Трудовая функция Малоссена, к примеру, заключается в том, чтобы принимать на себя гнев покупателей, пришедших в бюро претензий. Ужасно комическая работа по сути своей, если смотреть с одной стороны, и очень трагическая — с другой (а поставьте себя на место такого работника). Но этого мало, основной сюжет книжки — это, строго говоря, детектив. Потому что в Магазине начинают происходить таинственные взрывы, этакие точечные теракты, во время которых погибают всегда конкретные люди, но напуганы оказываются все вокруг. Не то чтобы герой взялся расследовать взрывы — ни в коем случае, но он волею судеб оказывается втянут в историю как расследования, так и самих преступлений. Помимо этого в жизни героя, как в жизни всякого человека, у которого есть семья, друзья и вообще что-то помимо Сюжета Романа, происходит куча всякой милой и замечательной ерунды. Младший ребенок рисует деда Мороза, который пожирает детишек ("Рождественский людоед"), одна сестра маниакально фотографирует все, что попадется ей на пути, вторая увлечена гороскопами и прочей мистической ерундой. Все они, а также друзья, коллеги и полицейские инспектора требуют его внимания/любви/заботы/денег, на худой конец. Это невозможно внятно описать. Это очаровательная, забавная и остроумная чехарда, которая отражает очень французский, как мне кажется, взгляд на жизнь: умение разглядеть неуловимую магию и очарование и в быте, и в ужасных вещах. Причем не сахарная "Амели", но нечто более саркастическое и остроумное.
|
| | |
| Статья написана 23 марта 2013 г. 22:04 |
В целом я не просто отрицательно, а с активной ненавистью отношусь ко всякого рода пособиям по бизнесу, лидерству и прочей лабуде а-ля Карнеги. Во-1, в основном это бессмысленная болтология. Во-2, переводные книги абсолютно неприменимы к российской действительности и нашему менталитету, и если вы начнете честно и буквально следовать советам Карнеги, вас в лучшем случае сочтут дураком, а в худшем — опасной сволочью, от которой неизвестно, чего можно ожидать. С Талебом все слегка не так, потому что его крео все-таки чуть меньше приближено к популистским советам и чуть больше — к чистой экономике. Особенно радует тот факт, что сам автор является успешным в прошлом биржевым трейдером — значит, по крайней мере в этой области разбирается, потому что глупые и слабые люди там просто не выживают. Собственно, крео Талеба — и не про то, как со всеми подружиться и заработать кучу денег. Скорее — это такая популистская критика классической теории вероятности, как ни странно это звучит. В целом Талеб говорит о том, что все экономисты и прочие прогнозисты, будь то трейдеры, социологи и тд. делают расчеты и "предсказывают будущее" опираясь на гауссиану и нормальное распределение. Между тем, на самом деле мир функционирует совсем не так и полон "Черных Лебедей" — внезапный событий, которые либо никто не ожидал, либо все неправильно оценивали их значимость. К таким относятся войны, экономические кризисы, изобретения, перевернувшие мир и тд. Обычно все подобные вещи, утверждает Талеб, не предсказывал никто буквально за короткое время до того, как они произошли — между тем такие события рушат к чертям все прогнозы. Вот в целом и вся мораль книги. К чести автора, он рассматривает свою идею со всех сторон, с каких только возможно, включая, собственно, математические выкладки. Увы, тервер был единственным предметом из трех университетских курсов, который я прогуляла *целиком*, а поэтому оценить математическую адекватность не могу. С другой стороны, математика не является, собственно, в данной области изобретением Талеба — он использует работы Мандельброта, фрактальный метод, в частности. А это — уже признанная классика, и не моего ума подвергать ее сомнению. С одной стороны, Талеб говорит о своей теме чуть больше, чем, наверное, следует, и периодически возникает ощущение, что он, по сути, ходит кругами. С другой, Талеб очень легко и интересно пишет, с юмором и без ненужного разливания воды, поэтому читать его приятно именно как процесс.
|
| | |
| Статья написана 17 марта 2013 г. 20:08 |
Я не буду ставить надстрочные знаки, потому что мне лень Превер очень странный поэт. По первому впечатлению он очень сильно нравится своей простотой, за которой при этом скрывается и сложность, и глубина, и смысл. В свое время меня очень впечатлило его знаменитое стихотворение "Чтобы нарисовать портрет птицы". Это поэзия, без всяких скидок — даже при том, что я в принципе не перевариваю верлибр, в котором даже ритма нет, не то что рифмы. А у Превера в основном нет ни того, ни другого. Но чем больше я его читала, тем сильнее задавалась вопросом, что же такое курил автор. Пьеска "En Famille", в которой один брат отрезает другому голову из зависти, а потом они все садятся обедать, и мать вливает мальчику суп через воронку, меня, можно сказать, добила. Готова признать, что хоть мне и честно нравятся целых три стихотворения, Превер в целом не мой автор. Слишком глючный для меня, слишком немузыкальный, и смысла в этой глючности я тоже не вижу, увы. Новые формы, новые смыслы, ради бога, но то, что у Бродского выглядит умно, ехидно и серьезно ("Представление" имею в виду), у Превера превращается в дурацкий фарс ("Tentative de discription d'um diner de tetes a Paris — France"). С другой стороны, Превер — тот автор, который понравится как раз тем, кто не любит поэзию в принципе и "вязнет" в гармонии рифмы и ритма. Он забавен, но для меня слишком забавен. Мне нравятся у него *самые* простые и чистые вещи: Chanson Quel jour sommes-nous Nous sommes tous les jours Mon amie Nous sommes tout la vie Mon amour Nous nous aimons et nous vivons Nous vivons et nous nous aimons Et nous ne savons pas ce que c'est la vie Et nous ne savons pas ce que c'est le jour Et nous ne savons pas ce que c'est l'amour *** Je suis hereuse Il m'a dit hier Qu'il m'aimait Je suis hereuse et fiere et libre comme le jour Il n'a pas ajoute Que c'etait pour toujours.
|
| | |
| Статья написана 17 марта 2013 г. 20:07 |
сабж Статьи и разного рода журнальные заметки ФМ очень занятно читать. Особенно весело будет тому, кто знает ФМ как серьезного, трагичного писателя, глубоко погружающегося в человеческую психологию и тд и тд. По "Преступлению и наказанию" и "Братьям Карамазовым", скажем. В статьях — совсем другой автор, автор "Села Степанчикова". Ехидный, злобный, толстый, зеленый тролль. Который не просто не стоит над современным ему миром литературных издевок, взаимных подколок, насмешек и оскорблений, а очень даже комфортно себя во всем этом чувствует. И отвечает оппонентам из других журналов отнюдь не христианским смирением, а по принципу талиона. Статьи и заметки довольно разные по своему характеру и содержанию, какие-то посвящены текущим окололитературным срачам, какие-то — разным изданиям семейства Достоевских, актуальным в то время событиям, книгам и тд. Не любителям ФМ, пожалуй, не буду это рекомендовать — это скорее интересно именно поклонникам, с точки зрения возможности посмотреть на "внутреннюю кухню" писателя. Не скажу, чтобы я была как-то особо впечатлена, тексты скорее рядовые и неряшливые, чем выдающиеся. С другой стороны, они и не писались для того, чтобы остаться в истории — они писались ad hoc и куда интереснее с точки зрения "среза эпохи", чем с литературной. "Дневник писателя 1973 года" куда интересней. Во-1, он написан куда более гладко, четко, что для ФМ даже как-то удивительно. Во-2, Дневник писателя включает в себя как публицистику, так и беллетристику, некоторые его части — это обычные рассказы, другие — скорее, эссе или очерки наблюдательского толка. И то, и другое весьма интересно, очерки пожалуй даже больше. Все-таки ФМ не зря признанный душевед: он умеет смотреть и видеть. Причем отнюдь не только "бедных сироток" и "заблудшие души" в романтическом смысле. Нет, человеческие пороки, мелкие забавные детали и тд. ФМ тоже видит прекрасно. Вот, к примеру, прекрасное изображение того странного и ничем не оправданного себялюбия, которое спустя много лет заклеймят Ильф и Петров под лозунгом "Васисуалий Лоханкин и трагедия русского либерализма": "Ну Гёте, ну Либих, ну Бисмарк*, ну положим… а все-таки и я тоже», — представляется каждому русскому непременно, даже из самых плюгавеньких, если только дойдет до того. И не то что представляется, ибо сознания тут почти никакого, а только как-то его всего дергает в этом смысле. Это какое-то беспрерывное ощущение праздного и шатающегося по свету самолюбия, ничем не оправданного.<...> Он удивил бы, конечно, Либиха, но — кто знает — в глазах слушателей остался бы, может быть, победителем. Ибо в русском человеке дерзости его ученого языка — почти нет пределов. Тут именно происходит феномен, существующий только в русской интеллигентных классов душе: не только нет в душе этой, лишь только она почувствует себя в публике, сомнения в уме своем, но даже в самой полной учености, если только дело дойдет до учености. Про ум еще можно понять; но про ученость свою, казалось бы, каждый должен иметь самые точные сведения…" А вот это — уже больше современное качество)) Привет блоггерам слабого и не только пола, любителям популистских научных объяснений, которые лучше всех знают, как устроено все в этом мире, а если не они, так какой-нибудь Иеродиакон Петр, прилежными ученицами которого они являются  Смотрите сами: "Но, как я сказал уже, есть и общие, животрепещущие, насущные темы разговоров, в которые ввязывается уже вся публика, и это не затем одним, чтоб приятно время провесть: повторяю, жаждут научиться, разъяснить себе современные затруднения, ищут, жаждут учителей, и особенно женщины, особенно матери семейств. Замечательно то, что, при всей этой чрезвычайно любопытной и далеко намекающей жажде общественных советников и руководителей, при всем этом благородном стремлении, удовлетворяются слишком легко, самым иногда неожиданным образом, верят всему, подготовлены и вооружены весьма слабо, — гораздо слабее, чем могла бы представить вам самая яркая ваша фантазия несколько лет тому назад, когда о нашем русском обществе труднее было сделать точное заключение сравнительно с теперешним временем, когда уже имеется более фактов и сведений". Я одна усматриваю тут прямую дорогу к указанной ниже замечательной жизненной позиции (и иным прочим)?)) 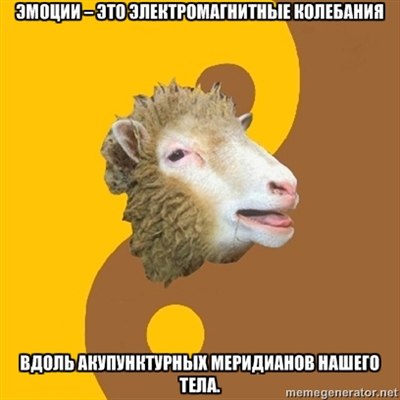
ФМ все-таки удивительно умное и наблюдательное существо был)) Годы идут, а люди-то все те же)
|
|
|


 облако тэгов
облако тэгов