| |
| Статья написана 18 декабря 2017 г. 19:05 |
Мар"ямов О. Кораблик. Х. Дитвидав. 1934 дитяча фантастика *** Марьямов А[лександр <Эзра> Моисеевич]. Советский научно-фантастический роман // Что читать. 1941. № 1. С. 25–26, 28 (в т.ч. — об А. Беляеве) Марьямов А[лександр <Эзра> Моисеевич]. Книги большой мечты // Детская литература. 1940. № 4. С. 36 (в т.ч. — об А. Беляеве) https://biography.wikireading.ru/162190
"В Сталинграде зимой 1945 года готовится к старту ракета". Эх, знали бы они тогда в 1936-м, что будет... 

***Эзра Моисеевич Марьямов (1909-1972) известен как украинский журналист, путешественник и прозаик Олександр Мар’ямов, а также как русский кинокритик, драматург и сценарист Александр Марьямов (не путать со сценаристом Александром Александровичем Марьямовым, 1937 г.р., чем грешат некоторые Интернет-энциклопедии). Родился в Одессе 5 июня 1909 года. Учился в Черкасском педагогическом институте. С шестнадцати лет стал заниматься журналистской работой, а к девятнадцати годам был признанным украинским публицистом, печатавшимся в периодических изданиях Черкасс, Винницы, Харькова, Москвы и др. Был сотрудником украинских журналов «Нова генерація», «УЖ», «Літературний ярмарок», «Глобус», «Шквал», «Робітничий журнал», «Всесвіт», «Металеві дні», «Кіно», а также ряда газет. Специализировался на теме путешествий. Совершая странствия в разные страны, писал об этом путевые очерки на украинском языке, которые охотно печатали разные издания. Так итогом путешествия в Иран стала книга «Шляхи під сонцем. — 10.000 кілометрів» (1929). Совершив вместе с другим известным украинским литератором-путешественником Николаем Трублаини морское странствие на ледоколе «Фёдор Литке» по маршруту Севастополь — Средиземное море – Красное море – Индийский океан – Тихий океан – Арктика, Александр Марьямов написал об этом книгу «Береги дванадцяти вод». Но в отличие от книги Николая Трублаини об этом путешествии «До Арктики через тропіки (Великий рейс накрижника «Літке»)», изданной в 1931 году, а затем переизданной, книга Марьямова тогда до читателей не дошла. Друг Марьямова, украинский писатель-путешественник Алексей Полторацкий в своих мемуарах «Преславные двадцатые» вспоминал: «Очерки Александра Марьямова были отмечены большим лиризмом, глубоким чувством природы, он был влюблён в экзотику дальних странствований и портовых таверн, временами забывая о необходимости тщательного анализа всех этих морских волков и подвыпивших матросов. За это Сашу беспощадно били, а книжку избранных репортажей, которую уже напечатали, изъяли и сожгли, и Саша с гордостью показывал один-единственный сохранившийся у него экземпляр книжки, поясняя, что она более редкая отныне, чем печатные уникумы Ивана Фёдорова». Это сочинение Марьямова было издано только в 1972, в год его смерти, на русском языке под заголовком «За двенадцатью морями» в журнале «Звезда», а в 1975 – отдельной книгой. В 30-х годах, когда в Украине пошли повальные аресты писателей, Марьямов уехал в Москву. Возможно, это спасло ему жизнь, ведь многие его коллеги – украинские писатели – были казнены или умерли в лагерях, будучи ложно обвинены в терроризме, украинском буржуазном национализме, шпионаже и т.д. В Москве он перешёл с украинского языка на русский и посвятил себя теме кинематографа. В годы Великой Отечественной войны служил военным корреспондентом газеты «Краснофлотец». Александр Моисеевич Марьямов — автор киносценариев к документальным фильмам «На шестом континенте», «Живи, человек!», «Домик в тундре», «Всеволод Вишневский», «Театр Кабуки в СССР», «На Курской дуге» и др.: а также игровых – «Подводная лодка», «Мы, русский народ», «Казаки-разбойники» и др. Как кинокритик, написал монографии о кинорежиссёрах Всеволоде Пудовкине и Александре Довженко. Умер Александр (Эзра) Марьямов в Москве 9 декабря 1972 года, на 63 году жизни. Среди его литературного наследия – книги «Шляхи під сонцем», «За двенадцатью морями», «Поезд дальнего следования», «Всеволод Пудовкин», «Александр Довженко» и др., а также множество журнальных и газетных публикаций очерков, заметок, новелл, репортажей и т.д. на русском и украинском языках. https://www.litmir.me/a/?id=99142 *** goo.gl/Vavinr (ВИКИ) *** 
Езра Мойсейович Мар’ямов (1909-1972) відомий як український журналіст, мандрівник і прозаїк Олександр Мар'ямов, а також як російський кінокритик, драматург і сценарист Александр Марьямов (не плутати з російським сценаристом Олександром Олександровичем Мар’ямовим, 1937 р.н., чим грішать деякі Інтернет-енциклопедії). Народився в Одесі 5 червня 1909 року. Вчився в Черкаському педагогічному інституті. З шістнадцяти років став займатися журналістською роботою, а до дев'ятнадцяти років був визнаним українським публіцистом, що друкувався в періодичних виданнях Черкас, Вінниці, Харкова, Москви й ін. Був співробітником українських журналів «Нова генерація», «УЖ», «Літературний ярмарок», «Глобус», «Шквал», «Кіно», «Робітничий журнал», «Всесвіт», «Металеві дні», «Кіно», а також ряду газет. Спеціалізувався на темі подорожей. Здійснюючи мандрівки в різні країни, писав про це подорожні нотатки українською мовою, які охоче друкували різні видання. Так підсумком подорожі до Ірану стала книга «Шляхи під сонцем. — 10.000 кілометрів» (1929). Здійснивши разом з іншим відомим українським літератором-мандрівником Миколою Трублаїні морську подорож на криголамі «Федір Літке» за маршрутом Севастополь — Середземне море – Червоне море – Індійський океан – Тихий океан – Арктика, Олександр Мар’ямов написав про це книгу «Береги дванадцяти вод». Але на відміну від книги Миколи Трублаїні про цю подорож «До Арктики через тропіки (Великий рейс накрижника «Літке»)», виданої 1931 року, а потім перевиданої, книга Мар’ямова тоді до читачів не дійшла. Друг Мар’ямова, український письменник-мандрівник Олексій Полторацький у своїх мемуарах «Преславні двадцяті» згадував: «Нариси Олександра Мар’ямова були позначені великим ліризмом, глибоким почуттям природи, він кохався в екзотиці далеких мандрів і портових таверен, часом забуваючи про потребу пильного аналізу всіх цих морських вовків і підпилих матросів. За це Сашу було нещадно бито, а книжку вибраних репортажів, яку вже видрукували, було вилучено й спалено, і Саша з гордістю показував один-єдиний збережений у нього примірник книжки, поясняючи, що вона рідкісніша віднині за друкарські унікуми Івана Федорова». Цей твір Мар’ямова було видано тільки у 1972, в рік його смерті, російською мовою під заголовком «За двенадцатью морями» у журналі «Звезда», а в 1975 – окремою книгою. В 30-х роках, коли в Україні пішли повальні арешти письменників, Мар’ямов виїхав до Москви. Можливо, це врятувало йому життя, адже багато його колег – українських письменників – було страчено, або вони вмерли в таборах, будучи брехливо обвинувачені в тероризмі, українському буржуазному націоналізмі, шпигунстві і т.д. У Москві він перейшов з української мови на російську й присвятив себе темі кінематографа. У роки Великої Вітчизняної війни служив військовим кореспондентом газети «Краснофлотец». Олександр Мойсейович Мар’ямов — автор кіносценаріїв до документальних фільмів «На шостому континенті», «Живи, людино!», «Будиночок у тундрі», «Всеволод Вишневський», «Театр Кабукі в СРСР», «На Курській дузі» і ін.: а також ігрових – «Підводний човен», «Ми, російський народ», «Козаки-розбійники» і ін. Як кінокритик, написав монографії про кінорежисерів Всеволода Пудовкіна й Олександра Довженка. Вмер Олександр (Езра) Мар’ямов у Москві 9 грудня 1972 року, на 63 році життя. Серед його літературної спадщини – книги «Шляхи під сонцем», «За дванадцятьма морями», «Поїзд далекого прямування», «Всеволод Пудовкін», «Олександр Довженко» і ін., а також безліч журнальних і газетних публікацій нарисів, заміток, новел, репортажів і т.д. російською та українською мовами. https://coollib.com/a/146846 *** 
«Береги дванадцяти вод» – книжка, цілком присвячена репортажній спадщині Олександра Мар’ямова – надзвичайно спостережливого мандрівника, журналіста і сценариста. Читачі знайдуть тут: кілька матеріалів, уміщених свого часу в журналі «Нова генерація»; фрагменти незавершеної репортажної повісті про Одесу «Вільний порт»; цикл подорожніх нарисів «Аеродроми і порти», де чільне місце займають описи Персії, куди автор мандрував літаком нововідкритої лінії Харків – Тегеран; і найголовніше – подорожній репортаж «Береги дванадцяти вод», наклад якого було знищено, крім одного примірника, «книжка рідкісніша, ніж “Буквар” Федорова», за висловом самого автора. Читайте – і цікавих вам мандрів! Упорядник — Ярина Цимбал. Серія "Наші 1920-ті" http://litakcent.com/2017/09/29/oleksandr... *** 
Шляхи під сонцем. Репортаж 20-х років (Наші 20-ті) by Ярина Цимбал (упорядник), Дмитро Бузько, Ґео Шкурупій, Олександр Мар’ямов, Микола Трублаїні, Валер’ян Поліщук, Сава Голованівський «Шляхи під сонцем» – це п’ять подорожніх репортажів шести українських письменників 20-х років. Письменники різні, долі в них різні, вподобання й хобі так само різні, а отже, вони по-різному дивилися на світ. Дмитро Бузько і Гео Шкурупій плавали Дніпром і бачили Дніпрельстан. Олександр Мар’ямов роздивлявся Іран та Ірак. Миколі Трублаїні випала честь помандрувати в полярні води до далекого острова Врангеля, дорогою завітавши у тропіки. Валер’ян Поліщук ретельно оглядав Норвегію й трошки менш ретельніше – Швецію й Фінляндію, а Саві Голованівському доля дозволила глянути на фашистську Італію. Що може бути цікавіше, ніж далекі мандрівки, та ще й у таку бурхливу й швидку добу? https://www.goodreads.com/book/show/32182... *** 
Пригоди англійської люльки Лідер українських футуристів Михайль Семенко з приятелями, переважно кіношниками з Одеської кінофабрики, називали один одного капітанами. Навесні 1928 року «капітан» Семенко подарував юному другові Сашкові Мар’ямову чорну прожилкувату люльку з коріння англійського вереску. Сашко вирушав у далеке відрядження і під час цієї подорожі мав люльку прокурити й повернути власникові, якому обіцяв: «Ви одержите її, капітане, насичену сіллю подорожей по двох морях, пропалену водночас англійським кепстеном і сонцем, скаженим сонцем Іранської землі». ПОКОЛІННЮ «ЧЕРВОНОГО РЕНЕСАНСУ» ІЗ СЕРЕДИНИ 1920-Х СТАЛО ЗАТІСНО В ТРАДИЦІЙНИХ ЖАНРОВИХ РАМКАХ. ЇМ ХОТІЛОСЯ ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ Й ПОЄДНАТИ ВИГАДКУ, УМОВНІСТЬ ІЗ ДОКУМЕНТОМ 18-річний Мар’ямов, гнаний мрією стати журналістом, примчав із Черкас до Харкова. Колишній редактор черкаської газети «Робітниче-селянське око» Веніамін Фурер, який зробив у столиці блискучу партійну й чиновницьку кар’єру, склав Сашкові протекцію, і юнак непогано влаштувався — репортером у «Робітничу газету «Пролетар». Мар’ямов одразу почав проситися у відрядження на периферію. Саме слово «периферія» підкупало будь-якого редактора, і його охоче посилали на Донбас, Азовське море, Поділля чи Полтавщину. Коли ж, почитавши ці перші репортажі, редактори переконалися, що перед ними збіса талановитий журналіст, пропозицій стало не відженешся. Молодого автора дуже швидко почали відряджати в далекі радянські краї та навіть за кордон. У травні 1928 року Мар’ямов вилетів із харківського аеродрому рейсом нововідкритої лінії Харків — Тегеран. Рейс — це гучне слово для тогочасної авіації. Треба було зробити кілька посадок і пересадок. Армавір, Ростов, Махачкала, Баку, Паглеві — Мар’ямов добре знав, як пахне трава на цих аеродромах, так само як різницю між кабінами «Комети», «Дорньє» і «Юнкерса». Одна з його книжок так і називалася — «Аеродроми і порти» (1933). У Паглеві проводжати товариша прийшли двоє, які говорили українською мовою і розповідали про те, як у клубі місцевої філії «Персриби» йшла «Наталка-Полтавка» і хор співав українських пісень. Іран тоді ще називали Персією, у країні якраз святкували скасування капітуляційного режиму (особливий стан, коли держава надавала іноземним громадянам на своїй території переваги порівняно з власними громадянами). Мар’ямов познайомився з видатним іранським письменником і громадським діячем Алі Акбаром Деххода, побував на засіданні Меджлісу, послухав Сеїда Гасана Модарреса, який критикував нового шахиншаха (через 10 років Модарреса вбили у в’язниці за гострі слова) і чиїм учнем був аятола Хомейні, велосипедом об’їхав усі райони й околиці Тегерана, зустрічався з редакторами найбільших іранських газет. Із Тегерана Мар’ямов автомобілем вирушив у напрямку Багдада — через Гамадан і Керманшах, далі радянських громадян не пускали англійці. В Ірані було запроваджено воєнний стан, на поліцейських блокпостах перевіряли перепустки. Перська провінція жила в глибокому середньовіччі. В Ірані Мар’ямов провів півтора місяця, і скрізь його супроводжувала вірна люлька. Незабаром у «Новій генерації» з’явився репортаж «Лист із Персії» з присвятою Михайлю Семенкові: «Капітане! — писав автор. — Свою обіцянку я виконав. І люлька — при мені. Я пропалюю її чесно і ретельно, і в Харкові, вдома, вона краще за записну книжку нагадає мені всі дрібниці, всі кілометри моєї подорожі». Уже наступного, 1929 року вийшла перша книжка Мар’ямова — збірка «Шляхи під сонцем (10 000 кілометрів)». Крім репортажу «Іран без чадри», до неї ввійшли розповіді «Країна за стіною» про Сванетію, де автор побував у серпні 1927 року, і два «українські» репортажі «На Озівських берегах» (про Маріуполь) та «Індустріальні пагорбки» (про Донбас). Двадцятирічний автор у цей час знову подорожував: у квітні 1929-го він вирушив як власний кореспондент «Робітничої газети «Пролетар» на криголамі «Літке» із Севастополя на острів Врангеля в Північному Льодовитому океані. Арктика — то була мрія Мар’ямова, яку цього разу не вдалося здійснити. Із Владивостока його завернули, мовляв, українським читачам мало діла до арктичних експедицій. Мар’ямову залишилися враження тільки від тропічної частини рейсу, якій він присвятив книжку «Береги дванадцяти вод». Уривки з неї друкувалися в журналах, але самій книжці не судилося побачити світ. http://tyzhden.ua/History/178095 


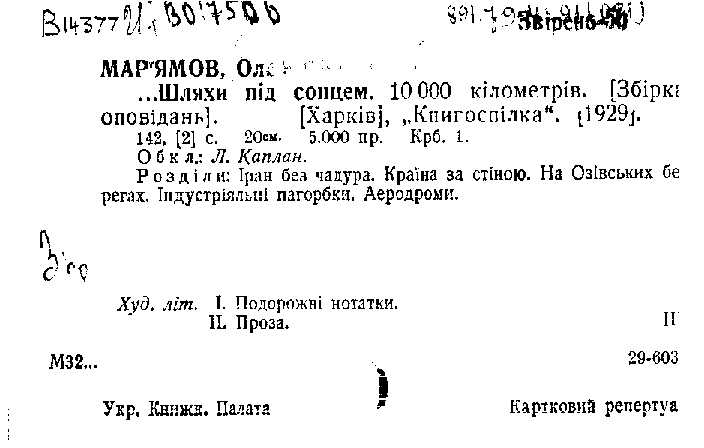
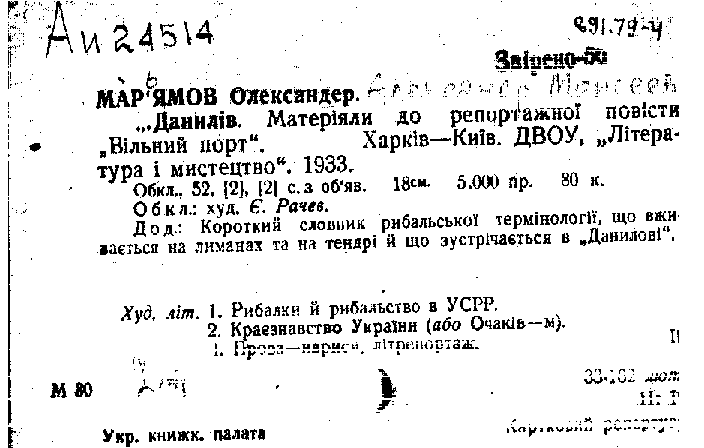
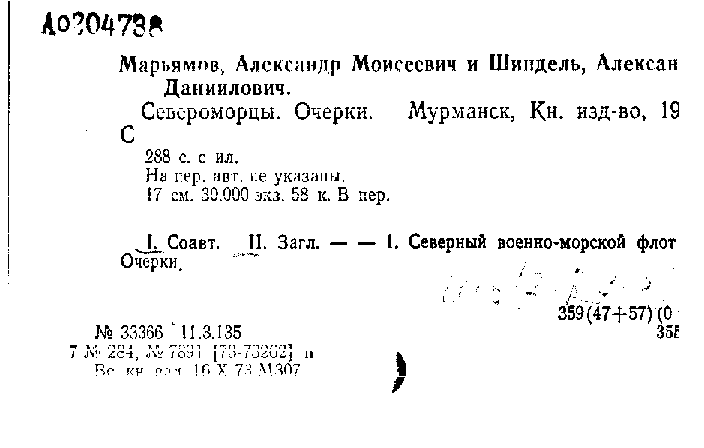
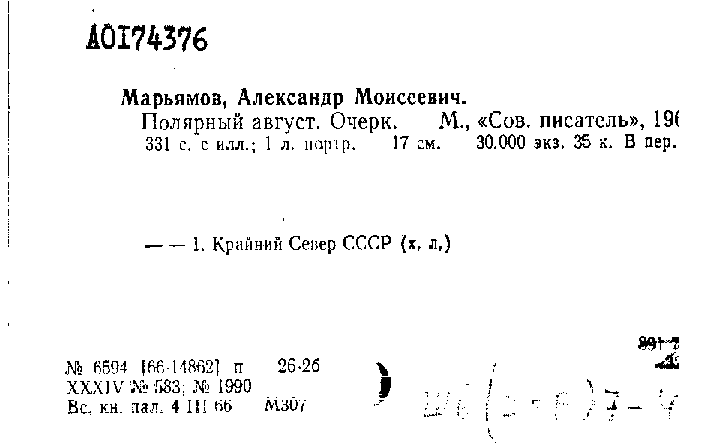
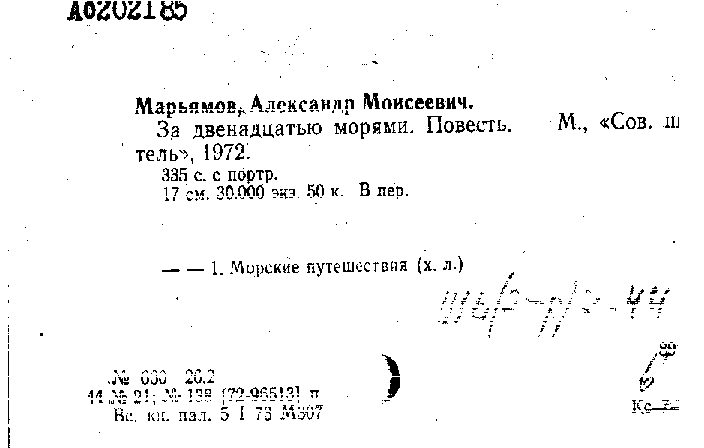
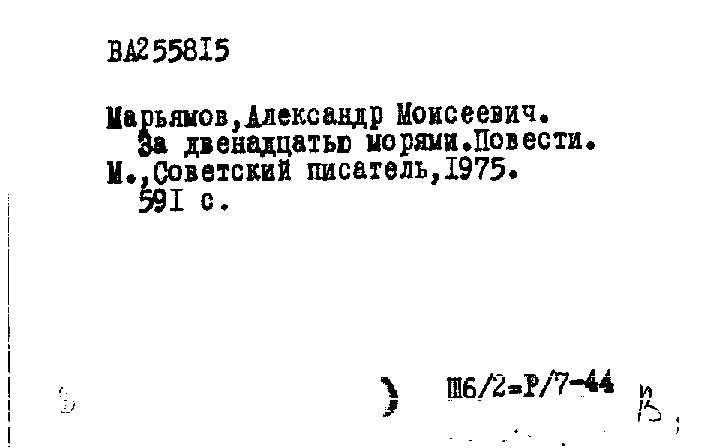
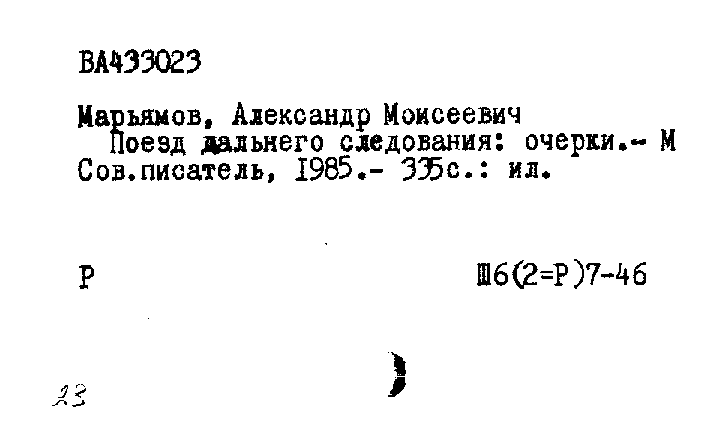
|
| | |
| Статья написана 17 декабря 2017 г. 20:08 |
https://fantlab.ru/series654 ЗВЕЗДА КЭЦ Научно-фантастический роман Впервые опубликовано в ленинградском журнале «Вокруг света» в 1936 г. (№ 2—11). Роман многократно переиздавался. Первоначально задумывался под названием «Вторая Луна», так и фигурирует в переписке А. Р. Беляева с К. Э. Циолковским, окончательное название получил после смерти ученого в его честь. В тексте произведения обсуждаются или упоминаются несколько десятков научно-фантастических идей:
искусственная задержка дозревания фруктов (ведутся работы в этом направлении); полуреактивный самолет (стратоплан), имеющий скорость свыше 1000 км/час (осуществлено); сверхскоростной реактивный поезд на воздушной подушке (созданы опытные образцы); дирижабль из гофрированной стали (техническое развитие пошло по другому пути, однако внимание к дирижаблям периодически возникает вновь); космодром в Средней Азии, чтобы использовать центробежную силу вращения Земли (Байконур); посадка космического корабля на воду (осуществлено при полетах американских космонавтов); обитаемый искусственный спутник Земли: надземная станция-лаборатория и ракетодром для ракет Дальнего межпланетного сообщения («Салют», «Скай-лэб», «Мир»); старт в космос с нереактивным разгоном (пока не осуществлено, хотя имеются проекты); кислородная атмосфера пониженного давления в космическом корабле (было на первых американских космических кораблях. Стало причиной пожара и гибели трех космонавтов в корабле «Аполлон»); трехслойная оболочка ракеты с рыхлым слаботеплопроводным слоем посредине (осуществлено в виде так называемых металлических сот, изолирующих наружную оболочку космического корабля при спу-ске); дезинфекция перед отправлением в космос (осуществлено не только для людей, но и для автоматических аппаратов); колеса-шары для ракеты (существуют проекты); теплоотражгющий плаш из блестящей, как алюминий. материи (именно такой материал был рязрабо тан для теплоизоляции космических скафандров); портативная ракета-ранеи для передвижения в открытом космосе вне корабля (осуществлено); .питание в невесомости из специальных контейнеров (осуществлено); ловля мелких астероидов для использования в кл честве строительного материала и сырья (получен патент ФРГ па эту идею); библиотека из микрофильмов (осуществлено); превращение военного флота в мирный транспортный (рассматриваются проекты, осуществимые в условиях разоружения); использование энергии приливов, отливов и морских волн (осуществлено, масштабы такого использования ежегодно увеличиваются); солнечные двигатели (осуществлено); освещение поверхности Земли зеркалом со спутника (рассматриваются проекты); использование энергии атмосферного электричес" ва (рассматриваются проекты); использование условий космоса для лечения боль ных (рассматриваются проекты); обсерватория на орбите (осуществлено на станин'1 «Салют»); автоматический секретарь — запись информации ленте с голоса, осуществление математических вЫ~ числений (осуществлено в виде персональных компьютеров) ; устранение вредных последствий невесомости специально подобранным комплексом спортивных упражнений (осуществлено на станции «Салют»); полет па Луну с околоземной орбиты (осуществлено в 1969 году); Открытие останков высокоразвитой жизни на Луне (по-видимому, эта идея не соответствует действительности) ; открытие на Луне растительной и животной жизни (пока нет оснований для подтверждения даже возможности существования на Луне простейших организмов); использование низких температур космоса для исследований (осуществлено); доставка автоматической ракетой на Землю образцов лунных пород и научной информации (осуществлено «Луной-16»); проведение опытов по выращиванию растений в невесомости (осуществлено); оранжерея в космосе (разрабатываются проекты); переделка животных и растений с использованием направленных мутаций — биотехнология (начинается широкое использование); выработка языка для животных (проведены успешные опыты с обезьянами); солнечная электростанция на орбите (такой электростанцией снабжены псе орбитальные станции, рассматриваются проекты производства электроэнергии в космосе в промышленных масштабах и передачи ее на Землю). НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ Фантастический роман Впервые опубликовано в ленинградской газете «Ленинские искры» (1937—1938 гг.). Роман — скорее, повесть — в сборники А. Р. Беляева на русском языке не входил. Одно из первых в советской фантастике описаний путешествия на планету другой звезды. Использованы следующие научно-фантастиче-ские идеи: сближение Солнечной системы с системой другой звезды. (В обозримом прошлом и будущем — совершенно невероятное событие. В далеком прошлом — возможное. По одной из гипотез, такое сближение вызвало появление самой Солнечной системы.); использование сближения двух звезд для перелета между ними (новаторская идея А. Р. Беляева впоследствии получила развитие в повести И. А. Ефремова «Звездные корабли», затем — у Г. Альтова «Порт Каменных Бурь»); использование приливных сил для межпланетного перелета. (Первые проекты разработаны в 60-е годы. Вариаит этой идеи — использование гравитационного ускорения аппаратов при прохождении около планет-гигантов — космические аппараты «Вояджер».); экраны-стены для наблюдения за внешним миром (осуществлено); использование атомной энергии для межпланетных перелетов (имеются проекты); использование парашюта для аэродинамического торможения при спуске в атмосфере другой планеты (осуществлено станциями «Марс» и «Венера»), СЛЕПОЙ ПОЛЕТ Научно-фантастический рассказ Впервые напечатано в журнале «Уральский следопыт» в 1935 г. (№ 1). В рассказе использованы следующие в то время научно-фантастические идеи: тайное оружие Германии — реактивные снаряды, воздушные торпеды, управляемые по радио (пример удачного предсказания фантаста — ракеты «Фау-2» и крылатые самолеты-снаряды «Фау-1» били применены уже через 9 лет); стратоплан для полетов в тропосфере (осуществлено); автоматическое управление полетом на больших высотах (осуществлено). ДЕРЖИ НА ЗАПАД! Фантастический рассказ Впервые напечатано в журнале «Знание — сила» в 1929 г. (Л'° 1) В юмористической форме в нем обыграны парадоксы теории относительности и ка жущийся парадокс линии смены дат. Использованы следующие научно-фантастические идеи: получение гениального ученого методами евгеники (Идея, популярная в 20-е годы, была надолго скомпрометирована евгенической практикой нацистов. Сейчас возвращаются к идее улучшения человеческой наследственности, избавления от генетических болезней на новом уровне — генной инженерии, с пониманием всей сложности встающих при этом морально-этических проблем.); теледиагностика заболеваний (ведутся опыты); запись мыслей с последующей распечаткой их текстом (еще не созданы даже предпосылки для осуществления); непосредственное введение знаний в мозг (ведутся исследования, особенно в направлении помоши слепоглухонемым). ОХОТА НА БОЛЬШУЮ МЕДВЕДИЦУ Фантастический рассказ Впервые напечатано п московском журнале «Вокруг света» в 1927 г. (№ 4). Идея пули-спутника впоследствии использовалась в рассказе Дж. Биксби «Дыры вокруг Марса» (1950). ГРАЖДАНИН ЭФИРНОГО ОСТРОВА Очерк Впервые напечатано в журнале «Всемирный следопыт» в 1930 г. (№ 10—11). В произведениях сборника представлена 41 научно-фантастическая идея. Из них осуществлена 21 идея. ВЕЧНЫЙ ХЛЕБ Научно-фантастическая повесть Впервые — в книге «Борьба в эфире»: Роман, повесть, рассказы. — М.; Л.: Мол. гвардия. 1928. Переиздана в 1909 году в Оренбурге, с тех пор многократно перепечатывалась. «Вечный хлеб» — колония микроорганизмов, содержащих все необходимые для питания человека вещества и получающих пищу из окружающей среды,— пока не осуществлено, хотя кормовой белок в промышленных масштабах получают микробиологическим путем из нефти с 40-х годов. Усыпляющий газ — многочисленные психохимические средства состоят на вооружении армий. ВЛАСТЕЛИН МИРА Научно-фантастический роман Впервые — в газете «Гудок», 1926, октябрь — ноябрь. Книжным вариант (Л.: Красная газета, 19(29) существенно отличался в третьей части. В газетном варианте Качинский совместно со Штерном-Штирнером с помощью мыслеизлучающего аппарата предотвращает войну, что позволяет начать подготовку к организации Всемирного Союза Советских Социалистических Республик. Прообразами героев романа послужили и реальные люди: Дугов — Владимир Дуров, Качинский — Бернард Кажинский, автор книги «Биологическая радиосвязь» (Киев: Hay-кова думка, 1966). Переиздан роман был в 1958 году в Горьком, с тех пор многократно перепечатывался. Управление мыслительной деятельностью на расстоянии с помощью радиоволн остается чисто фантастической идеей. Управляемые по радио беспилотные боевые самолеты — осуществлено в виде крылатых ракет «Фау-1» в 1944 году, сейчас существуют беспилотные самолеты-разведчики, аэрокосмический комплекс «Буран» проделал весь первый полет в автоматическом режиме. Связь на больших расстояниях с помощью передачи мысли — фантастическая идея. Дешифровка мыслей по графической записи — ведутся опыты. Усилители мысли — фантастическая идея. Изменение личности — сообщения об опытах в этом направлении с . использованием психологических средств появлялись в печати, есть и неподтвержденные сообщения об успехах. Зоопарк без клеток, с пассивизированными живот нымн — пока не осуществлено. Дирижабли в качестве средства транспорта на большие расстояния—идея, осуществлявшаяся во времена написания романа, но устаревшая сейчас. Из 14 научно-фантастических идей, использованных в книге, частично или полностью осуществлено 7. Несмотря на то что основные идеи «Властелина мира» остаются совершенно фантастическими, этот роман принадлежит к лучшим произведениям А. Р. Беляева. ИДЕОФОН Рассказ Впервые — в журнале «Всемирный следопыт», 192о. — № 6. Рассказ принадлежит к так называемой псевдофантастике, группе произведений научной фантастики, в которых положенные в основу сюжета научно-фантастические идеи оказываются мистификацией или заблуждением, а все происходящее объясняется вполне реалистическими причинами. Идея чтения мыслей, как показывает почти одновременная публикация этого рассказа и «Властелина мира» в 1926 году, в середине 20-х годов была в центре внимания А. Беляева. Применение своеобразного «детектора лжи»*—сейчас в криминалистике западных стран полиграфы, приборы, регистрирующие состояние подследственного, применяются довольно широко. Цикл «Изобретения профессора Вагнера» публиковался А. Р. Беляевым в течение одиннадцати лет, с 1926 по 1936 год. Сюда входят как юморески, составившие «Творимые легенды и апокрифы», так и большие «дилогии» рассказов: «Человек, который не спит» и «Гость из книжного шкафа», «Амба» и «Хойти-Тойти». В порядке публикации произведения цикла располагаются следующим образом: «Человек, который не спит» (1926), «Гость из книжного шкафа» (1926), «Над черной бездной» (позднее — «Над бездной», 1927), «Творимые легенды и апокрифы» (1929), «Чертова мельница» (1929). «Амба» (1929), «Хойти-Тойти» (1930), «Ковер-самолет» (1936). В сборнике рассказы даны в соответствии с восьмым томом собрания сочинений А. Р. Беляева в 8 т. (1964). Отдельным изданием цихл выходил в Кемерово в 1983 году. ТВОРИМЫЕ ЛЕГЕНДЫ И АПОКРИФЫ Впервые — «Всемирный следопыт», 1929. — № 4. Средство от усталости — появился целый набор таких средств, но пока они не снимают усталость, а отодвигают ее наступление или не дают чувствовать. В виде допинга стали бичом профессионального спорта. Средство от сна — радикального пока не найдено, хотя исследования людей, которые не спят, показали, что такое средство на уровне физиологии человеческого организма возможно. Способ думать двумя полушариями. Выявленная асимметрия головного мозга делает осуществление этой фантастической идеи в высшей степени проблематичным, хотя раздвоение личности на совершенно независимые психические сущности наблюдалось при травматических поражениях связи двух полушарий мозга и при операциях, предусматривавших разрез так называемого мозолистого тела (комиссурото-мию). Чтение лекций в университете по радио — сейчас I это делается с помощью телевидения, а в последнее время — и с помощью компьютерных сетей. Повреждение мозга лошади с преступными целями — не может рассматриваться как идея, это скорее прием популяризации положений нейрофизиологии. Омоложение с помощью эндокринологических методов — модная в 20-х годах идея. Опыты по омоложению и научное изучение старения дали начало науке геронтологии, но омоложение так и не было получено... Увеличение размеров живых сушеств путем вмешательства в гормональную регуляцию организма — успешные опыты ведутся сейчас с применением методов генной инженерии. Прыжки с помощью пружины и пневмокостюм для амортизации ударов — пружинные усилители и амортизаторы применяются для ускорения бега, например. Пневмозащита оказалась особенно эффективна в автомобилях и самолетах. Использование сил гравитации для прыжков через препятствия — идея, реализованная в аттракционах. Использование радиоволн для лечения — повсеместно (УВЧ). Использование радиоволн для обогревания на расстоянии. Прямое применение этой идеи — микроволновые кухонные плиты. Способом, описанным в рассказе, применение невозможно из-за рассеивания радиоволн и быстрого падения (пропорционально квадрату расстояния) мощности, передаваемой лучом. Овладение волевой терморегуляцией человеческого тела — в узких пределах достигается йогическими упражнениями. В масштабах, намеченных в рассказе, вредно и никому не нужно. Пример попытки распространения власти человека над природой до абсурда. КОВЕР-САМОЛЕТ Впервые рассказ опубликован в журнале «Знание — сила», 1936. — М 12. Лошадь-автомат — осуществлявшаяся именно с пропагандистскими целями реклама шагающего робота. Металлическая пеня с волооолным нэполнР1?»»ем — решаемая инженерная задача. Однако цель создания такой пены — хранение водорода. Полет, даже при использовании легчайшего «газа» — вакуума, при сколько-то разумных размерах ковра невозможен. ЧЕРТОВА МЕЛЬНИЦА Впервые рассказ опубликован в журнале «Всемирный следопыт», 1929. — № 9. Использование отделенных от тела человеческих органов для производства полезной работы — осущест-4 вимо, но стоимость необходимого для этого оборудования делает такое применение совершенно бессмыс-( ленным, не говоря уже о моральных аспектах проблемы. Опыты подобного рода проводятся в бионике — дли моделирования полезных особенностей «живых конструкций» в технике. Единственное серьезное применение чужих органов — трансплантация сердца, почек, печени, легких и т. Д., что сейчас почти повсеместно вошло в практику мировой медицины. Шагаюший автомобиль —- идет непрерывное совершенствование экспериментальных конструкций такой машины, в том числе и с использованием моделей человеческих ног и искусственных мускулов. НАД БЕЗДНОЙ Первоначально — «Над черной бездной» — «Вокруг света». 1927. — № 2—3. Под названием «Над бездной» впервые — в сборнике: А. Р. Беляев. Борьба в эфире. — М.; Л., 1928. Управление силой тяжести — пока совершенно фантастическая идея. ' Локальное усиление силы тяжести. Яркий пример последующего использования этой идеи — «комариная плешь» в повести А. и Б. Стругацких «Пикник на обочине». Гравитационное оружие —распространенная в фантастике 20—30-х гг. идея. Пока остается фантастической. Изменение скорости вращения Земли — пример использования фантастического приема — изменения одной из существенных мировых констант для показа «что, если...» Применение гипноза в обучении — поразительные примеры успехов в этом направлении показали опыты В. Райкова. Гипнопедия — обучение во сне. Следует отдать я этой области приоритет А. Р. Беляеву. Роман «Великолепный новый мир» О. Хаксли, в котором якоЛы было впервые описано применение гипнопедии, появился в 1932 году. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ СПИТ Впервые опубликовано в сборнике: А. Р. Беляев. Голова профессора Доуэля. — М.; Л., 1926. Прибор для дыхания свежим воздухом — с исчезновением под натиском автомобилей свежего воздуха в городах и широким применением кондиционеров идея стала анахронизмом. Ретардин — средство от усталости — см. выше «Творимые легенды и апокрифы». Ускорение научно-технического и общественного прогресса в б раз за счет увеличения производительности умственного труда —- идея, получающая своеобразное воплощение в концепциях интенсивного развития экономики и ускорения. Цветомузыка — идеи синестезии, гармонического соединения различных ощущений, появились еще в XIX веке, но технические средства для такого соединения возникли лишь в 60-х годах XX века. Погружение в сон целой страны — идея, возможно заимствованная из фильма Рене Клера «Париж уснул». ГОСТЬ ИЗ КНИЖНОГО ШКАФА Рассказ опубликован впервые в сборнике: А. Р. Беляев. Голова профессора Доуэля. — М.; Л., 1926. Отрывок под названием «Мир в стеклянном шаре» — Всемирный следопыт, 1926. — № 9. Воздушный абордаж — в начале развития авиации одно из фантастических представлений о ходе воздушных боев, развивавшееся еще Г. Уэллсом («Война в воздухе», 1908). Своеобразной трансформацией этой идеи может быть стыковка с самолётом-заправщиком при дальних перелетах. Получение протоматерии при ядерном распаде — идея, пока отброшенная физикой. В советской фантастике после А. Р. Беляева впервые появилась в рассказе А. и Б. Стругацких «Забытый эксперимент» (1959). Искусственная космическая туманность, повторяющая в ускоренном масштабе времени оазвитне Солнечной системы в миниатюре. Совершенно фантастическая идея, высказанная, однако, намного раньше, чем в рассказе Т. Старджона «Бог микрокосмоса» (1940, рус. пер. 1961), считающемся классикой этой темы. В послевоенной советской фантастике к ней обратился А. Полещук «Ошибка Алексея Алексеева» (1960). -Возможность — иерархии созданных искусственно вселенных — когда создатель одной сам включен в созданный другим мир — и так ad infinitum — вероятно, первое в советской фантастике предположение такого рода. Подробно разработано С. Лемом в «Воспоминаниях Ийона Тихого» (1961). Эффект проницаемости макротел — пока совершенно фантастическая идея. «Инженерный» подход к ее использованию наиболее ярко выражен в романе И. Войскунского и Е. Лукодьянова «Экипаж «Меконга» (1961). Восприятие глазом новых видов излучений — реализовано в виде электронно-оптических преобразователей и компьютерной обработки изображений. АМБА Рассказ впервые опубликован в журнале «Всемирный следопыт». 1929. — N* 10. Поддержание жизнедеятельности отделенного от тела мозга — опыты с мозгом обезьян проводились. По одной из гипотез, быстрая деградация функций мозга в этих опытах обусловлена сенсорной депри-вацией. Электроэнцефалограф — осуществлено. Общение с мозгом при посредстве его биотоков — опыты по сознательному или бессознательному контролю вида излучений мозга показывают принципиальную осуществимость идеи. Введение сигналов в мозг человека от органов чувств животного — прогресс в этой области связан с созданием искусственного глаза на электронной основе. Средство для ускорения процессов срастания нервных тканей — получено в недавнее время. ХОЙТИ-ТОЙТИ Впервые повесть опубликована в журнале «Всемирный следопыт». 1930. — № 1—2. Акустические усилители — осуществлено. Увеличение размеров отделенного от тела мозга — подобные опыты из-за сложности и нецелесообразности, не говоря о морально-этических аспектах, не ставились. Пересадка мозга человека в череп слона — теоретически допустимая, но в высшей степени сомнительная в этическом плане операция. Однако в романе С. Снегова «Люди как боги» (1966—1978) мозг человека был пересажен дракону. Необычайно прочный прозрачный каучук — создан целый спектр пластмасс, обладающих такими свойствами. В цикле А. Р. Беляева «Изобретения профессора Вагнера» использовано 39 научно-фантастических идей. Из них осуществлено или осуществимо 24. НЕВИДИМЫЙ СВЕТ Впервые рассказ опубликован в журнале «Вокруг света», 1938. —Л? 1. Восприятие новых видов электромагнитных излучений, способность видеть электрический ток — реализовано в виде электронно-оптических преобразователей, позволяющих видеть картину в инфракрасном свете или даже разность потенциалов в микросхеме. Подключение «электронного глаза» непосредственно к нервным окончаниям человека в качестве средства от слепоты — работы в этом направлении ведутся. ПРЫЖОК В НИЧТО Научно-фантастический роман Впервые опубликован в 1933 году издательством «Молодая гвардия» (М.), тогда же появился отрывок из романа под названием «Стормер-сити» в журнале «Юный пролетарий» (Л® 8). Второе издание с предисловием К. Э. Циолковского (1857—1935), воспроизведенном в настоящем издании, и послесловием Н. А. Рынина (1877—1942), известного специалиста по теорий межпланетных сообщений, появилось в 1935 году. Всего роман перед войной выдержал четыре издания. После смерти писателя роман не переиздавался до 1959 года, после чего выходил более десяти раз, был включен в оба соб-рання сочинений А. Р. Беляева. По сравнению t первым изданием автор убрал в последующих некоторые научно-популярные длинноты и расширил приключенческую часть, а также исправил по замечаниям К. Э. Циолковского некоторые научные неточности. Во втором издании было введено и посвящение великому ученому, который писал по этому поводу Беляеву: «Что же касается до посвящения его (романа. — А. Л.) мне, то я считаю это Вашей любезностью и честью для себя». В настоящем издании транскрипция имен некоторых ученых и изобретателей изменена на современную. В романе использовано несколько десятков научно-фантастиче-ских идей: — стратосферные бомбардировочные ракеты, управляемые по радио (осуществлено в 1944 году —Фау-1, Фау-2); ракетная бомбардировка городов Европы и Америки (осуществлено во время второй мировой войны, планы ракетной бомбардировки Америки рассматривались в конце войны нацистами); газовые ракеты (ракеты с боеголовками, снаряженными отравляющими веществами, — осуществлено) ; стратоплан (осуществлено); расположение космодрома у экватора (осуществлено Францией — космодром Куру); расположение космодрома в горах (выигрыш в энергетических затратах на преодоление менее плотных слоев атмосферы ничтожен, а затраты на снабжение такого космодрома так велики, что вряд ли эта идея будет осуществлена, хотя и не по техническим соображениям); использование вращения Земли для увеличения собственной скорости ракеты (осуществлено); использование золота для изготовления деталей ракеты (пока только на уровне микросхем); полет в стратосферу по баллистической траектории с посадкой в океане (осуществлено 15 мая 1961 года Аланом Шепардом на корабле «Меркурий»); город-лаборатория для изучения условий космических полетов (первым таким городом стал Звездный); замкнутый круговорот веществ — «экологический цикл» (ведутся опыты); космическая оранжерея (ведутся опыты); приближение скорости ракеты к скорости света с целью замедления времени (теоретически возможно); микрокниги (осуществлено); устройство для создания невесомости и перегрузок посредством падения и взлета аппарата по траектории регулируемой кривизны (осуществлено на самолетах-лабораториях, есть проекты и соответствующих башенных установок); тренировки вестибулярного аппарата (вошли во все программы подготовки космонавтов); замкнутая среда для опытов по космической экологии (осуществлено); барокамера для испытания скафандров в условиях вАкуума (осуществлено); регулировка температуры в ракете с помощью изменения окраски (реализовано с помощью экрана-отражателя на «Скайлэбе» в аварийной ситуации); солнечный двигатель по идее К. Э. Циолковского (рассматриваются проекты); долговременный эксперимент по поддержанию жизнедеятельности человека в замкнутой экологической системе (осуществлено); запуск ракеты с научными приборами (осуществлено); война между США и Японией в Тихом океане (сбывшийся прогноз фантаста); гидроустройства для предохранения тел от удара (осуществлено, но не используется из-за громоздкости); использование амортизаторов для уменьшения воздействия перегрузок при взлете ракеты (осуществлено) ; составная ракета из 20 модулей (видимо, эта идея устарела, хотя многоступенчатые ракеты используются с начала космической эры); спиральное расположение выходов дюз (такие проекты существовали, но более надежным оказалось использование аэродинамических стабилизаторов); корабль, приводимый в движение электроэнергией, передаваемой с Земли (рассматриваются проекты); получение энергии при использовании земного магнетизма (имеются проекты); использование электрического заряда корабля для передвижения в космосе (рассматриваются проекты); лучи смерти — электроразряд по ионизированным жестким излучением воздушным каналам (идея, видимо, устарела по сравнению с современными проектами лучевого оружия)? использование звездолета в военных Целях непосредственно (надо надеяться, что эта идея никогда не будет осуществлена); телевидение в космосе (осуществлено); коротковолновая связь с ракетой (осуществлено); прожекторные антенны (параболические антенны широко применяются в космической связи); мебель для невесомости (осуществлено); взлет с помощью буксировочных ракет, которые потом возвращаются на Землю (воплощением этой идеи являются возвращаемые корпуса ускорителей кораблей многоразового использования); пониженное давление воздуха в кабине ракеты (осуществлено); космическая медицина (осуществлено); создание искусственной силы тяжести вращением ракеты (рассматриваются проекты); специальная посуда для еды в невесомости (осуществлено) ; веера как средство передвижения в невесомости (пока не осуществлено); диск-гироскоп для изменения положения тела в невесомости (пока не осуществлено, хотя гироскопы широко используются для ориентации космических объектов); ядерный двигатель ракеты (ведутся разработки); электромагнитный двигатель ракеты (имеются проекты); перемещаемая в зависимости от направления силы тяжести в ракете ванна (развитие гигиены в космосе пошло по направлению полного освобождения от ограничений, налагаемых гравитацией); посуда для приготовления пищи в условиях невесомости (пока не осуществлено); телескоп, собираемый вне ракеты из отдельных частей (осуществлено); портативные ранцевые двигатели для индивидуального передвижения в космосе (осуществлено); скафандры, армированные металлической сеткой, которая одновременно служит термоэлементом (пока не осуществлено) ; телефонная связь по проводам между скафандрами (идея устарела с развитием радиосвязи); манипуляторы у скафандров (имеются проекты, есть манипуляторы у космических кораблей многоразового использования); двухместная шлюпка — «космический спасатель» (имеются проекты); нарушения сна в качестве реакции на условия космического полета (сбывшийся прогноз); гидроионика (осуществлено); автоматическая ориентация оранжереи по Солнцу (осуществлено); паровой солнечный двигатель (ведутся опыты); создание искусственной силы тяжести вращением системы из двух тел вокруг общего центра (имеются проекты); посадка ракеты с применением парашюта (осуществлено); кислород на Венере (в заметных количествах не обнаружен); спутник у Венеры (не обнаружен); высокоорганизованная жизнь на Венере (крайне маловероятно в свете данных советских автоматических станций); белок, стойкий к высоким температурам (имеются проекты биотехнологов); нефть на Венере (остается гипотетической); насыщенность атмосферы Венеры электричеством (предположение подтвердилось); примитивная разумная жизнь на Венере (крайне маловероятна); искусственный спутник Земли — исследовательская лаборатория (осуществлено); плавучие города на огромных катках (имеются проекты); заводы в море (осуществлено); ледоплавы, растапливающие льды (идея сомнительна экономически и экологически); освоение Сибири (осуществлено); плотина через Берингов пролив (имеются проекты); наступление на льды Гренландии (пока идея остается сомнительной с точки зрения как экономики, так и экологии); наступление на джунгли Африки (к сожалению, осуществлено); разработка недр Антарктиды (пока не осуществлено) ; использование энергии ветра (осуществлено, хотя и не в таких масштабах, как представлял себе Беляев); искусственные острова-аэропорты (осуществлено); срытые и насыпанные горы, измененное течение рек, каналы (осуществлено, но с непредвиденными неблагоприятными последствиями для природы). В романе представлено 78 идей. Из них к настоящему времени осуществлено 45 идей. ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ АНТЛАНТИДЫ Впервые повесть напечатана в журнале «Всемирный следопыт» (1925. — № 5—8). Первое книжное издание —в кн.: А. Беляев. Остров погибших кораблей.— М.; Л.: Земля и фабрика, 1927. С тех пор повесть многократно перепечатывалась, включалась в собрания сочинений. Атлантида — затонувший материк в Атлантике с высокоразвитой цивилизацией — идея остается фантастической... Атлантида — родина древнейших наций Европы, Африки и Америки — идея остается фантастической... Подводная археологическая экспедиция — осуществлено. Небольшие подводные лодки для глубоководной разведки — осуществлено (например, аппараты «Пайсис»). Радиосвязь под водой — осуществлено. Геологическая разведка морского дна — осуществлено. Подводное бурение — осуществлено. БОРЬБА В ЭФИРЕ Впервые —в первоначальном виде под названием «Радиополис» — в журнале «Жизнь и техника связи» (1927. — № 1—9). В книге —А. Р. Беляев. Борьба в эфире. — М.; Л.: Молодая гвардия, 1929. Впервые переиздана в 1986 году в Ленинграде. По некоторым свидетельствам, в годы «холодной войны» ЦРУ проявляло повышенный интерес к книге, ставшей библиографической редкостью, ибо это было единственное в советской фантастике описание войны Советского Союза с Соединенными Штатами. Персональный радиотелефон — осуществлено. Индивидуальный летательный аппарат — пока фантастика. Десятичный счет времени — фантастика, хотя в двадцатые годы подобные проекты имели большое распространение. Аэромобили вертикального взлета — осуществлено, хотя пока и не в таких масштабах. Высотная обсерватория — осуществлено, хотя бы в виде модуля «Квант» на станции «Мир». Телевизор-видеотелефон — осуществлено. Парашют как способ сообщения воздушных сооружений с землей — фантастично. Превращение Кремля в скансен — пока фантастика... Радиочасы — осуществлено. Передача факсимильных изображений по радио — осуществлено. Пилюли от сна — пока фантастика. Лучи смерти — пока фантастика. Война с Америкой — к счастью, остается фантастикой. Ракетные стратосферные корабли — осуществлено. Противоракетная оборона по периметру страны — возможна. Телевидение с центральной фильмотекой — осуществлено. Ускоренное изучение языков со стимуляцией мозга радиоволнами — ведутся опыты. Международный язык на основе эсперанто — пока фантастика. Передача энергии по радио — ведутся опыты. Гироскопическая стабилизация летательных аппаратов — осуществлено. Летающие здания —пока фантастика. Изменения климата — пока фантастика. Использование солнечной энергии—осуществлено. Приборы дальновидения с точной наводкой — пока фантастика. Исчезновение городов — пока фантастика. Искусственная пища — осуществлено. Интенсификация сельского хозяйства — осуществлено. Исчезновение чиновников — пока фантастика. Исчезновение лошадей — пока фантастика. Видеокарта — осуществлено. Радиокомпас — осуществлено. Изменение физического облика человека пока фантастика, Всеобщая близорукость — увы, почти осуществлено. Операция по устранению близорукости — осуществлено. Воздушные дредноуты, движущиеся над землей по кольцевым маршрутам, — имеются проекты. Автоматическое предотвращение столкновений транспорта — в принципе осуществлено. Автоматическое управление домашним хозяйством — в принципе осуществлено. Всеобщая дезинфекция — пока фантастика, хотя индивидуальные попытки 1тедпринимаются, например, стиль жизни Майкла Джексона, многих людей с пересаженными сердцами. Доставка вещей и продуктов по трубопроводу — пока фантастика, хотя есть проекты. Автоматический доктор — почти осуществлено. Электромассажер — осуществлено. Средство для уничтожения волос — осуществлено. Телеэкраны во всю стену с объемным изображением — ведутся опыты. Выдвижная мебель — осуществлено, но признания не получило. Освещение бактериями — осуществлено, но используется преимущественно в специальных (например, взрывоопасных) условиях. Телеобщение — осуществлено в форме телеконференций. Радиошкола — осуществлено, хотя и не в таких масштабах. Светомузыка — осуществлено. Летающая подводная лодка — осуществлено военными. Передача мыслей в качестве средства регулирования трудовых процессов — пока фантастика. Искусственная гроза — оружие—пока фантастика, хотя опыты ведутся. Автоматизированные боевые машины — ведутся опыты. Машины-мосты — осуществлено. Автоматизированная система управления боем — осуществлено. Подземоход — в принципе осуществлено. Искусственные драгоценные камни — осуществлено. Защитное силовое поле — пока фантастика. Звуковое оружие — осуществлено. Люди — придатки машин — пока фантастика. Гормональное изменение внешности и качеств человека — осуществлено. Шаровые молнии — оружие — пока фантастика. Лучи, выводящие из строя моторы, — пока фантастика, хотя в прессе появлялись сообщения о проводимых военными опытах. Подводный город — осуществляется японцами. Атомная бомба — увы, осуществлено. Ракетный корабль — осуществлено. ЧЕЛОВЕК, ПОТЕРЯВШИЙ СВОЁ ЛИЦО Впервые в журнале «Вокруг света» (Л.. 1929.— Nt 19—25) с подзаголовком «роман». в книгах повесть не перепечатывалась до 1958 года, когда одновременно вышла в нескольких издательствах в сборнике «Остров погибших кораблей», составленном Б. В. Ляпуновым. Другой вариант того же сюжета и даже с теми же героями Беляев реализовал в романс «Человек, нашедший свое лицо» (1940), который публикуется как совершенно самостоятельное произведение. Препараты точного воздействия на гормональную систему человека — частично осуществлено. Изменение внешности препаратами — осуществлено. Превращение белого в негра и наоборот — осуществлено. ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ РАКОМ? Впервые в журнале «Вокруг света» (М„ 1929. — № 19). Впоследствии рассказ был включен в т. 8 собр. соч. в 8 тт. (М.: Молодая гвардия. 1964). Более не переиздавался. Рассказ представляет собой яркий пример популяризаторской фантастики, где биологические сведения сообщаются при помощи фантастического приема — описания ощущений рака с точки зрения человека. В трех повестях А. Р. Беляева содержится приблизительно 74 научно-фантастические на время написания идеи. Из них полностью, частично, на стадии опытов или проектов осуществлены 48. Остаются фантастическими или отброшены — 26. НИ ЖИЗНЬ, НИ СМЕРТЬ Впервые в журнале «Всемирный следопыт» (1926. — №5—6.) Первая книжная публикация — сборник «Борьба в эфире». Впоследствии не перепечатывался до включения в собрание сочинений 1963—1964 гг. Анабиоз теплокровных — пока остается фантастикой. Замораживание людей как последнее средство спасения от неизлечимой болезни — осуществлено. Анабиоз живой рыбы для перевозки — осуществлено. Революция в Англии на фоне экономического кризиса — идея, распространенная во время написания рассказа, но оказавшаяся фантастической. Авиэтка с автоматическим управлением — делаются экспериментальные экземпляры. Подвижные дороги в городе — развития не получили. Новые способы добывания энергии — реализовано. Замена машинами физического труда — реализуется. Пассажирские дирижабли — реализовано, лотом оставлено. СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ! Впервые в журнале «Всемирный следопыт» (1928. — № 4). То же самое под названием «Электрический слуга» в журнале «Вокруг света» (Л. — 1928. — № 49). До включения в собрание сочинений 1963—1964 гг. в книгах не перепечатывался. Рассказ послужил основой для одной из киноновелл передачи «Этот фантастический мир». Механические слуги — недавно реализовано. Телеуправление домашним хозяйством — реализовано. Настройка акустических датчиков на определенный тембр голоса — реализовано. Человекообразные роботы — созданы прототипы, во времена Беляева это казалось более осуществимо. МИСТЕР СМЕХ Впервые — в журнале «Вокруг света» (Л. — 1937. — № 5). Впоследствии рассказ неоднократно перепечатывался, включался в собрания сочинений. Технология получения музыки заданных эмоциональных свойств — ведутся опыты. Механическое получение музыки — реализовано с помощью ЭВМ. Социология смеха — осуществлено. Технология смеха — ведутся опыты. Смех как оружие — фантастика. СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ Впервые рассказ появился в журнале «Вокруг света» (Л, — 1929. — № 1—4,7). Впоследствии многократно перепечатывался, включался в собрания сочинений. Замедление скорости света — фантастика. Идея из класса широко используемых «что, если...», позволяющая проследить в данном случае физические последствия изменения одной из фундаментальных мировых констант. Иная кривизна пространства — доказана теоретическая возможность. НЕТЛЕННЫЙ МИР Первоначально — в журнале «Знание • сила» (1930. — № 2). В книге выходит впервые. Исчезновение бактерий — идея совершенно фантастическая, класса «что, если...». Экологическая катастрофа — к сожалению, осуществимо. Дезинфекция ультракороткими волнами — реализовано. ВЦБИД Первоначально — в журнале «Знание • сила» (1930. — № 6—7). В книге выходит впервые. Искусственное дождевание — осуществлено. Управление климатом — пока фантастика. Искусственное рассеивание туч и туманов-- осуществлено. ШТОРМ Первоначально — в журнале «Революция и природа» (1931. — № 3—5). В книге публикуется впервые. Использование энергии ветра — осуществлено. Гидростанции на Волге, Ангаре и Енисее — реализовано. Ветроэлектростанция на воздушном змее — есть проекты. Гидроаккумулятор — осуществлено. Война с Румынией и Польшей — осталось фантастикой. ЗЕМЛЯ ГОРИТ Повесть первоначально опубликована в журнале «Вокруг света» (Л.—1931.—№ 30—36). В книге выходит впервые. Гидростанция на Волге как средство мелиорации засушливых земель — осуществлено. Понижение уровня Каспийского моря — осуществимо. Ледяная плотина — осуществлялось, хотя из-за чрезмерной сложности технологии распространения не получило. Заводы по переработке сельхозсырья в колхозах— до конца не осуществлено. Агрогорода — осуществлено. Сельхозавиация — осуществлено. Кабели электропередач — осуществлено, но распространения не получило. Электротракторы — осуществлено. Электроподогрев земли — не осуществлено по экономическим причинам. Ионизация воздуха — осуществлено. Электрическая дойка — осуществлено. Биологическая борьба с вредителями — осуществлено. Добыча нефти со дна моря — реализовано. Плавучие буровые — реализовано. Радиотеатр — реализовано в виде проекционных телевизоров. Пенотушение пожаров — реализовано. Москва — порт — реализовано. Плотина на реке Урал — не осуществлено. ЗАМОК ВЕДЬМ Повесть первоначально опубликована в журнале «Молодой колхозник» (1939. — № 5—7). Перепечатана в журнале «Юный техник» в 1984 году к 100-летию писателя (№ 1—3). Первое книжное издание.— Беляев Л. Остров погибших кораблей. Красноярск, 1986. Искусственная управляемая шаровая молния — пока фантастика. Использование энергии космических лучей —фантастическая идея. В девяти повестях и рассказах книги содержится приблизительно 52 научно-фантастические на момент публикации идеи. Из них к настоящему времени хотя бы до стадии экспериментальных образцов осуществлено 42 идеи. Отброшено или остаются фантастическими 10 идей. ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА Впервые роман напечатан в журнале «Вокруг света» (М., 1929. — № 4—13). Первая книжная публикация — в двухтомнике избранных научно-фантастических произведений А. Беляева 1956 г. (т. 2). С тех пор многократно переиздавался, входил в оба собрания сочинений А. Беляева (в 8 т. и в 5 т). Получение жидкого воздуха в промышленных масштабах— во время написания романа идея «на грани возможного», сейчас осуществлено в огромных масштабах. Получение из жидкого воздуха и переработка атмосферного азота — осуществлено. Консервирование мяса замораживанием жидким воздухом осуществлено. Использование жидкого воздуха в качестве оружия — фантастика. Пневматическое оружие — осуществлено. Индивидуальные радиотелефоны — осуществлено. Материал, почти полностью не пропускающий тепла, — осуществлено. Лампы из светящихся бактерий — осуществлено. Лишение земного шара атмосферы — фантастическая идея, но, главным образом, по масштабам. Сверхуплотненный воздух — фантастическая идея. Сообщение с Марсом — фантастика. Пушка в качестве средства межпланетного сообщения — имеются проекты. Использование атомной энергии — осуществлено. Болезни невесомости — поразительное предвидение Беляева, здесь он опередил Циолковского, полагавшего невесомость только полезной для организма. Снаряды, управляемые по радио, — осуществлено. Передачи на сверхкоротких волнах — осуществлено, УКВ. Воздушные бомбы — принцип использован в так называемых «вакуумных» бомбах. Заговор капиталистов с целью захвата власти на Земле — фантастика, АРИЭЛЬ Впервые роман издан «Советским писателем» в Ленинграде в 1941 году, по свидетельству А. Н. Стругацкого, в продаже он появился уже после установления блокады. С тех пор многократно переиздавался, входил в собрания сочинений. Использование гипноза для управления восприятием действительности — осуществлено. Мускулолет — осуществлено. Летающий металл — сверхлегкая пена с ячейками, заполненными водородом, — осуществлено, хотя пока на уровне курьеза техники. Управление броуновским движением молекул — фантастическая идея. Левитация — фантастическая идея. Использование энергии введенных в организм искусственных радиоактивных элементов — фантастическая идея. В двух романах Беляева использованы приблизительно 24 фантастические на время их написания идеи, Из них осуществлены или находятся на грани осуществления 16 —две трети. Только треть идей является фантастикой и для нас.
|
| | |
| Статья написана 17 декабря 2017 г. 13:08 |

Звезда КЭЦ — КЭЦ -Константин Эдуардович Циолковский, Е. Палей-Евгеньев — А. Р. Палей. Прыжок в ничто — Лео Цандер, немецкий инженер, изобретатель — Ф. Цандер; Ганс Фингер — молодой революционер-боевик, помощник Винклера — Вера Фигнер; Винклер — ассистент Цандера, законспирированный агент сил мировой революции, приставленный «присматривать» за Цандером (скорее всего — руководитель высокого уровня) — Иоганн Винклер (нем. Johannes Winkler; 1897—1947) — немецкий инженер, один из пионеров в области ракетостроения. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B... Властелин мира — А. Беляев героев своего романа не выдумал, а взял из реальной жизни. Так, например, прототипом главного героя Штирнера был некто Ширер. В 20-х годах мир был несколько раз потрясен сообщениями об открытии так называемых «лучей смерти». В прессе сообщалось об одном из таких «изобретателей» Ширере, который якобы взрывал такими лучами порох и мины, убивал вспышкой крысу, заставил даже остановится мотор. Позднее, правда, выяснилось, что все дело было в… электропроводах, тайком убивающих крысу и взрывающих снаряды. Штирнер несёт в себе и отдельные черты А. Л. Чижевского. http://archivsf.narod.ru/1884/aleksander_... Дугов (В.Л. Дуров), Качинский (Б. Кажинский) и отд. черты А. Л. Чижевского. Бернард Бернардович Кажинский Властелин мира — начало последнего абзаца в молитве "Акеда" и частое обращение к Господу Богу https://toldot.ru/articles/articles_16075... Голова профессора Доуэля — композитор Мак-Доуэль "Специального музыкального образования он не получил, но играл в Смоленском оркестре. И ноты читал с листа. Охотно играл на рояле в четыре руки с моей сестрой Анной Павловной. И самостоятельно мог играть на рояле сложные пьесы таких авторов, как Скрябин, Мак Доуэль и другие. Писал музыкальные очерки и рецензии. Много занимался журналистикой. Это живое дело всегда увлекало его». https://www.litmir.me/br/?b=165170&p=... *** "Вечный хлеб" — профессор Бройер — "бройт" (идиш) — хлеб. Чудесное око : Мотя Гинзбург — Лагин (наст. фамилия — Гинзбург) (?).В эпилоге старик Хоттабыч обучается радиоделу и мечтает стать радиоконструктором. Как пишет в своей статье о Лагине Аркадий Стругацкий: «В 1952 году в «Комсомольской правде» была опубликована статья-фельетон, в которой некто Гаврутто обвинил Лагина в том, что его роман «Патент АВ» является плагиатом повести А. Беляева «Человек, нашедший свое лицо». Не застенок, не лесоповал, конечно, но обвинение это стоило Лагину немало нервов и здоровья. (Впрочем, специальная комиссия Союза писателей под руководством Бориса Полевого доказала, что как раз А. Беляев мог заимствовать идею своего произведения из конспекта романа Л. Лагина «Эликсир сатаны», опубликованного еще в тридцать пятом году. Странно, право: случись это сейчас, я бы в два счета показал с книгами в руках, что эти два произведения не имеют между собой ничего общего.) * Но я не могу сказать, что с коллегами у него сохранялись только хорошие отношения, — говорит Наталья Лазаревна. — Однажды папу обвинили в плагиате. Написали, что в своем романе “Патент АВ”1947 он переписал повесть Александра Беляева “Человек, нашедший свое лицо”1940. Честное имя папе удалось отстоять, только показав оригинал раннего произведения "Эликсир сатаны" из сборника “153 самоубийцы” 1935, где конспективно излагался тот же “Патент АВ”. Бывает, что одинаковые сюжеты приходят к совершенно разным писателям…еют между собой ничего общего.)». В общем, ложечка нашлась, а осадочек остался. * "Вот Мотя Гинзбург — конструктор, изобретатель, руководитель радиокружка и сам радист на траулере «Серго Орджоникидзе». Он изобрел подводный телевизор для поиска косяков промысловой рыбы. Впрочем, замечает Беляев: «В сущности говоря, Мотя не изобрел ничего или почти ничего. Ему случалось видеть фотографии американских и немецких телевизоров, приспособленных для наблюдений на морской глубине. Правда, это были фотографии. Но принцип работы телевизора известен. Оставалось самостоятельно продумать кое-какие конструктивные особенности…» Плавал на траулере такой радист или нет — неизвестно. Единственная черта, которой снабдил его Беляев, — безудержный энтузиазм. А это значит, что такой человек действительно существовал. В «Полярной правде» за 1932 год отыскались две статьи: «Ищите каменный уголь»[304] и «Заполярный гигант на базе „белого угля“»[305]. Угля на Кольском полуострове не нашли до сих пор, гигантов на базе гидроэнергии не построили. Но энтузиазма в статьях хоть отбавляй, а подписаны они: М. Гинзбург." (Зеев Бар-Селла. Александр Беляев) Маковский (капитан траулера) — скорее всего, поэт Маяковский, командор, как его называли в поэтическом кругу. "Лузитания" — упомин. в начале. "Так страх 200 схватиться за небо высил горящие руки «Лузитании» (Облако в штанах). «Лузитания» — пассажирский пароход, торпедированный германской подводной лодкой 7 мая 1915 года и сгоревший в открытом море. Карпиловский — ловит карпов (ихтиолог) Барковский — барк (учёный) профессор Багорский — багор (член спецкомиссии) фамилии, оканчивающиеся на -ский Соломон Хургес — Звезда Соломона (Куприн) * Азорес — "А роза упала на лапу Азора". В "Чудесном оке" фамилия персонажа Азорес происходит от топонима "Азорские острова". Они находятся в Атлантическом океане и согласно одной из гипотез являются осколками Атлантиды http://ukhtoma.ru/atlantida2.htm Название островов, скорее всего, происходит от устаревшего португальского слова «azures» (созвучно русскому «лазурь»), что буквально означает «голубые». Как бы то ни было, Атлантиду надо искать под водой. Где же именно? Мнения разделились. Уже само название «Атлантида», — естественно, наводит на мысль об Атлантическом океане. Океан велик. И только исследования рельефа дна Атлантики позволяют говорить более или менее уверенно о возможных местах катастрофы. Их два — у Азорских и у Канарских островов. Там даже в наши дни не прекращают бушевать грозные вулканы, разрушая и создавая сушу. С точки зрения геолога десять — двенадцать тысяч лет совсем немного. А то, что дно океана в районе Азорского плато и Северо-Атлантического хребта неспокойно, говорит в пользу «азорского» варианта Атлантиды. Возможно, Атлантида покоится не только в районе Азорских островов, но и восточнее, там, где теперь область больших глубин. На такую мысль наводит очень большая толщина осадочного слоя в этой части океана. Столько осадков могло накопиться лишь в том случае, если теперешнее дно некогда было сушей. Иначе миллиарды лет понадобились бы, чтобы из воды выпало три с половиной километра отложений — цифра, которая противоречит данным науки. И, заключая эти свои выводы, доктор химических наук Н. Жиров приводит мнение ряда геологов как советских, так и иностранных, которые высказываются в пользу Атлантиды — Атлантиды в Атлантике. Борис Ляпунов. Неоткрытая планета. М. Дет.лит. 1968 *** Но вот и море, и небо, и корабли словно взмыли вверх. Телеоко опустилось в воду, экран заполнила зеленоватая мгла. Везде мелькали серебристые мелкие рыбки. Они летали меж водорослей. Настоящий подводный лес! Одни водоросли тянутся вверх, разбросав свои листья, словно струи фонтана, другие, словно длинные ленты, тянутся во все стороны. И все это плавно всплывало кверху. На смену маленьким рыбам появились большие, водоросли становились бурыми, темно-красными, подводный лес густел. И вдруг среди густых водорослей поднялась белая колонна с обломанной капителью. Рядом с ней – вторая, еще и еще – целый лес колонн. Остатки храма или площади, обрамленной колоннадою. Колонны, казалось, летят вверх. Появился пьедестал. Потом колоннада начала уходить в сторону... И зрители – «подводные путешественники» – увидели узкую улицу. На дороге, некогда вымощенной плитами, лежал толстый слой ила. Небольшие здания, сложенные из камня, были без крыш. Возможно, катастрофу опускания в бездну сопровождал взрыв вулкана. Раскаленная лава сожгла стропила крыш, и они обвалились... Телеглаз завернул в небольшой дворик. Портик, колоннады, остатки фонтана, статуи... – Мы снова на улице среди маленьких домиков, – долетел голос «экскурсовода» археолога Чудинова, – улица выводит на площадь перед храмом. Он хорошо сохранился. Лишь глубокая трещина расколола здание наискось от верхнего угла до нижнего. Архитектура немного напоминает египетскую. Эта часть города лежит на срезанной вершине горы. Солнечный свет еще доходит сюда, и вам все видно без прожекторов. Когда мы станем опускаться ниже, придется путешествовать с фонарями... Вы видите один из затонувших городов. Таких немало в морях и океанах. У нас на Черном море возле Херсонеса на дне моря давно найден такой город. С помощью телеглаза мы достаточно хорошо его изучили. В 1933 году доктор Гартман обнаружил телеглазом подводный город между Сицилией и Африкой. Теперь нам удалось найти еще один затонувший город. Вы знаете, что материки поднимались из морских глубин и опускались. Процесс этот не прекратился и в наши дни. В Тихом океане когда-то существовал огромный материк, который назван учеными Пацифидой. Он занимал почти всю впадину между Австралией и Южной Америкой. Африка простиралась далеко на восток и на запад и, возможно, соединялась с восточными берегами Южной Америки. Континент между Африкой и Австралией назывался Гендванной. Азия в незапамятные времена соединялась с Северной Америкой. И все эти материки опускались на дна океана. Но особенно заинтересовала ученых Атлантида... Древний философ Платон, живший за четыреста лет до нашей эры, сберег для нас рассказ об исчезнувшем острове Атлантиде, который размерами был больше «Ливии и Азии, взятых вместе», – иначе говоря, все известные древнему миру части Азии и Африки, – и лежал на запад от Геркулесовых столбов – теперешнего Гибралтара. По свидетельству Платона, Атлантида погибла «в один день и бедственную ночь». Это был великий остров, целый континент. Были здесь гигантские леса, огромные табуны слонов и других животных. Как писал Платон, жители Атлантиды «дважды в год пожинали произведения земли, пользуясь в течение зимы водами небесными, а летом привлекая воду, которую дает земля через каналы». Вся Атлантида была разделена на десять царств, которые находились под властью одного рода. Таким образом, в Атлантиде мы видим древнейшую, существовавшую много тысяч лет назад, доарийскую культуру. Десятки, сотни ученых делали удачные догадки о том, где была полумифическая Атлантида. И геологи, и ботаники, и лингвисты, и зоологи вносили свой вклад в изучение этого чрезвычайно интересного вопроса. Нам удалось открыть еще один затонувший город и таким образом перевернуть очень древнюю страницу человеческой истории. Мы, советские ученые, становимся в строй атлантидологов, и, возможно, нам удастся осветить темные уголки древней истории точно так же, как освещаем мы прожектором телеглаза темные глубины океана... Оратор смолк. В это время телеоко плавно двигалось вниз по горному склону между величественными статуями. Постепенно темнело. Вдруг вспыхнули огни прожекторов. Появились красные водоросли. Длинные широкие полосы их стояли неподвижно. Ветер водной стихии – движение воды – почти не доходил сюда, как и естественный свет. Зрители видели широкую дорогу, которая шла на вершину горы – к крепости или царскому дворцу. По обе стороны дороги стояли громадные статуи, грубо высеченные из камней. Длинноголовые герои или божества сидели на широких постаментах и угрожающе смотрели на восток. Возможно, оттуда затонувшему городу некогда угрожала опасность и статуи-стражи должны были пугать врага. – Мы постараемся расшифровать эти надписи, – сказал Чудинов. Поперек дороги лежал затонувший пароход. Его корпус был облеплен ракушками. Телевизор, перепрыгнув через корабль, продолжал блуждать по улицам и площадям затонувшего города. Дорогу пересекла огромнейшая расщелина, из которой торчали мачты другого затонувшего корабля. По обе стороны расщелины лежали статуи... «РТ-118» – иначе говоря, рыболовный траулер «Серго Орджоникидзе» – плавно подвигался вперед, маневрировал влево, вправо, туда, куда указывал Чудинов, который теперь был «капитаном». Затонувший город раскинулся на огромном пространстве, опускаясь все далее по пологой равнине. И вот, наконец, телевизор достиг границы города – большой гавани с каменной набережной и волнорезом. – Посмотрите, – продолжал голос лектора, – в гавани стоит несколько кораблей! Разве не удивительно? Они затонули одновременно с городом и гаванью. Возможно, они окаменели. Ведь с тех пор, как они под водой, прошли тысячелетия. (Чудесное око) *** "Подводные земледельцы" — Борис Григорьевич Масютин. профессор - ровесник Беляева https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B... *** "Человек-амфибия": у Ихтиандра также был прототип – Иктанер, являвшийся персонажем романа «Иктанер и Моизетта» французского писателя Жана де ла Ира. А. Беляев в авторском послесловии к журнальной публикации писал о том, что в основе романа лежат действительные события: «Профессор Сальватор – не вымышленное лицо, так же как не вымышлен и его процесс. Этот процесс действительно происходил в Буэнос-Айресе в 1926 году и произвел в свое время не меньшую сенсацию в Южной и Северной Америке, чем так называемый «обезьяний процесс» в Дейтоне… В последнем процессе, как известно, обвиняемый – учитель Скопс оказался на скамье подсудимых за преподавание в школе «крамольной» теории Дарвина, Сальватор же был приговорен верховным судом к долгосрочному тюремному заключению за святотатство, так как «не подобает человеку изменять то, что сотворено по образу и подобию божию». Таким образом, в основе обвинения Сальватора лежали те же религиозные мотивы, что и в «обезьяньем процессе». Разница между этими процессорами только в том, что Скопс преподавал теорию эволюции, а Сальватор как бы осуществлял эту теорию на практике, искусственно преобразовывая человеческое тело. Большинство описанных в романе операций действительно были произведены Сальватором…» http://archivsf.narod.ru/1884/aleksander_... *** "Голова профессора Доуэля": К моменту написания книги идея, где голова (мозг) живёт без тела, поддерживаемая наукообразным способом, не являлась принципиально новой для литературы — фельетон Эдварда Пейджа Митчелла «Человек без тела» (1877), рассказ Густава Майринка «Экспонат», роман Мориса Ренара «Доктор Лерн» («Новый зверь») (1908), роман Гастона Леру «Кровавая кукла» (1923), новелла немецкого писателя Карла Грунерта «Голова мистера Стейла» (Mr. Vivacius Style) — затрагивали эту проблематику. Сам Беляев назвал вдохновителем своей книги Шарля Броун-Секара. *** "Человек, потерявший лицо" В работе над книгой Беляев опирался на реальные работы врачей и физиологов своего времени. Даже фамилия Сорокин дана «чудесному доктору» не случайно: в восприятии современников она ассоциировалась с деятельностью Сергея Александровича Воронова (1866-1951), известного своими опытами по омолаживанию животных и человека. http://archivsf.narod.ru/1884/aleksander_... *** "Прыжок в ничто": Коллинз — коммерческий директор АО «Ноев ковчег». Голубь — начальник орбитальной станции Земли. Тора. Глава 6. 9. Вот порожденные Ноахом: Hoax мужем праведным, цельным был в своих поколениях; с Б-гом ходил Hoax. 10. И породил Hoax троих сыновей: Шема, Хама и Йефета. 11. И извратилась земля перед Б-гом, и наполнилась земля кривдой. 12. И видел Б-г землю: и вот извратилась она, ибо извратила всякая плоть свой путь на земле. 13. И сказал Б-г Ноаху: Конец всякой плоти настал предо Мною, ибо наполнилась земля кривдой из-за них, и вот я истребляю их с земли. 14. Сделай себе ковчег из дерева гофер; (с) ячеями сделай ковчег, и осмоли его изнутри и снаружи смолой. 15. И вот каким сделай его: триста локтей — длина ковчега, пятьдесят локтей — его ширина, и тридцать локтей — его высота. 16. Просвет сделай в ковчеге, и в локоть сведи его сверху; и дверной проем ковчега сбоку помести; (с) нижним, вторым и третьим ярусом сделай его. 17. А я, вот я навожу потоп, воды на землю, чтоб погубить всякую плоть, в которой дух жизни, под небесами; все, что на земле, погибнет. 18. И я установлю Мой завет с тобою; и войдешь ты в ковчег, ты и твои сыновья, и твоя жена и жены твоих сыновей с тобою. 19. И от всего живого, от всякой плоти, по два от всякого введи в ковчег, чтобы оставить в живых с тобою; пола мужского и женского будут они. 20. Oт птицы по виду ее, и от скота по виду его, от всего ползучего земного по виду его, (по) два от всякого придут к тебе, чтобы их оставить в живых. 21. Ты же возьми себе от всякой пищи, какую едят, и собери у себя, и будет тебе и им в пищу. 22. И сделал Hoax; по всему, как повелел ему Б-г, так сделал он. Глава 7 1. И сказал Господь Ноаху: Войди ты и весь твой дом в ковчег; ибо тебя увидел я праведным предо Мною в поколении этом. 2. От всякого скота чистого возьми себе по семи, самца и его самку; а от скота, который не чист, двоих, самца и его самку. 3. Также от птицы небесной по семи, самца и самку; чтобы животворить потомство на поверхности всей земли. 4. Ибо спустя еще семь дней я дождь дам на землю сорок дней и сорок ночей, и сотру я все сущее, Мною созданное, с лица земли. 5. И сделал Hoax, по всему, как повелел ему Господь. 6. А Ноаху шестьсот лет. И потоп был водами на земле. 7. И вошел Hoax и его сыны, и его жена и жены его сынов с ним в ковчег, от вод потопа. 8. От скота чистого и от скота, который не чист, и от птицы и всего, что ползает по земле, 9. По два пришли они к Ноаху в ковчег, мужского и женского пола, как повелел Б-г Ноаху. 10. И было спустя семь дней: воды потопа были на земле. 11. В шестисотом году жизни Ноаха, во втором месяце, в семнадцатый день месяца, в сей день вскрылись все источники бездны великой, и проемы небесные открылись. 12. И был дождь на земле сорок дней и сорок ночей. 13. В этот самый день вошел Hoax, и Шем, и Хам, и Йефет сыны Ноаха, и жена Ноаха, и три жены его сынов сними в ковчег. 14. Они и всякое животное по виду его, и всякий скот по виду его, и все ползучее, что ползает по земле, по виду его, и всякий летун по виду его, всякая птица всякого (вида) крыла. 15. И пришли они к Ноаху в ковчег, по два от всякой плоти, в которой дух жизни. 16. И пришедшие, мужского и женского пола от всякой плоти пришли они, как повелел ему Б-г; и затворил Господь за ним. 17. И был потоп сорок дней на земле; и умножились воды и понесли ковчег, и поднялся он над землей. 18. И крепли воды и умножились очень на земле, и плыл ковчег по поверхности вод. 19. И воды крепли все больше и больше на земле, и были покрыты (ими) все высокие горы, которые под всем небом. 20. На пятнадцать локтей сверху крепли воды; и были покрыты горы. 21. И погибла всякая плоть, что ползает по земле, из летающего, из скота, и из животного, и из всего кишащего, что кишит на земле; и все человеческое. 22. Все, что (имело) дыхание духа жизни в ноздрях своих, из всего, что на суше, вымерло. 23. И стер Он все сущее, что на поверхности земли, от человека до скота, до ползучего и до птицы небесной: и были стерты они с земли. И остался лишь Hoax и то, что с ним в ковчеге. 24. И крепли воды на земле сто пятьдесят дней. Глава 8 1. И вспомнил Б-г Ноаха, и всякое животное и всякий скот, который с ним в ковчеге, и провел Б-г дух (утешения) по земле, и утишились воды. 2. И затворились источники бездны и проемы небесные, и прекратился дождь с небес. 3. И отступали воды с земли все дальше и дальше; и убывать стали воды по прошествии ста пятидесяти дней. 4. И стал ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Арарата. 5. И воды все убывали до десятого месяца. В десятом (месяце), в первый (день) месяца показались вершины гор. 6. И было по прошествии сорока дней, и открыл Hoax окно ковчега, которое сделал, 7. И выпустил он ворона, и вылетел тот, отлетая и возвращаясь, пока не высохли воды на земле. 8. И выпустил он голубя от себя, посмотреть, убыла ли вода с поверхности земли. 9. Но не нашел голубь покоя для ноги своей и возвратился к нему в ковчег, ибо вода на поверхности всей земли. И протянул он руку свою и взял его, и внес к себе в ковчег. 10. И ждал он еще семь других дней; и вновь он выпустил голубя из ковчега. 11. И прилетел к нему голубь под вечер, и вот оливковый лист сорвал он клювом своим. И узнал Hoax, что убыли воды с земли. 12. И ждал он еще семь других дней, и выпустил он голубя, и тот больше не возвратился к нему. 13. И было в шестьсот первом году, в первом (месяце), в первый (день) месяца, сошли воды с земли. https://toldot.ru/limud/library/humash/be... *** в цикле «Изобретения профессора Вагнера» = Вагнер, Фауст... "Дьяволиада Александра Беляева" В стиле http://fantlab.ru/edition102854 В имени беляевского персонажа Ивана Степановича Вагнера проглядывает отсылка к купринскому рассказу «Каждое желание» (1917) http://fantlab.ru/work103946, в этом издании (1920) — рассказ переработан в повесть «Звезда Соломона» http://fantlab.ru/edition31918 К племяннику алхимика-масона ( Беляев написал не разысканную пока ещё пьесу «Алхимики» (1933)) Ивану Степановичу Цвету приходит таинственный человек, принесший весть о наследстве и билеты на поезд в дядино именье. И просил этот М.И. Тоффель только об одной ответной услуге — сжечь, не читая, оккультные рукописи почившего дядюшки-масона... В сокращении полного имени «Мефодий Исаевич Тоффель» виден Мефистофель. Т.е., Иван Степанович Вагнер ( сын Фауста ) и Мефистофель. Кроме того, «тойфель» на немецком — «чёрт». Само собой, А. Беляев и тут не прошёл мимо — академик Тоффель в «Чудесном оке»: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83...... Там же: пассажирский лайнер «Левиафан»: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5...... А сам Беляев в рассказе «Хойти-Тойти» (1930 ) из цикла «Изобретения профессора Вагнера», в 5м отрывке с подзаголовком «Человеком Рингу не быть...» пишет: «27 марта. Мне кажется, что я попал в кабинет Фауста. Лаборатория профессора Вагнера удивительна. Чего только здесь нет ! Физика, химия, биология, электротехника, микробиология, анатомия, физиология... Кажется, нет области знания, которой не интересовался бы Вагнер, или Ваг, как он просит себя называть. Микроскопы, спектроскопы, электроскопы... всяческие «скопы», которые позволяют видеть то, что недоступно невооруженному глазу. Потом идут такие же «вооружения» для уха: ушные «микроскопы», при по мощи которых Вагнер слышит тысячи новых звуков: «и гад морских подводный ход и дольней лозы прозябанье». Стекло, медь, алюминий, каучук, фарфор, эбонит, платина, золото, сталь — в самых различных формах и сочетаниях. Реторты, колбы, змеевики, пробирки, лампы, катушки, спирали, шнуры, выключатели, рубильники, кнопки... Не отражает ли все это сложность мозга самого Вагнера? « А третья жена писателя — Маргарита ( Маргарита Константиновна Магнушевская (Беляева, 06.09.1895 – 24.09.1982) «И только в 1921 году он смог сделать свои первые шаги благодаря не только своей силе воли, но и в результате любви к Маргарите Константиновне Магнушевской, работавшей в городской библиотеке. Чуть позже он, подобно Артуру Доуэлю, предложит ей в зеркале увидеть его невесту, на которой он женится, если получит согласие. А летом 1922 года Беляеву удается попасть в Гаспру в дом отдыха для ученых и писателей. Там ему сделали целлулоидный корсет и он смог наконец-то встать с постели. Этот ортопедический корсет стал его постоянным спутником до конца его жизни, т.к. болезнь до самой его кончины то отступала, то опять приковывала его на несколько месяцев к постели." http://archivsf.narod.ru/1884/aleksander_... В романе «Властелин мира» (1929) http://fantlab.ru/work3062 «по наведенным нами справкам, та же навязчивая мелодия охватила почти всех живущих вокруг Биржевой площади и Банковской улицы. Многие напевали мелодию вслух, в ужасе глядя друг на друга. Бывшие в опере рассказывают, что Фауст и Маргарита вместо дуэта «О, ночь любви» запели вдруг под аккомпанемент оркестра «Мой милый Августин». Несколько человек на этой почве сошли с ума и отвезены в психиатрическую лечебницу» http://www.kredo-library.com/021/00185/re...... Кроме того, композитор Рихард Вагнер написал увертюру «Фауст» http://www.wagner.su/node/833 ( 1839-1840 ) Просуммировав всех персонажей ( Вагнер, Фауст, Маргарита ), выходим на прототип главного героя цикла «Изобретения профессора Вагнера» http://fantlab.ru/edition86018 ( 1931 ) http://www.fandom.ru/about_fan/kuzyakina_... https://fantlab.ru/blogarticle31367 *** Буся и Ханмурадов, в теплых меховых костюмах и кислородных масках, с нетерпением ожидали крылатого гостя. Солнце ярко светило на темно-синем небе. Внизу клубились сизо-серые волны облаков. Шкляр и Буся напряженно вглядывались в облака. Но аэроплан не показывался. http://ruslit.traumlibrary.net/book/belia... Шкляр, судя по остальному тексту, и есть фамилия Буси. Интересно, а как в журнале «Вокруг света» (1934, № 10—12, 1935, № 1—6) ? __ Дело в том, что Шкляр сейчас руководит постройкой большого цельнометаллического дирижабля «Циолковский». Борис Михайлович Шкляр – Буся, как его зовут, – самый малорослый и легковесный из всего экипажа: вес – 45 килограммов, рост – 145 сантиметров – разогревает газ, поворачивает рычаг. Электролебедка поднимает якоря. «Альфа» плавно взлетает вверх почти по отвесу. *Борис — монгольское происхождение (от «bogori» — «маленький»), Шкляр — "стекольщик" (с белорусского) ____ Беляев А. Изобретатели // Приазовский край. 1916. № 22. 24. января. С. 2: Недавно газеты сообщили о том, что наши союзники на западном фронте применяют аппарат, который обнаруживает приближение на расстоянии нескольких верст врага на суше или море. Получив известие об этом изобретении, мы, как всегда, задали вопрос: не было ли уже у нас подобного изобретения, — и не ошиблись. Этот аппарат, „тономикрофон“, был изобретен еще в 1887 году Львом Шкляром и представлен в одно из министерств, которое так и не удосужилось рассмотреть и использовать изобретение Шкляра. Лев Шкляр, — сын бедного ремесленника, личность незаурядная. За свою тридцатилетнюю жизнь, — умер в 1896 году, — он изобрел много самых разнообразных вешей: аудиофон (аппарат для глухонемых), выпуклые чернила для слепых, пылевоздухоочистители для шахт, контрольный аппарат, предупреждающий взрывы котлов, термостат, тономикрофон, безопасные лампы и др. Кто знает, сколько полезных и даже, быть может, гениальных изобретений подарил бы еще он родине, если бы не его преждевременная смерть от чахотки. И, — кто знает, — если бы мы обладали его „тономикрофоном“, за 20 верст предупреждающим о приближении неприятельских сил, может быть, не имел бы места сольдауский разгром [320], удавшийся врагу благодаря неожиданности его появления. В настоящем году исполняется двадцать лет со дня смерти Л. Шкляра. К сожалению, эта юбилейная дата будет почтена только его близкими. Мы, — общество, — не знаем своих выдающихся людей. * Лев (иврит) — (לב) — "сердце". впоследствии — Шкляр, правда, Борис — руководитель изготовления цельнометаллического дирижабля в "Воздушном корабле". Пусть и не изобретатель, но хотя бы научно-технический руководитель. --- созвучно с "Борис Шварц" — иллюстратор обложки книги А. Беляева https://fantlab.ru/edition273376 Изобретения профессора Вагнера: Материалы к его биографии, собранные А. Беляевым: [Рассказы] / Рис. Б. Шварца *// Всемирный следопыт (Москва), 1929, №4 – с.273-288 Творимые легенды и апокрифы: I. Человек, который не спит – с.273-274 II. Случай с лошадью – с.274-277 III. О блохах – с.277-280 Человек-термо – с.280-288 * Шварц (идиш) — чёрный. Беляев — белый. :::: В рассказе "Голова профессора Доуэля" прослеживаются отсылки к Артуру Конан-Дойлу (Arthur Conan Doyle) Сын профессора Артур Доуэль (Артур Конан-Дойл, в старом правописании Дойль). В рассказе вынужденно стал частным детективом (отсылка к Шерлоку Холмсу того же Конан-Дойла) — искал пропавшего отца. Убитая певица из бара, подлежащая оживлению — мисс Уотсон (в старом правописании помощник Шерлока Холмса доктор Уотсон (Ватсон) ::: Ариэль — переводится как «божий лев» и имеется в виду Лев Иегуды: Ариэль (ангел)[en] — имя ангела в иудаизме. Ариэль (спутник) — спутник планеты Урана. Ариэль (роман) — фантастический роман А. Р. Беляева. Ариэль (город) — израильский город, расположенный на Западном берегу реки Иордан. Фамилии Ариэль, Борис Михайлович (род. 1937) — российский патоморфолог и педагог. Ариэль, Меир (1942—1999) — израильский поэт, певец и композитор. Ариэль, Ури (род. 1952) — израильский политик. Имя Шарон, Ариэль (1928—2014) — израильский военный, политический и государственный деятель, премьер-министр Израиля в 2001—2006 гг. Ариэль — дух воздуха в пьесе Шекспира «Буря». Ариэль — персонаж (дух) в трагедии Гёте «Фауст». Ариэль — персонаж поэмы Александра Поупа «Похищение Локона». Ариэль — главный персонаж одноимённого романа А. Р. Беляева. Ариэль — главная героиня мультфильма «Русалочка» студии Уолта Диснея. * Биной — Бен — Ариэль Бина́ (др.-евр. בינה; bīnāh; «Разум»; «Ум»; «Мысль») — в учении каббалы о происхождении миров третья из 10 объективных эманаций (прямые лучи божественного света) мироздания — так называемых «сфирот» или «сефирот» (мн.ч. от «сефира»), также «цифр» или «сфер»[1], — первых излучений Божественной Сущности, которые в своей совокупности образуют космос[2]. Бен (иврит) — сын :::: Ари+Эль Доу+Эль Эль (Бог) — Борьба в эфире * 6 НИСАНА: ПРИНОШЕНИЯ ГЛАВЫ КОЛЕНА ГАДА В шестой день — предводитель сынов Гада Эльясаф, сын Деуэля. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, смешанной с елеем, для хлебного приношения. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная курением. Один молодой бык, один овен, один агнец по первому году во всесожжение. Один козел в очистительную жертву. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва Эльясафа, сына Деуэля. Да будет угодно Тебе, Г-сподь, Б-г мой и Б-г отцов моих, чтобы осветить сегодня, по милости Твоей великой, святые души, обновляющиеся как птицы, и воркующие, восхваляющие и молящие о святом народе Израиля. Владыка мира, введи и вознеси этих святых птиц в святое место, как сказано, «глаз не видел Б-га кроме Тебя»... Да будет угодно Тебе, Г-сподь, Б-г мой и Б-г отцов моих, что если я, раб Твой, из колена Гада прочитавший в Торе Твоей, главу сегодняшнего предводителя (колена) тогда пусть осветят меня все святые искры, и весь святой свет, заключенный в этом колене, понимать и постигать Тору Твою, и в страхе пред Тобой выполнять волю Твою, все дни жизни моей, я, и потомки мои, и потомки потомков моих во веки веков, Омейн. © Источник: https://moshiach.ru/calendar/1/2537_39_7.... :::: Арбель — псевдоним Беляева (А. Р. Бел (яев) Арбель — гора и национальный парк в Нижней Галилее, в Израиле. Арбель — река в Нижней Галилее, в Израиле. Арбель — мошав в Нижней Галилее, недалеко от Галилейского моря и города Тверия в долине Арбель . Арбель — еврейское поселение, существовавшее с конца эллинистического периода на Земле Израиля. Арбель — долиной в восточной Галилее, которая находится к западу от города Тверия. «Арбель» — псевдоним писателя Александра Романовича Беляева. Фамилия Эдна Арбель — израильский юрист, государственный прокурор Израиля (1996—2004), судья Верховного суда Израиля (с 2004 года). ;;;; Беляев был осведомлён в истории религии. "Так вот, -- продолжал Зайцев, -- Никитина не может решить вопроса, с кем ей работать: с профессором Лавровым или с профессором... -- Но мы же за нее решать не можем, -- снова перебил Сугубов. -- И соперничать нам не пристало. Кто ей кажется краше, пусть того и выбирает. Лицо Лаврова, как всегда, излучало улыбку. Он по очереди переводил взгляд с одного собеседника на другого и, наконец, заговорил: -- Леонтий Самойлович! Мне кажется, что здесь самым правильным будет именно соломоново решение... -- Разрубить этого младенца пополам? -- Сугубов насмешливо кивнул головой в сторону Никитиной. -- Зачем же рубить? Пусть поработает и у вас и у меня. Ну, скажем, по четным дням у вас, по нечетным у меня... или по пятидневкам. Когда она ближе познакомится с работой каждого из нас, ей легче будет сделать окончательный выбор. Правильно я говорю, товарищ Никитина? Нина утвердительно кивнула головой. -- Как же это так, работать и у вас и у меня? -- возразил Сугубов. -- Вы что-то совсем странное предлагаете, Иван Александрович. -- Соглашайтесь, Леонтий Самойлович, -- сказал Зайцев. -- В самом деле, это лучший выход: Никитина только выиграет, ознакомившись с методами двух школ. Сугубов широко развел руками. -- Ну ладно, пусть будет так. Соломоново решение принимаю, но за благие результаты не ручаюсь. Так, неожиданно и вопреки обычаю, Никитина стала помощницей двух ученых, двух "друзей-соперников"." Лаборатория Дубль Вэ" https://toldot.ru/tsarSolomon.html
|
| | |
| Статья написана 17 декабря 2017 г. 11:39 |
http://radikal.ru/…/s019.…/i609/1203/dd/342654b16f78.jpg 3. Оценивая книгу "Зоряный корсар" сам БЕРДНИК в частной беседе выразил уверенность в том, что "империя" /т.е. СССР/ находится накануне краха и мировой катаклизм, о котором идет речь в книге, приведет к кардинальному изменению мира. В результате этой трансформации в 1975-1980 г.г. Украина наконец станет самостоятельным государством”є
В январе с.г. органами КГБ арестован за проведение антисоветской деятельности РОКЕЦКИЙ В.Ю., автор националистического документа “З мрією про українських корсарів”, который на допросе признал авторство этого документа и показал, что основанием для написания документа послужила книга БЕРДНИКА “Зоряний корсар”. /О книге “Зоряний корсар” и рецензии РОКЕЦКОГО докладывалось в ЦК КПУ и СМ УССР № 250/І от 22/Ш-73 г./. 13 марта с.г. БЕРДНИК посетил квартиру известной ФРАНКО З.Т, и в беседе с ней, давая оценку ее “Открытому письму”, опубликованному в газете “Радянська Україна», пытался обрабатывать ее в националистическом духе. /По этому факту КГБ при СМ УССР № 250-І от 22/Ш-72 г. Докладывал ЦК КПУ и СМ УССР/. 23 марта с.г. БЕРДНИК выступил с лекцией о проблемах космоплавания и футурологии в Киевском технологическом институте пищевой промышленности. В ходе лекции он открыто проповедовал идеалистические взгляды на развитие общества, высказывал ряд суждений, чуждый марксистско-ленинской философии, пессимистически отозвался о перспективах построения коммунизма в нашей стране, с идеологически вредных позиций трактовал вопросы о борьбе социалистической и капиталистической систем. С аналогичными лекциями он выступал в г. Николаеве в 1961 г., на Харьковском тракторном заводе в 1967 году, в Харьковском политехническом институте в 1969 году. 28 апреля с.г. антисоветская радиостанция “Свобода” передала информацию, в которой, ссылаясь на опубликование в газете “Літературна Україна” критической заметки “В ролі проповідника”, сообщается, что орган республиканского Союза писателей “Літературна Україна” выступила против украинского советского писателя Александра (...) 3. http://s019.radikal.ru/i631/1204/3e/8f9f7... В той же беседе БЕРДНИК пытался показать себя в роли “поборника истины”, чьи произведения из области научной фантастики не публикуются в СССР лишь потому, что власти относят их к категории “опасных и еретических”. БЕРДНИК советовал ГОРБАЧУ Марку ознакомиться с его философией по книге “Зоряний Корсар”, в которой он отстаивает тезис об иллюзорности познания, о способности человека познать самого себя не через усвоение каких-то политических и социальных концепций, а лишь с позиций “чистой” природы, что только таким путем обеспечивается совершенствование сознания и появляется человек-творец нового. Далее БЕРДНИК рассказал, что он работает над книгой, один из персонажей которой должен “раскрыть сущность материи”. “Все то, что ранее называли материей, — говорил БЕРДНИК, — ее теневой фактор, истинная же материя есть только свет. Он первичен, а все остальное, все структуры и человек – это вторичное”. Отсюда, по утверждению БЕРДНИКА, возникло постоянное влечение человека к свету, ко всему новому, отсюда – необходимость постоянного боя со всем старым, темным”. За последнее время БЕРДНИК с явным намерением привлечь к себе внимание активизировал свои действия по получению разрешения на выезд за границу, воспользовавшись поступившим из Канады приглашением прочитать курс лекций по фантастике в т.н. украинском университете им. Г. Сковороды. В частной беседе БЕРДНИК заявил, что с 19 по 23 марта сего года он находился в Москве и обратился с заявлением в ЦК КПСС с просьбой разрешить ему выезд в Канаду в связи с тем, что его “притесняют и не печатают”, что он является объектом якобы незаконных обвинений и нападок со стороны советской прессы” 1.http://i023.radikal.ru/1204/e7/3881a8538a... КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ при РАДІ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 15 июня 1973 № 398 г. Киев. Тов. Щербицкому В.В. доложено 19. VI 1973 Совершеноо секретно. экз № __ ("1"? — примітка) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ В мае 1973 года приемную КГБ при СМ УССР дважды посетил находящийся под наблюдением органов госбезопасности БЕРДНИК Александр Павлович, 1927 года рождения, уроженец с. Вавилово Снегиревского района Херсонской области, украинец, беспартийный, бывший член СПУ, не работающий, житель гор. Киева И высказал просьбу встретится с руководством Комитета госбезопасности республики. С учетом этого он был 7 июня с.г. приглашен для проведения профилактической беседы и объявления официального предостережения в качестве меры профилактического воздействия, предусмотренной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 года. Решение о применении в отношении БЕРДНИКА профилактических мер принято на основании имеющихся материалов о том, что он хранил антисоветскую работы И.ДЗЮБЫ “Інтернаціоналізм чи русифікація?”, изготавливал документы идейно вредного содержания, которые были изъяты у него при обысках в апреле 1972 года и в апреле 1973 года, распространял в устной и письменной форме провокационные измышления о “притеснениях” и “преследованиях” его со стороны органов 2. http://s42.radikal.ru/i097/1204/82/45671c... Советской власти, поддерживал связи с иностранцами, проводившими враждебную деятельность против СССР. /Подробно о характере действий БЕРДНИКА А.П. Комитет докладывал в марте-июле 1972 года и в апреле 1973 г./. В ходе профилактической беседы БЕРДНИК признал, что в ряде случаев он “оказывался не на высоте”, как в суждениях со своими знакомыми, так и в ведении записей. Он не отрицал факта негативного влияния отдельных его высказываний по вопросам литературы, искусства, государственного строительства, национальных отношений на окружающих и рассказал, что некоторые изъятые у него черновые наброски содержат националистические взгляды, так как они предназначены для его трилогии, в которой он собирается показать прошлое и настоящее Украины. По поводу распостранения измышлений о “притеснениях” и “преследованиях” его со стороны органов власти БЕРДНИК заявил, что в 1972 году он объявлял голодовку и писал в инстанции письма в знак протеста после проведенного у него на квартире обыска. В тех же целях, а также в расчете на поддержку писательской общественности он объявил голодовку и написал ряд писем после того, как газета “Радянстка Україна” в статье “Турист за дорученням” показали его в роли лица, принимающего подачки от иностранцев и, в частности, от гражданина ФРГ Марка ГОРБАЧА, выдворенного за враждебную деятельность из СССР в феврале 1973 года. БЕРДНИК согласился с тем, что ему, как литератору, следует быть более разборчивым в контактах с приезжающими в СССР иностранцами. Вместе с этим он заявил, что не видит ничего предосудительного в том, что некоторые его читатели присылают ему посылки из-за рубежа или передают подарки. Ознакомившись с содержанием Указа и протоколом об объявлении ему предостережения, БЕРДНИК пытался утверждать о том, что его поступки якобы не расходятся с интересами безопасности Советского государства и что его “излишне откровенные” высказывания... 4. http://radikal.ru/…/s019.…/i615/1204/c1/2e56ddb6d695.jpg своих записей не показывал, постоянно держал их при себе. /Копии отдельных записей прилагаются/. Признавая несовместимость некоторых его поступков с высоким званием писателя, БЕРДНИК заверил органы государственной безопасности о том, что сделает для себя необходимые выводы и постарается доказать это “в достойной для советского гражданина форме”. Вместе с тем, БЕРДНИК по существу содержания протокола б объявлении ему предостережения ограничился лишь общими ответами и уклонился от дачи обстоятельных пояснений по ряду вопросов о характере его контактов с враждебно настроенными лицами. В конце беседы БЕРДНИКУ было указано на то, что некоторые изъятые у него рукописи носят антисоветский националистический характер и содержат признаки преступления и что в случае повторных с его стороны действий, затрагивающих интересы государственной безопасности, он будет привлечен к уголовной ответственности. В результате проведенной с БЕРДНИКОМ беседы и объявления ему профилактической меры – официального предупреждения – можно сделать вывод, что это окажет на него определенное сдерживающее воздействие. Поступившие после проведения профилактики оперативные данные в отношении БЕРДНИКА указывают на то, что он менее активно посещает свои связи, проявляет озабоченность о трудоустройстве. Докладываем в порядке информации. ПРИЛОЖЕНИЕ: на “21” листах ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОМ УКРАИНСКОЙ ССР В. ФЕДОРЧУК Разослано т.т. Тулаку И.К., Грушецкому И.С., Ляшко А.П. и Маланчуку В.Е. * * * До речі, зі статті "Реліктовий месія" «Працюючи вітражистом у Київському комбінаті монументально декоративного мистецтва, Бердник напровесні цього року умудрився два тижні прогуляти. В повітрі запахло (не юшкою!) — доганою. Прогуляв ще... Хто зна, в яких там астральних сферах микався чоловік, в яких потойбічних світах носило його, але робота, що мала б бути ним виконана, стояла. Цього разу в повітрі запахло (знову ж таки не масною юшкою!) – звільненням. І тоді Бердник зчинив вереск про... порушення прав людини. За долами, за морями знайшлися вуха, що почули той вереск, знайшлися й язики, що співчутливо зацмакали: — І справді права людини порушують! Тц-тц-тц, мой-мой-мой — яка особистість гине! А коли придивитися ближче, розібратися об'єктивніше, то неважко переконатися, що немає і не було ніякої особистості. Був і є духовний спекулянт, який давно і добровільно розминувся з усіма людськими правами і обов'язками. Микола БІЛКУН, 12 серпня 1977 р. Газета «Літературна Україна» Продолжение в оригинале: https://www.facebook.com/permalink.php?st...¬if_id=1513501039221582¬if_t=feed_comment
|
| | |
| Статья написана 14 декабря 2017 г. 21:32 |
— Это было в тысяча девятьсот пятьдесят втором году, в ночь под пятьдесят третий. Я был тогда студентом, жил на Фонтанке, в новом доме-коммуне студентов-электротехников. Группа товарищей, кончавших институт, встречала Новый год у меня. Летом пятьдесят третьего года мы должны были получить звание инженера и разлететься в разные стороны. Естественно, мы заговорили об этом. Куда занесет нас судьба?.. Увидимся ли мы в следующую ночь под Новый год?
И надо же было мне выступить с таким необдуманным предложением. — Товарищи! — сказал я. — Давайте дадим друг другу слово, что, где бы мы ни были, ровно через год, в 24 часа каждый из нас будет сидеть за своей приемно-передающей радиостанцией, и я всех вас поздравлю с Новым годом, а потом передам это поздравление от каждого каждому. Мое предложение было принято почти единогласно. И только один мой друг Глебов тряхнул своей черной курчавой головой, засмеялся и воскликнул: — Я против, потому что твое предложение в той форме, как ты его сделал, совершенно невыполнимо, неосуществимо. — То есть как это неосуществимо? — спросил я. — Разве мы не беседуем друг с другом по радио каждый день? Разве наши радиостанции… — Он просто очень плохого мнения о всех нас, — сказал, смеясь, один из гостей. — Глебов уверен, что, разъехавшись, мы тотчас забудем друг друга. Глебов вложил свою руку в мою и промолвил: — Ну, вот что. Если ты еще и сейчас не понял нелепости своего предложения, то надо наказать тебя за твою недогадливость. Хочешь пари на шар-прыгун? Я утверждаю, что ни одного из нас ты сам не поздравишь с Новым годом вовремя — ровно в полночь. Это был уж вызов, а я был горяч и принял пари. На другой день, чтобы не забыть, я достал новый — на 1953 год — перекидной календарь и на последнем листке, 31 декабря, написал красным карандашом: РОВНО В ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА ПО РАДИО. Все в порядке… Пятьдесят третий год начался, и дни побежали за днями. Зиму сменила весна, весну — лето, мы получили аттестаты и действительно разбрелись в разные стороны. В Ленинграде остались только я — аспирантом института — и два товарища, которые должны были стажироваться радистами на стратопланах, — Питт и Алиев. Пока они работали в лаборатории. Первый же их полет предполагался не ранее конца года. И вот, 30 декабря, за день до кануна нового, 1954 года, ко мне в комнату вбежали радостно возбужденные Питт и Алиев и сообщили, что сегодня в полночь они летят в первый кругосветный полет на стратопланах — один из них в восточном направлении, другой — в западном. — Но так как весь полет продлится не более двадцати четырех часов, то мы надеемся, быть может, с небольшим опозданием встретить Новый год с тобою, — сказал Питт. — Ты помнишь, конечно, о пари? — Разумеется, — отвечал я. — Мы будем свидетелями. А теперь прощай, спешим. Итак, до полуночи через сутки. И они быстро ушли. На другой день, 31 декабря, в двадцать три часа пятьдесят минут я уже сидел в боевой готовности у радиоаппарата. Рядом с аппаратом стояли выверенные часы и лежал список товарищей, которых я должен поздравить с Новым годом. Против каждой фамилии отметка — длина волны его радиостанции. Посмотрев на этот список, я впервые почувствовал, что могу проиграть пари. Мне нужно было поздравить человек пятнадцать. Для каждой станции надо «перестраивать волну». Как ни быстро это делается, а «ровно в полночь» всех не поздравишь. Впрочем, ведь Глебов утверждал, что я вовремя не поздравлю ни одного. Посмотрим… Ровно в 24 часа ноль секунд я послал первый новогодний привет московскому товарищу. — Увы, мой друг, ты опоздал со своим поздравлением по крайней мере на полчаса, — услышал я его ответный голос, — в Москве мы уже встретили Новый год. Быть может, у него часы неверны… Но мне некогда было раздумывать. Я уже поздравляю саратовского друга. В ответ я услышал веселый свист и слова: — В Саратове уже целый час Новый год. И я сразу понял все. Каким же я был олухом, заключив столь необдуманное пари. Я упустил из виду разницу между ленинградским и местным временем. Конечно, я хорошо знал об этом. Но как в старину говорили, на всякую старуху бывает проруха. Оскандалился. Мне больше ничего не оставалось, как из упрямства продолжать свои поздравления. А отчасти меня и самого заинтересовала эта «проверка местного времени». Свердловск мне ответил, что у них прошло два часа с наступления нового года. Сердитый друг из Омска спросил меня, какой это олух будит его в три часа ночи. Иркутск — тоже не очень ласково — ответил, что в пять часов утра с Новым годом не поздравляют. Хабаровский друг поспешно ответил: — Благодарю. Допиваю утренний чай. Спешу на работу. Семь утра. А зимовщик на острове Врангеля сообщил, что мое поздравление застало его во время десятичасового утреннего завтрака. Дальше. Но дальше у меня на востоке не было друзей, и я направил свою волну на запад. Здесь меня преследовала неудача. Берлинский друг сказал мне, что я поторопился со своим поздравлением: у них в Берлине еще 23 часа 31 декабря 1953 года. Этот ответ вселил в меня слабую надежду, что я еще могу выиграть пари хоть наполовину, — поздравить хотя бы одного — берлинского товарища, дождавшись, когда в Берлине будет ровно полночь. Но эта надежда, конечно, тотчас лопнула: увы, берлинского друга я мог бы поздравить вовремя по-берлински, только когда мои часы показывали бы уже около часа ночи, то есть не вовремя по-ленинградски… Мои радиоволны уже без надежды на успех летели на запад… В комнату быстро вошли два мои друга-радиста. — Мы, кажется, немного опоздали. Это вина уж не стратоплана, а автомобиля, который вез нас от аэродрома. Мы ползли с черепашьей, земной скоростью, — сказал Алиев, летевший в западном направлении. — Лучше поздно, чем никогда, — сказал я. — Поздравляю с Новым годом! — С Новым годом? — переспросил Алиев. — Прямо не знаю, что тебе ответить — принять ли это поздравление? Я бы мог побиться на какое угодно пари, что сегодня все еще 30 декабря, самое большее, — он посмотрел на часы, — десять минут 31 декабря 1953 года. — Никогда не заключай пари, — меланхолически ответил я. — Но ты, Алиев, меня удивляешь. Ты не только готов отрицать наступление нового года, но утверждаешь, что сегодня даже не 31, а 30 декабря истекшего года. — Суди сам, — ответил Алиев, — я вылетел на стратоплане в западном направлении ровно в полночь 30 декабря. Так? И что же? С того момента, как я полетел, я готов биться об заклад, что время стало… — Никогда не бейся об заклад. Но объясни, как это время стало. Часы перестали идти? — спросил я его. — Нет, положим, часы шли как всегда. И по часам как будто и прошли сутки со времени моего отлета. Часы шли, а время не шло. Я находился в пути двадцать четыре часа как будто. Но я не видал восхода солнца, словно оно куда-то провалилось, я не видал дня. Целые сутки продолжалась непрерывная ночь. Можно было подумать, что я нахожусь на Северном полюсе. Но и в полярную ночь время движется, — движется луна на небе, движутся звезды. А во время моего полета небо словно застыло, небесные часы остановились. Звезды видны были прекрасно, я делал наблюдения над ними точнейшими навигационными инструментами — и ни малейшего склонения. Вот та звезда, — он показал в окно, — как сейчас стоит, так и простояла весь путь неподвижно. Ну, разве после этого нельзя сказать, что я выиграл у жизни сутки? — смеясь, закончил он. — Ну, а с тобой что случилось? — спросил я Питта, летавшего в восточном направлении. — Со мной, — ответил Питт, — случилось, пожалуй, еще более необычайное. Если Алиев отказался принять твое поздравление потому, что, по его мнению, остались еще целые сутки до встречи Нового года, то я готов биться об заклад… — Не бейся об заклад! — упрямо повторял я. — Я все-таки готов биться об заклад, что сегодня уже… — он посмотрел на часы — было 15 минут первого, — что сейчас уже 2 января 1954-го. Я почувствовал, что у меня голова начинает пухнуть от этих встреч Нового года. — Вы меня с ума сведете! — воскликнул я. — Как это 2 января? — Да вот как. За двадцать четыре часа я прожил двое суток. Слыхал ли ты о чем-нибудь подобном? Этак я вдвое быстрее состарюсь, если всегда буду летать в восточном направлении. В продолжение одних суток я дважды видел восход и заход солнца. Каждый этот день и каждая ночь длились — по моим часам — всего по шести часов. Да, я пережил за одни сутки двое «укороченных» суток. И сейчас для меня 16 минут третьих суток — 2 января. — Вот так история! — воскликнул я, пытаясь разобраться во всем этом. И в тот же момент я услышал голос Глебова — он, злодей, не забыл о пари. — Алло! Что же ты не поздравил меня с Новым годом? Проиграл пари!.. — Глебов засмеялся. — Ты проиграл бы его, милый друг, даже в том случае, если бы поручился, что поздравишь ровно в полночь товарища, живущего на другом конце Ленинграда, потому что в таких больших городах, как Москва и Ленинград, в восточной части города новый год наступает по крайней мере на полминуты раньше, чем в западной. — Стоит ли спорить о полминутах и даже часах, когда вот тут у меня сейчас Алиев и Питт спорят о том, какая сегодня ночь — с 30-го на 31 декабря прошлого года или с 1-го на 2-е нового года? Тут, братец ты мой, разница в несколько суток. — На этом меня не проведешь, — отвечал Глебов. — Алиев летел на запад со скоростью вращения земли — в направлении, обратном этому вращению. Ясно, что для него звезды как бы неподвижно стояли над стратопланом и «время не двигалось». Питт же летел на восток. И его стратоплан, получив при отлете поступательную скорость самой земли при ее движении вокруг оси, прибавил такую же скорость, развиваемую самим стратопланом, в том же восточном направлении. Ясно, что для него в одни сутки должны были протечь двое, как в тон случае, если бы земля начала вертеться вдвое быстрее. А пари ты все-таки проиграл. Попрыгаю я теперь на твоем шарике! 



Рис. — C.6-9; журнал Ёж №12/1933
|
|
|











 облако тэгов
облако тэгов




