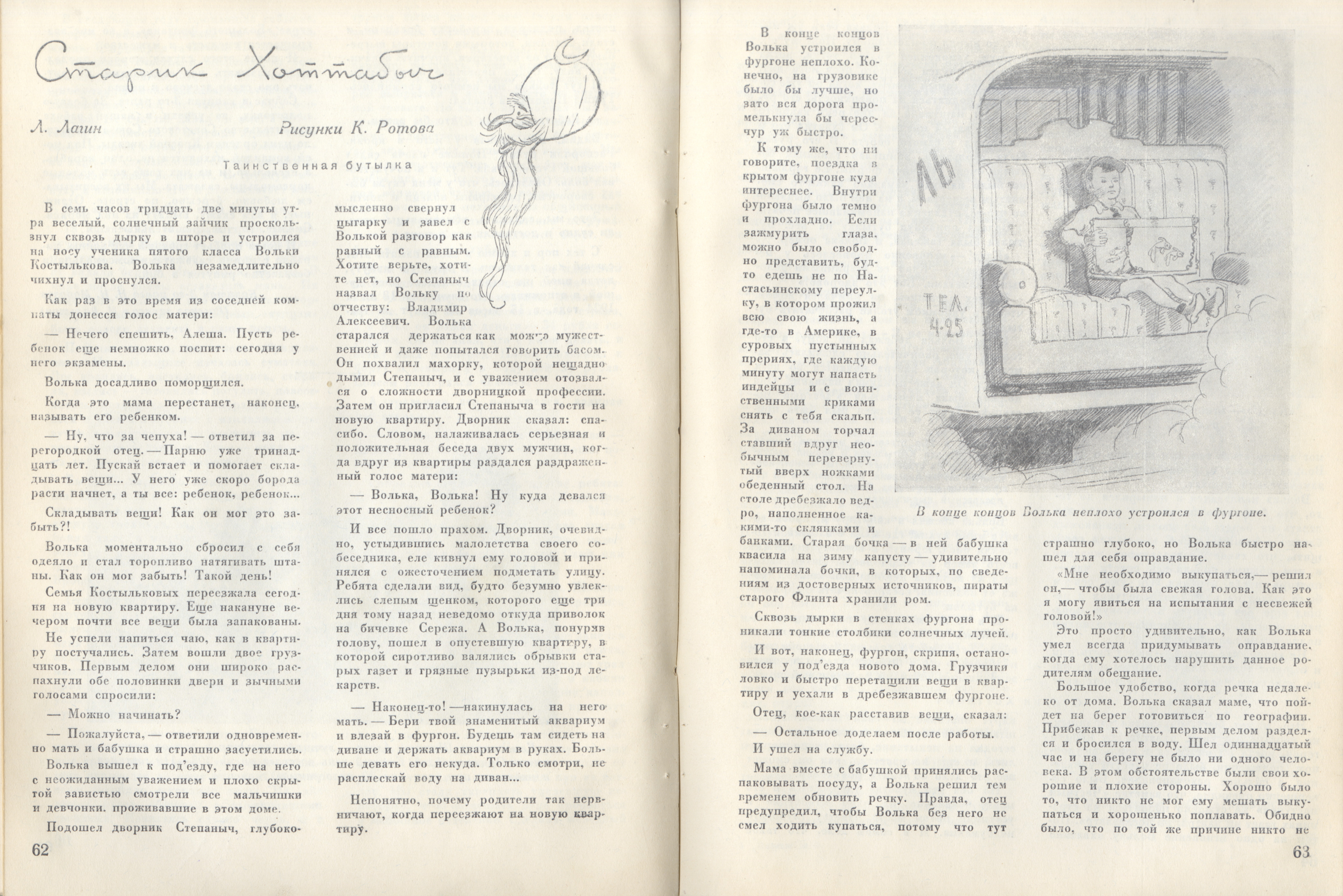| |
| Статья написана 30 июня 2017 г. 11:22 |
В новом выпуске «Ста лекций» — 1938 год повести Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика» и Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». Дмитрий Быков рассказал о попытках писателей честно и легально рассказывать о временах большого террора, почему произведение Гайдара, — «Повесть о состоянии круглосуточного невроза», зачем Лазарь Лагин три раза переписывал своего «Хоттабыча», почему Хоттабыч — самый живой герой сталинской эпохи, а также о вторжении инфернальных персонажей в хорошую советскую жизнь и «суровой и страшной атмосфере» 1930-х годов.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередная лекция из нашего цикла «Сто книг — сто лет». Мы говорим о 1938 годе и о повести Гайдара «Судьба барабанщика». Ее публикация началась в 1938, была остановлена, потом неожиданно Гайдару присудили орден «Знак почета», награду, которая сразу вывела его из-под нескольких критических ударов и сняла подозрения у издателей. И «Судьба барабанщика» начала печататься заново, а потом вышла отдельной книгой. 1938 год, как вы понимаете, не самое благоприятное время для фиксации того, что происходит вокруг. Мы поговорим, собственно, о двух книгах этого года, и обе детские. Это «Старик Хоттабыч» Лагина и, понятное дело, «Судьба барабанщика» Гайдара. Они образуют, вообще все эти книги 1938 года, такую своеобразную тетралогию. «Судьба барабанщика», «Хоттабыч», «Пирамида» Леонова, начатая тогда, и, естественно, «Мастер и Маргарита». У трех книг были проблемы с публикацией, только «Хоттабыч» был опубликован легко и сразу. А повествуют они о вторжении в Москву потусторонних сил. В повести Лагина находят джинна, в романе Леонова прилетает ангел, или ангелоид, как он там назван. В романе Булгакова Москву посещает сатана, а в повести Гайдара в Москву приезжает такой инфернальный, тоже со свитой, дядя, шпион западный, как выясняется впоследствии. На вопрос о происхождении этого дяди НКВДшник показывает куда-то в сторону, куда садится солнце, стало быть, с Запада приехал. Но дядя, он тоже, как и все остальные инфернальные персонажи, Воланд, в частности, он обладает свитой, обязательно. У дяди есть старик Яков, помесь Паниковского и Коровьева, и есть роковая старуха, бывшая, видимо, аристократка, с которой встречаются герои в Киеве. Помешанная такая страшная баба, которая потом перекочевала в рыбаковскую «Бронзовую птицу». Почему в этот момент пишутся повести о вторжении инфернальных персонажей в хорошую советскую жизнь? Да потому что в эту жизнь вторгается слишком много иррациональных вещей, которые средствами соцреализма уже не больно-то объяснишь. И дьявол, и ангел, и джинн, и дядя — это все явления одного плана. Это обаятельные, человечные с виду, циничные страшные вредители, которые почему-то вдруг очень комфортно начинают размещаться в советском быту. «Судьба барабанщика» Гайдара — это единственная попытка детского писателя, а другие вообще за это не брались, честно и легально рассказать о временах террора. Отец главного героя, участник гражданской войны, арестован за растрату. Растрата эта у него случилась на почве того, что он женился на молоденькой и хорошенькой, довольно подлой бабе, которая сразу бросила его. А ради нее воровал. Ну, все в соответствии с классическим романсом «ее в грязи он подобрал, чтоб угождать ей, красть он стал». В первоначальной редакции повести отца сажали просто по ложному обвинению, он был полностью оправдан потом, в духе бериевской оттепели. Но ясно, что в эпоху «ежовщины» его могли посадить за что угодно. Не за растрату, за ложный донос, на него написанный, за то, что он участвовал в гражданской. В эпоху русского реванша выбивалась вся ленинская гвардия и заменялась сталинской. В общем, хватало поводов. Но вот его сын, который остается один, и который, что называется, идет не по той дорожке. После того, как уехала Валентина, вторая жена отца, оставив ему какие-то деньги, он начинает тратить эти деньги необоснованно быстро, попадает в дурную компанию. Тут, нащупав брешь в советском строе, попадается в его квартиру некий дядя таинственный, якобы родственник Валентины, на самом деле все это легенда. Потом он увозит его в Киев. В Киеве заставляет подружиться с сыном авиаконструктора, потому что их интересуют бумаги авиаконструктора. Ну, и в некий роковой момент мальчик все-таки восстает против страшного соблазнителя и спасает друга. Вся эта фабула «Судьбы барабанщика», она вторична. Первична в этой повести атмосфера, ощущение страшной роковой неправильности, которая накатила на правильного, на хорошего человека. А хороший человек, он такой прямой, действительно, ведь этот Сергей сам абсолютная копия отца. Отец красный командир бывший, человек без оттенков, без особых колебаний, человек, который любил советскую власть и готов был ей служить. В новую реальность он так и не вписался, как не вписался и Гайдар. Гайдар всю жизнь мечтал о возвращении в армию, потому что в армии все понятно. Новая жизнь, которая началась, она с одной стороны требует повышенного энтузиазма, героизма, восторга, а с другой стороны — постоянной лжи, к которой он совершенно не готов, постоянной жестокости, к которой он не готов тоже. Пришли новые люди, другие люди, а старую гвардию оттеснили, потому что это были люди, худые или хорошие, это отдельная тема, но принципиальные, люди с убеждениями. Среди вот этой новой России, России почему-то очень криминальной, как она описана в «Судьбе барабанщика», России хитрецов, врунов и доносчиков, Гайдар чувствует себя крайне некомфортно. Он говорил, «эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война». Так вот точнее всего сказать, что она о суровой и опасной атмосфере, о страшной атмосфере, в которой все боятся всех, в которой все зыбко, неровно, в которой постоянная ложь пропитывает любые отношения. Вот эта зыбкость и тревога, ощущение, что все идет не туда, это доминирует в «Судьбе барабанщика». Почему эта вещь так называется? Почему, собственно говоря, барабанщик? Вообще барабанщик, еще в песенке, переведенной Светловым, помните, «средь нас был юный барабанщик, в атаку он шел впереди», барабанщик — это вот символ тревоги. Это очень важно подчеркнуть. Барабан, это не то, что мобилизует на бой, это не то, что обязательно является символом несгибаемости и героизма, нет. Барабанщик бьет тревогу, и тревога — это ключевое слово в этой гайдаровской повести. Сергей, он постоянно живет предчувствием катаклизма, и совершенно прав Евгений Марголит, я часто его цитирую, он хороший знаток советской эпохи, когда он пишет о том, что эта повесть об атмосфере постоянного, круглосуточного невроза, который может быть разряжен только войной. И никого не облегчает мысль о том, что кругом шпионы, вредители, злодеи. Ясно, что что-то сдвинулось непоправимо в самой стране, и никакие злодеи, никакие шпионы тут ни при чем. Шпиономания при чем, потому что надо все время чьим-то чужим вмешательством объяснять собственный роковой тупик. «Судьба барабанщика» была колоссально популярна в то время. Это была одна из самых любимых повестей, потому что она вошла в резонанс с самоощущением читателей. Другая повесть 1938 года, которая была так же популярна, это печатающаяся в «Пионерской правде», насколько я помню, «Старик Хоттабыч». Лагин вызывает довольно полярные оценки. С одной стороны, нельзя отрицать того, что это очень советский писатель. Даже, я бы сказал, советский фельетонист. Он, конечно, фантаст, и фантаст не последнего разбора, некоторые его тексты очень хороши, например, «Майор Велл Эндъю», замечательная повесть, которая продолжает и варьирует темы уэллсовской «Войны миров». У него был недурной роман «Голубой человек» о путешествии во времени, о человеке, который ударился головой и попал неожиданно в 1895 год. Это история такая, как-то странным образом предварившая рыбасовского «Зеркало для героя», из которого получился знаменитый фильм. Но при всем при этом Лагин, при всей свой изобретательности, он очень советский человек. Советский даже в быту, в мелочах, вот Виталий Дымарский вспоминает, например, о нескольких лагинских доносных фельетонах, были, да, доносительских. Да и в жизненной своей практике он был человек неприятный. Удивительно, что Стругацкие вспоминают о нем очень радостно, почти восторженно, говорят, что это был замечательный покровитель молодых талантов, остряк, талантливый, яркий человек. Ну да, яркий, но при всем при этом страшно идеологичный, страшно зашоренный. И он трижды переписывал «Хоттабыча», всякий раз приноравливая его к обстоятельствам. И неслучайно вместо Хапугина, отвратительного типа и такого, чисто советского, бандита, у него появился во второй редакции американский миллионер, отвратительный тип. Тогда уже можно было ненавидеть Америку и модно было ненавидеть Америку, это вам не тридцатые годы, когда она нам только что помогала с индустриализацией. Вообще он сильно испортил повесть, это получился памфлет. А изначально история была очень милая, и даже, в общем, смешная. Некоторые главы из нее остались неизменными, например, история про матч «Шайбы» и «Зубила», на котором Хоттабыч стал отъявленным футбольным болельщиком. Но большая часть, конечно, претерпела сильные идеологические вторжения, очень неприятные. Повесть эта была изначально таким, может быть, единственным светлым пятном на фоне всех повествований о вторжении нечистой силы в Москву. Дьявол из Москвы улетел, сказавши, что квартирный вопрос испортил, но ничего принципиально нового. Ангел тоже улетел, у Леонова, потому что Сталин попытался его сагитировать поучаствовать в истреблении человечины, как ему это казалось, как он это называет, а ангелу не хочется в этом участвовать. Шпиона поймали, разоблачили. Остался только джинн. У джинна все хорошо, джинна приняли в почетные пионеры. Почему так получается? Да потому, что прав был совершенно Пастернак, называя Сталина «титаном дохристианской эпохи». Христианским понятиям, понятиям добра и зла, и ангелу, и дьяволу, в Москве делать нечего. А джинну, у которого о морали понятия самые восточные и самые древние, самые относительные, джинну хорошо. Джинн — дохристианская сущность, и он в сталинской Москве чувствует себя прекрасно. Как ни странно, жизнерадостная повесть «Старик Хоттабыч» тоже полна тревоги, тревоги, которая разлита во всем пространстве 1938 года. Все постоянно опасаются наказания, школьник Волька Костыльков трясется перед экзаменами, проигрывающая команда боится, что ее накажут, разоблачения боится Женя Богорад, председатель совета отряда. Все постоянно боятся репрессий, потому что главное, что в этом обществе уже есть, — это истерика, экзальтация, вызванная страхом. И вот этот страх со всех сторон, он у Лагина запечатлен довольно достоверно. Ничего не боится только Хоттабыч, потому что Хоттабыч полагает, что все идет правильно, во-первых, а, во-вторых, Хоттабыч в восточной деспотии чувствует себя на месте. Ему все здесь нравится, ему нравится порядок, строгость, роскошь этого мира, богатство этого мира, жесткость его порядков. Хоттабыч — это самый актуальный, самый живой герой позднесталинской эпохи, в отличие от живого мальчика Сергея, которому в ней так неуютно. Тут поступил вопрос, которого я тоже ждал, который совершенно неизбежен, вопрос о психической вменяемости Гайдара в 1938 году. Известно, что Гайдар лечился от депрессии, что он именно в санатории познакомился с Зоей Космодемьянской, которая с ним в подростковые годы дружила. Но не потому, что она была сумасшедшей, хотя у нее был невроз, и не потому, что Гайдар был сумасшедшим, а просто таким барабанщикам, таким честным, прямым и упертым людям, им не очень хорошо было в 1937-1938 годах. Они понимали, что все заворачивает куда-то очень сильно не туда, что детей заставляют отрекаться от родителей, что везде царит шпиономания, что идут расстрельные митинги с требованием наказать еще строже, а иногда расстрелять уже расстрелянных. В общем, страшное дело. Гайдар в этой эпохе чувствовал себя очень не на месте. Он написал тогда зашифрованную повесть «Дурные дни», которую до сих пор не расшифровали, она хранится в его архиве. Много есть записей у Гайдара, в его дневниках, в его черновиках, которые не поддаются однозначному прочтению. Его мучают кошмары о детстве, о молодости, знаменитые сны по схеме номер один и сны по схеме номер два. Но главное, что его мучает, — это несоответствие того, о чем он мечтал, и того, во что он попал. Я бы сказал, я рискнул бы сказать, что только человек, страдающий от депрессии, в то время нормален. А тот, кто в это время не страдает от депрессии, тот страдает отсутствием эмпатии и душевной глухотой. Моя соседка по даче девочкой жила с Гайдаром в одном дворе и рассказывала, что дворник несколько раз вытаскивал его из петли. И это правильно со стороны Гайдара, это единственная нормальная реакция. Потому что жить в эту эпоху и не думать о самоубийстве, не сходить с ума — это удовольствие для людей, намертво душевно оглохших. А поскольку Гайдар был очень крупным писателем, он понимал то, что вокруг него происходит. Может быть, он был в это время самым здоровым. https://tvrain.ru/lite/teleshow/sto_lekts...
|
| | |
| Статья написана 28 июня 2017 г. 21:39 |
Спасибо Антону Первушину! 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. ИСАЕВ-ШТИРЛИЦ Дорогие друзья, открываю новую рубрику в своем блоге "Литературный детектив". Здесь я буду публиковать свои материалы об истории создания литературных произведений и реальных прототипах известных литературных героев. Первый мой материал посвящен легендарному и культовому персонажу Штирлицу. Буду благодарен за разумную критику и поправки, если таковые будут. Предупреждаю, что эти материалы — моя личная версия, которая может отличаться от других, более принятых и популярных версий. http://www.liveinternet.ru/users/publizis... 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПРОТОТИПЫ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА. Готовясь к новой передаче моего радиоцикла «История фантастики», я набрел на материал, который сам стал проситься в мою рубрику «Литературный детектив». И я не смог устоять перед ним. Итак.... тайна инженера Гарина. Кто был реальным протипом романа Алексея Толстого. Кто из нас в детстве не зачитывался двумя нучно-фантастическими романа Алексея Толстого «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина»? Таинственные события романов погружали нас в иллюзорный мир, полный секретов, шпионов и невероятных научных открытий. Сейчас эти романы читаются совершенно иначе. Мы уже можем увидеть идеологизм и натянутость, порой лубочность. И все же сама фигура инженера Гарина до сих пор притягивает внимание читатлей, которые поневоле задают себе вопрос: а был ли реальный прототип этого героя. http://www.liveinternet.ru/users/publizis... Аэлита без цензуры и Толстой без прикрас О сборнике Алексея Толстого «Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина: Романы» Мечты о Марсе 

https://fantlab.ru/edition192377 Василий Владимирский, 11 июня 2017, 08:38 — REGNUM Забавно начинается предисловие к этому сборнику: «— Можно ли назвать Алексея Николаевича Толстого фантастом? — Ни в коем случае! — воскликнет любой отечественный литературовед». Понятно, что эта простодушная готовность расписаться за «любого отечественного литературоведа» со стороны Антона Первушина, писателя, научного журналиста и финалиста премии «Просветитель» — сознательная провокация. Такая игра: давайте сделаем вид, что нас забанили на «Гугле», прикинемся, будто не существует диссертаций «Русский научно-фантастический дискурс XX в. как лингвориторический конструкт» Галины Стасива, «Психологизм «романов о будущем» А. Толстого и Е. Замятина» Виктории Сахаровой, «Становление популярного жанра как дискурсивный процесс: научная фантастика в России конца XIX-начала XX века» Артема Зубова — и десятков других работ, полностью или частично посвященных именно Толстому-фантасту. Пусть читатель возмутится, встанет на рога, перероет архивы и по ходу дела пополнит копилку знаний. Проблема в том, что такое вступление подрывает доверие — не только к автору предисловия, но, увы, и к изданию в целом. А жаль: тексты, собранные под этой обложкой, кардинально отличаются от тех версий «Аэлиты» и «Гиперболоида инженера Гарина», которыми плотно заставлены полки книжных магазинов. Издатели подготовили сюрприз для историков литературы и сторонников аутентичности: в этой книге впервые за восемьдесят с лишним лет опубликованы первоначальные редакции двух научно-фантастических романов «красного графа», восстановленные по ранним изданиям. По крайней мере, «Гиперболоида…»: «Аэлиту» недавно переиздавали — но скромным тиражом, по несусветной цене, на радость коллекционерам и библиофилам. Это же издание рассчитано на широкую аудиторию, то есть доступно всем и каждому, было бы желание и интерес. Подробности: https://regnum.ru/news/cultura/2284167.html 
Юлия Старцева: По поводу "Гиперболоида" — напрашивается сопоставление с фантастическими изобретениями инженера в романе "Подвиг" генерала Краснова (последний роман трилогии). Никто этой темой не занимался, прежде всего по незнанию наследия антисоветчика П.Н. Краснова. Сам технический аспект интересен: он основан на общем материале, на прототипе изобретателя, человека из "первой волны" русской эмиграции. Может быть, Антон Первушин (Anton Pervushin) занялся бы разысканиями? ДВА "ПОДВИГА" С. К. ENZEL Интересно, что два русских писателя, В.В.Набоков (тогда ещё В.Сирин) и П.Н.Краснов, практически одновременно писали и в один — 1932-й — год целиком издали романы под одинаковым названием "Подвиг". Набоков начал и в значительной мере написал свой роман ещё в 1930 г., Краснов писал свой с апреля 1931 по январь 1932 г. В чём тут дело, как это объясняется? Случайное совпадение? Трудно представить, чтобы в узком мирке русской литературной эмиграции такое было возможно. Следует принять во внимание, что роман Набокова с февраля 1931 г. стал печататься частями в журнале "Современные Записки". Не засел ли Краснов в апреле за свой роман как бы в ответ на появление нового романа молодого "чудовища"? Известно, что Набоков хотел сначала назвать свой роман "Романтический век", но передумал. Краснов, несмотря на появление романа под названием "Подвиг", дал своему именно такое же название. Эмигрантская критика не могла пройти мимо этого факта — или всё-таки прошла? yu_sinilga Я задумывалась об этой перекличке, глубокоуважаемый Энзель, когда года три назад читала Краснова ("Подвиг" Набокова еще в универе прочла): ведь сама суть "подвига" в том, что люди из Зарубежья идут в оккупированную Россию, в Совдепию. Очевиден повтор в сюжетной линии. Разумеется, это сделано П.Н. в ответ безсмысленной гибели героя у Сирина-Набокова: перешёл границу без всякой цели, ностальгируя по утраченной Отчизне, и вот — "Россия, полночь, час расстрела и весь в черёмухе овраг". У Краснова идут мстители: "Коммунизм умрёт — Россия не умрёт". Отмечено ли эта параллель эмигрантской критикой — не знаю. Теперь, скорее всего, да. Это у Олега Коростелёва надо спрашивать (не помню, есть ли у него ЖЖ, вроде был), бывшего коллеги Волкова по известному Фонду. http://enzel.livejournal.com/176824.html https://fantlab.ru/work444812
|
| | |
| Статья написана 28 июня 2017 г. 18:22 |
 

обложки журналов тех лет 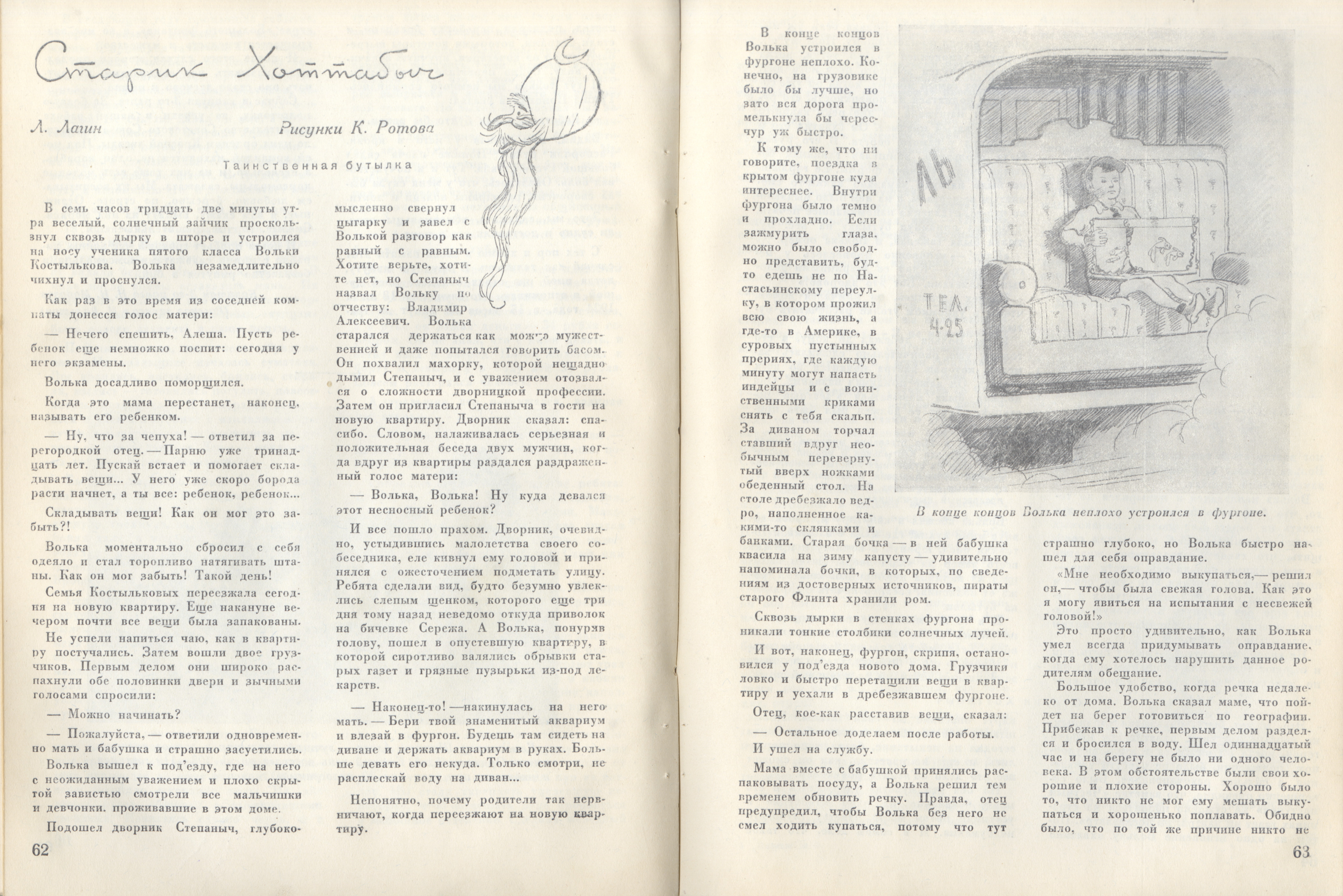
первая редакция сокращённый (журнальный) вариант ПИОНЕР (Москва), 1938г. №10, 11 и 12 рис. К. Ротова особенности Волька — ученик пятого класса. Дворник свернул цЫгарку. Ребята сделали вид, будто безумно увлеклись слепым щенком, которого еще три дня тому назад неведомо откуда приволок на бечёвке Сережа (первое упоминание о Серёже Кружкине) Будто едешь не по Настасьинскому переулку (старая квартира Вольки), а где-то в Америке, в суровых пустынных прериях, где каждую минуту могут напасть индейцы. Бочки, в кот. пираты старого Флинта хранили ром. Замшелая глиняная бутылка. "Вчера в 24-е отделение милиции". — Вы илллюзионист из цирка? Аллах (с большой буквы) Джин (с одним "н") Абдурахман (с одним "р") Испытание по географии. Калиф (через "к") Гарун ар-Рашид Костыльков Владимир! (нет директорского: "Докладывай"); член комиссии, экзаменатор, директор. Билет №14. Форма и движения Земли. Нет вопроса об Индии. "Расскажи хотя бы о горизонте." Серёжа Кружкин помогает подсказкой. Нет школьного врача. Учащийся неполной средней школы. Кинотеатр "Роскошные грёзы" "Околдовал тебя малым колдовством. Через 3 дня и 3 ночи твоё лицо снова станет гладким" Хоттабыч с Волькой ушли в самом начале фильма после появления мчащегося на зрителей гудящего паровоза. Это голос царя джинов Джирджиса из потомства Полиса. Парикмахерская "Фигаро здесь №1" Ростокинского района, Банно-прачечного треста. Присутствующие в парикмахерской подсмеивающиеся клиенты и мастера (среди них и Волькин одноклассник Серёжка Кружкин) превратились в баранов. Волькин парикмахер тоже, а парикмахерская "закрыта на учёт" (Х. повесил такую табличку) Можно было бы про подсмеивающихся поместить фельетон в Пионерской правде или Крокодиле...и достаточно. К родителям Вольки звонят отец Женьки и мать Серёжки с целью розыска своих детей Слесарь-лекальщик Пивораки. Средство для удаления волос в любой аптеке. Хогттабыч с Волькой летят на ковре-самолёте в Индию. В ходе полёта Х. вспоминает, как вернуть Ж. обратно. Встреча с ним на месте старта ковра-самолёта. Женька рассказывает Вольке о приключениях на чайной плантации в Индии, жемчужине Британской короны. Но не желая международного скандала, автор не передаёт читателям этот рассказ: "аллах с ней, этой жемчужиной, вернёмся лучше к нашим баранам". Родители Женьки пришли к родителям Серёжки, чтобы принять решение, где искать детей Тел. звонок Женьки: он был у товарища в Можайске, но о Серёжке не знает Параллельно с этим Хоттабыч возвращает "нашим баранам" (в т.ч. и С. Кружкину) человеческий облик. Соседские Волькиному домА Х. переносит из 1-го Спасоболвановского переулка за город На золотой доске у хода дворца Волька значится, в т.ч., как "чемпион комнатного биллиарда всех систем" "Дворец должен принадлежать МКХ", а великолепен, как "станция метро "Киевский вокзал" Караван верблюдов с драгоценностями отсутствует В Парке культуры и отдыха, у входа в цирк "Шапито" Администратор сам протянул контрамарку "товарищу Хотапченко". Шпрехшталмейстер. Китайский фокусник Мей Лань-чжи (немолодой уже китаец в расшитом золотыми драконами синем халате). Х. возвращает зрителей, артистов и зверей, выкрикивая "лехододиликраскало" "- Я из Управления Госцирков (уфф!)...переговорить об ангажементе...турне по СССР (уфф!)" Волька ловил по радиоприёмнику для Х. Владивосток и Анкару, Тбилиси и Лондон, Киев и Париж. Хоттабыч забыл, как принимать Лондон. оглавление 1. Таинственная бутылка. 2. Старик Хоттабыч. 3. Испытание по географии. 4. Хоттабыч действует вовсю. 5. Необыкновенное происшествие в кино "Роскошные грёзы". 6. Ещё одно необыкновенное происшествие в кино. 7. "Фигаро здесь №1" 8. Девятнадцать баранов. 9. Вдвоём в парикмахерской. 10. Беспокойная ночь. 11. Не менее беспокойное утро. 12. Почему у С. Пивораки изменился характер. 13. Интервью с лёгким водолазом. 14. Намечается полёт. 15. В полёте. 16. Опять всё хорошо. 17. Хоттабстрой. 18. Старик Хоттабыч и Мей Лань-чжи. 19. Больница под кроватью. 20. Роковая страсть Хоттабыча. © Вячеслав Настецкий, 2017
|
| | |
| Статья написана 27 июня 2017 г. 16:41 |






















Фото Наталии Клепик, Сергея Мартиновича, Инны Гузовой и газеты "Витебские вести".
|
| | |
| Статья написана 26 июня 2017 г. 22:41 |

Литературный музей в Витебске по пр. Фрунзе, 13 был открыт в 1989 году (в т.ч. — по инициативе Д. Симановича). В фондах музея хранились редкие материалы о памятниках письменной культуры и белорусских просветителях. Книги с автографами писателей, подаренные тем же Д. Симановичем, его исследования истории витебской литературной жизни. В октябре 2009 года музей был закрыт на ремонт. 2003 Витебская детвора в этом году дружно зачитывается старой доброй книжкой "Старик Хоттабыч". Эта повесть-сказка нынче так популярна, что в библиотеках на нее очереди! Знаменитый Гарри Поттер по-черному завидует и, грустно пылясь на полках, "отдыхает"...
Джинн без тоника. Впрочем, все объясняется просто. Мальчишки и девчонки, а также их родители недавно с удивлением для себя открыли: писатель Лазарь Лагин, создавший "Старика Хоттабыча", оказывается, родился в Витебске! Поэтому к 100-летию земляка и 65-летию с момента первого опубликования его повести-сказки Витебский литературный музей совместно с отделением Союза белорусских писателей, редакциями городской газеты "Витьбичи" и журнала "Мишпоха" при содействии республиканского детского журнала "Мишутка" объявили областной конкурс "Старик Хоттабыч в XXI веке". Состоял он из двух номинаций — "Изобразительное искусство" (живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и "Литература", а поучаствовать в нем могли ребята от 6 до 20 лет. Таким образом, на месте главного героя знаменитой сказки — юного москвича Вольки Костылькова, нашедшего на дне реки глиняный сосуд с джинном и попавшего в необычайные приключения, побывали 150 витебских школьников и студентов. Наибольшую активность, кстати, проявили юные художники, в общей сложности представившие 90 рисунков. Жюри просто растерялось от фейерверка фантазии и полета творческой мысли конкурсантов. В итоге лучшими были названы 27 работ в обеих номинациях. На праздничном вечере, прошедшем в Витебском литературном музее 4 декабря, в день рождения Лазаря Лагина, витебские и минские художники и писатели поздравили победителей и вручили им подарки. Самые добрые пожелания друзьям "Старика Хоттабыча" высказала в своей телеграмме из Москвы единственная дочь писателя Наталья Лазаревна, журналист, театральный и музыкальный критик. Она очень хотела посетить родину отца, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных его столетнему юбилею, но, к сожалению, этому помешало состояние ее здоровья. Продвинутый старик! К вашему высокочтимому сведению, о читатель, могущественный и неустрашимый дух, "прославленный во всех четырех странах света" джинн Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб шагает в ногу с нашим стремительным XXI веком и вовсе не похож на страдальца, проведшего в заточении несколько тысячелетий. На рисунках, представленных на конкурсной выставке, это уверенный в себе моложавый человек — весь в делах и заботах. Вот он спешит на ковре-самолете на "Славянский базар" и непринужденно болтает по мобильному телефону с самой Аллой Пугачевой. А может, спрашивает у директора фестиваля Родиона Басса: "Какие проблемы, о драгоценнейший? Я жду твоих повелений!" А вот Хоттабыч за компьютером: его, сердечного, так увлекла новая "стрелялка", что теперь ему не до волшебства. Словом, старичок очень продвинутый! В представлении юных витебчан джинн уже не всегда облачается в роскошную чалму, расшитый золотом белый шерстяной кафтан и нежно-розовые сафьяновые туфли с высоко загнутыми носами, которым позавидовал бы самый большой модник при дворе калифа Гаруна аль-Рашида. Волшебный дедушка, судя по детским рисункам, может щеголять теперь в джинсах, бейсболке и солнечных очках или же надеть строгий пиджак. Неизменными остаются только его борода по пояс, из которой он с хрустальным звоном то и дело выдергивает волоски, которые исполняют любое желание, и добрый, отзывчивый, немного вспыльчивый, но справедливый нрав Хоттабыча. Хоттабыч от кашля Вот как описала удивительного старика первоклассница витебской СШ N 37 Виталия Овчинникова, назвавшая свой рассказ, выведенный трогательно-красивым почерком на тетрадных листах в косую линеечку, "Доктор Хоттабыч": "Однажды зимой я сильно простудилась. Лежала в постели целую неделю, пила горькие лекарства и скучала. Очень хотелось поскорей поправиться, кататься с друзьями на санках и играть в снежки. Мама пришла из аптеки с какой-то бутылочкой. "Это сироп от кашля, — сказала она. — Пей по столовой ложке три раза в день". Только я открыла бутылочку, как вся комната наполнилась дымом. Когда дым рассеялся, я увидела очень странного старичка, сидящего на полу возле моей постели. Он был одет в старинную одежду, на голове чалма, а на ногах очень смешные туфли с загнутыми вверх острыми носами. "Неужели Хоттабыч?" — промелькнуло у меня в мыслях. — Да, ты права, о несравненная! — проговорил старик. — Это действительно я. Очень рад, что узнала. — Но откуда ты взялся? — Явился к тебе я из бутылки лекарства. Помочь решил, о драгоценнейшая! У вас здесь зима, морозы да ветры, а тебе бы на солнышке погреться, в теплом море искупаться — ты бы и поправилась. Тут Хоттабыч взмахнул руками, и в ту же минуту я, в пижаме и с градусником под мышкой, оказалась на берегу моря. Кругом росли пальмы и бегали чернокожие ребятишки. "Африка!" — удивилась я. А рядом радовался Хоттабыч. — Ну вот, все получилось, о сладчайшая! Начинаем оздоровительные процедуры. Целый день я купалась в теплом море, грелась на солнышке, зарывалась в горячий песок и пила целебный напиток из трав, который приготовил Хоттабыч. День пролетел незаметно. — Пора возвращаться, — сказал Хоттабыч. — Ты теперь совсем здорова, порадуешь маму. — Он опять взмахнул руками, и я оказалась в своей постели. Вошла мама, посмотрела на меня, потом на градусник и сказала удивленно: "Да ты совсем здорова! Просто удивительно!" Я лукаво улыбнулась. У нас с Хоттабычем свои секреты". В конкурсе "Старик Хоттабыч в XXI веке" Виталия Овчинникова заняла первое место в литературной номинации среди младших школьников. Вита самостоятельно читает с четырех лет, и, конечно, Хоттабыч — один из ее самых любимых литературных персонажей. Девочка узнала о конкурсе от своей учительницы и решила в нем поучаствовать. Мама Татьяна Александровна только поддержала дочку и помогла исправить некоторые грамматические ошибки. Кусочек волшебства Виталия и остальные 26 победителей получили от организаторов подарки — книги, годовые абонементы на бесплатное посещение областного краеведческого музея и его филиалов, а также полугодовые подписки на детские журналы. На предприятии "Витебскхлебпром" специально ко дню рождения сказочника испекли огромный красивый торт с надписью "Старик Хоттабыч", которым угостили всех участников праздника. Кстати, сказочный конкурс — не последняя акция, посвященная уроженцу Витебска Лазарю Лагину. Городские власти планируют установить памятник писателю, увековечить его имя в названии одной из улиц, а также открыть музей Лагина. https://www.sb.by/articles/volka-kostylko... 
Второклашек из СШ №28 привлекли «Алые паруса». Какие сказки были в вашем детстве? Наверняка многие вспомнят добрые, веселые и поучительные произведения Агнии Барто, Самуила Маршака, Шарля Перро, Корнея Чуковского. Многие сказочные сюжеты уже давно передаются из поколения в поколение, а их персонажи живут собственной жизнью и как игрушки украшают интерьеры детских комнат. Снова окунуться в волшебный мир детства, увидеть уже пожелтевшие, но дорогие сердцу и любимые первые книжки можно на выставке «Сказки моего детства» в областном краеведческом музее. В экспозиции собраны издания сказок разных времен и народов из музейных книжных сборов и частных собраний жителей нашего города. Выставка разделена на три основные темы. Начинается путешествие по сказочному миру со стенда белорусской сказки. – Исследователи фольклора позапрошлого века, – говорит старший научный сотрудник музея Светлана Козлова, – отмечают, что сказкам белорусов нет аналогов в мире по богатству и колориту языка, сюжетным линиям. Кроме того, ни один народ мира не придумал сказок столько много, сколько наш. Всего фольклористы сделали свыше пяти сотен записей сказок, рожденных в наших краях. Представлены и сказки наших именитых земляков, например, «Чортаў скарб» Владимира Короткевича, «Цудоўная дудка» Виталия Вольского, сюжет которой лег в основу сценария идущей с успехом уже многие годы в театре «Лялька» пьесы «Дзед и Жораў». Батлеечного театра сейчас нет в детстве современных малышей, но несколько веков назад он был настоящим развлечением для детворы. На выставке можно увидеть отреставрированный десятилетие назад кукольный театр. И детям даже разрешается самим устраивать представление. Зато каждый знаком с детской книжкой про старика Хоттабыча и его забавные приключения. Но мало кто знает, что ее автор, известный советский писатель-сатирик Лазарь Лагин, – уроженец Витебска. Его детские годы прошли на улице Подвинской, которая сейчас носит имя Толстого. На выставке это произведение воссоздается через большой ковер с восточными узорами, пионерскую форму персонажа Вольки и старую школьную парту с глобусом. Жизненные пути детских писателей Самуила Маршака и Корнея Чуковского, которым посвящены отдельные стенды на выставке, тоже были связаны с Витебщиной. С. Маршак в 1893 году гостил у своего дедушки, преподавателя женской Мариинской гимназии, жившего на улице Задуновской, переименованной в проспект Фрунзе. Важное место в экспозиции, посвященной писателю, наряду с его книгами занимает зеркало, как одно из ярких детских воспоминаний. Маленьким он разбил дедушкино зеркало и очень расстроился, это оставило глубокий отпечаток в его душе. А К. Чуковский в сентябре 1913 года в нашем городе читал студентам лекции по литературе. Завершает выставку композиция, посвященная Александру Грину и его повести-феерии «Алые паруса», которая утверждает, что в жизни всегда есть место сказке. Выставка будет действовать еще месяц, для маленьких посетителей придуманы викторины, загадки, конкурсы. Екатерина Маркова, фото автора, «НС». 2011 http://nspaper.by/2011/06/08/pust-vsegda-... 
Весь июнь в ратуше работает выставка «Сказки моего детства», посвященная началу школьных летних каникул. «В жизни всегда есть место сказке, сказку мы можем делать своими руками», — говорил русский писатель-романтик Александр Грин, автор повести-феерии «Алые паруса». Создать особенный мир удалось и устроителям выставки. 
Старший научный сотрудник Литературного музея Светлана Козлова рассказала, что в экспозиции представлены издания сказок разных времен и народов не только из музейных книжных сборов, но и частных собраний жителей Витебска. Тут же — первые школьные учебники, которые по красочному оформлению тоже похожи на сказку, да и часто не обходятся без нее на своих страницах. Посетители, к слову, могут принести свои любимые книги и оставить их на время работы выставки или даже подарить музею, чтобы к сказочному миру в будущем приобщалось еще больше людей. Центральное место на выставке занимают три блока-темы: белорусская сказка, повесть Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч» и творчество русских советских писателей Самуила Маршака и Корнея Чуковского, чьи жизненные пути связаны с Витебщиной. Еще в ХIХ веке исследователи фольклора белорусов отмечали, что по живости языка и глубине сюжетов нашей сказке нет равных среди других славянских народов. Писатели-земляки Владимир Короткевич, Виталий Вольский внесли значительный вклад в развитие сказки авторской. Особый колорит создают белорусская батлейка, возрожденная главным художником театра «Лялька» Александром Сидоровым, волшебная дудочка, скатерть-самобранка, старинный сундук, горшки, лапти и шляхетские костюмы. 
Вокруг книги Лазаря Лагина разворачивается композиция, включающая детали одежды Хоттабыча на большом, с восточными узорами ковре, пионерскую форму Вольки Костылькова и старую школьную парту, портреты джинна и самого писателя. Обращает на себя внимание старинный телефон, будто бы прямо взятый из одноименного стихотворения Корнея Чуковского. Завершает выставку композиция, посвященная Александру Грину, где в центре — детальная модель корабля с парусами алого цвета. Посетите выставку «Сказки моего детства» — здесь вас ждут конкурсы, викторины, загадки и другие сюрпризы. Виталий ШИЕНОК. Фото автора. 2011 http://www.vitbichi.by/news/kultura/post1... *** 2004 Последние месяцы 2003 года в Витебске ознаменовались повышенным интересом к книге “Старик Хоттабыч”. Зачитанные ее страницы потеснили популярного Гарри Поттера с его “параллельными мирами”. Школьники, увлеченные приключениями “дивного” старика Хоттабыча, пытались написать продолжение его истории. Взрослые и убеленные сединой вспоминали любимую книгу своего детства, которая впервые была напечатана в 1938 году. 
В день столетия писателя на его родине в Витебске прошел заключительный тур детского конкурса “Старик Хоттабыч в XXI веке”. Принимали участие юные художники и юные литераторы. В зале Литературного музея был супераншлаг. Фонды Литературного музея пополняются новыми яркими экспонатами из серии “Хоттабычиана”. Витебляне верят: когда-нибудь будут изысканы финансовые средства, и в городе появится памятник вечному, как сказка, Хоттабычу. На том месте, где стоял родительский дом писателя. Вот уже несколько лет над моделью памятника работает скульптор Валерий Могучий. Есть и другой вариант эскиза, выполненного его молодым коллегой Сергеем Сотниковым. О Старике Хоттабыче помнят, знают, его любят… http://mishpoha.org/nomer14/a21.php https://vkurier.by/62128
|
|
|


 облако тэгов
облако тэгов