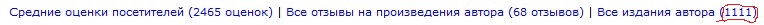| |
| Статья написана 2 октября 2012 г. 16:41 |
Откровенно говоря, я даже не знаю, как комментрировать эту книгу. Со мной довольно редко случается такое, чтобы вещь с достаточными, скажем так, литературными достоинствами, вызвала у меня такое бешеное не то что неприятие — отвращение. Никакие изыски Паланика и прочих, простите, говно-авторов не сравнятся с тем шизофеническим слезливым потоком, который изливает на читателей Д'Аннуцио на протяжении почти трехсот страниц. Собственно, первого абзаца уже хватает, чтобы составить себе впечатление — и если кто думает, что дальше будет лучше, жестоко ошибается. В этом романе, натурально, чем дальше, тем только хуже. Извольте посмотреть на сюжет: некий скучающий аристократ, сроду не работавший, разумеется, от нечего делать изменяет своей жене. Жена со своей стороны тоже успела сходить налево и на свою беду забеременела от любовника (что достоверно известно только им двоим, поскольку муж с ней не спит). Ну и что, казалось бы. Два не слишком чистоплотных с моральной точки зрения человека. Не слишком приятная ситуация, но не конец света. И уж тем более бедный младенец совершенно ни в чем не виноват. Вот, собственно, мировосприятие нормального человека. Ну сходил кто-то налево, да, неприятно, но поскольку ни один из супругов не собирается разрушать семью или делать другие безумные вещи, и о любви там речь тоже не идет — ну, бывает, это жизнь. Но у Д'Аннуцио все нормальные и вполне естественные моральные оценки будто переворачиваются с ног на голову. Муж-изменник, еще когда он не знает о "встречной" измене жены, видите ли, страдает. Нет, не так, он СТРАДАЕТ! "Бурная волна жалости, нежности и сострадания нахлынула на меня. Я отдал бы все, чтобы она могла читать в моей душе, чтобы ей понятно стало мое волнение, неуловимое, невыразимое и потому тщетное. «Прости, прости меня. Скажи, что сделать мне, чтобы ты простила меня, чтобы ты забыла все зло… Я вернусь к тебе и буду только твоим, навсегда. Только тебя одну в жизни любил я настоящей любовью; и только тебя одну люблю. Всегда душа моя возвращается к тебе, ищет тебя, тоскует по тебе. Клянусь тебе: вдали от тебя я никогда не испытывал истинной радости, ни на один миг не доходил до полного забвения; никогда, никогда; клянусь тебе в том. Ты одна на свете – воплощение доброты и нежности. Ты – самое доброе и самое нежное существо, которое я мог когда-либо представить себе; ты – Единственная. И я мог оскорблять тебя, мог причинять тебе страдания, мог довести тебя до мысли о смерти, как о чем-то желанном! Ах, ты простишь меня, но я никогда не смогу простить себе; ты забудешь, но я не забуду. Мне всегда будет казаться, что я недостоин тебя; и также будет казаться мне, что преклонение перед тобой в течение всей моей жизни не вознаградит тебя. И с этих пор, как когда-то, ты будешь моей возлюбленной, моим другом, моей сестрой; как прежде, ты будешь моим хранителем и руководительницей. Я все скажу тебе, все открою. Ты будешь моей душой. И ты выздоровеешь. Я исцелю тебя. Ты увидишь, на какую нежность я буду способен, чтобы вылечить тебя… Ах, ты знаешь это. Вспомни! Вспомни!" Создатели сериалов "Рабыня Изаура" и "Богатые тоже плачут", а также передачи "Ищу тебя" вместе с читателем умываются горючими слезами, осознавая, что таких высот в бессмысленной сопливости им не достичь никогда. Впрочем, не переставая СТРАДАТЬ, муж-изменник преспокойно продолжает обстраивать свои дела с любовницей. Поминутно восхищаясь, какая же у него тонкая чувствительная натура, насколько он исключительная личность, способная так чутко переживать. Впрочем, жена ему под стать. Мало того, что она сходила налево и вдобавок забеременела — она тоже СТРАДАЕТ! Причем у нее получается еще круче, чем у него, потому что она постоянно бледнеет, шатается,блюет, норовит упасть в обморок, безостановочно шантажирует его и остальных своей немедленной скорой смертью. В духе "ах, какое ужасное положение, я беременна не от тебя, но ничего, вот я сейчас усилием воли умру, и все наладится". Количество фейспалмов, которые я сделала во время чтения этого романа, составляет просто астрономическую величину. Да, конечно, дорогая, ты здоровая корова решила умереть, и умрешь, пацан сказал — пацан сделал. Увы, ей не удается это даже в родах. Потом психопат-муж решает извести новорожденного ребенка, и это уже вообще за гранью добра и зла. Тут мне даже сказать нечего про его мотивацию: "ребенок напоминает моей жене о ее измене, если ребенок умрет, жене станет гораздо лучше". Ну разумеется! На фоне всех этих ухищрений с ребенком химическая кастрация и прочие интересные изобретения нашего законодателя приобретают даже некоторую привлекательность. В общем, у меня стойкое ощущение, что это роман про семью шизофреников. Причем муж и жена вроде не прямые родственники, наследственным у них это не может быть, а вот поди ж ты — обоим место как минимум на учете в специализированном учреждении. Мало того, что они безостановочно СТРАДАЮТ, видимо, даже сидя на горшке. Они еще СТРАДАЮТ от того, от чего все нормальные люди должны испытывать максимум чувство вины — но уж никак не ощущать *себя* невинной жертвой. Глядя на этих придурков, начинаешь думать, что концлагеря в какой-то степени были полезны, позволяя изолировать отдельных членов общества от остальных. И желательно не позволить им размножаться, потому что озвученное, от первого до последнего абзаца — "Ад и Израиль" (с). Даже не углубляясь так далеко — очень хочется каждую секудну чтения книги хорошенько уебать обоих героев веслом. И отправить к станку на 12-часовой рабочий день, авось и здоровья бы прибавилось, и ума тоже. Очень, очень зла, стоит только вспомнить.
|
| | |
| Статья написана 27 сентября 2012 г. 17:39 |
Ага, я таки поймала красивую цифру! 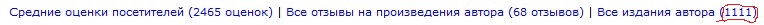
Фтхагн! 
|
| | |
| Статья написана 27 сентября 2012 г. 15:21 |
Признаться, я с большим подозрением отношусь к восточной литературе вообще и японской в частности. Не то чтобы она мне вся поголовно не нравилась — хотя, признаться, не нравилось большинство из читанного, за редким исключением отдельных вещей Кавабаты, пожалуй. Но при этом она вся поголовно кажется мне... очень странной, что ли. Все-таки у этих людей абсолютно другое мировосприятие, система ценностей и идей. Причем как было другим в десятом веке, так и сейчас осталось, несмотря на всю глобализацию. Видимо, это как раз таинственная хрень под названием ментальность. Чтение восточных авторов, особенно японцев (китайцев — куда в меньшей степени) оставляет какое-то смутное ощущение неудобства и легкого раздражения. Будто по коже ползет какое-то маленькое насекомое, вроде и не страшно, и ты его прогнал уже, но это чувство неловкости осталось. Такое чувство неловкости вызывают бытовые подробности у Кобо Абэ, древние американские хиты у Х-Мураками, мелкие омерзительности у Р-Мураками, описание чьих-то родимых пятен у Кавабаты, страдания у Оэ. Вроде бы это мелочи, но в то же время четко осознаешь, что европейский автор никогда не стал бы заострять внимание на чем-то подобном — а если бы и стал, то сделал бы это куда более глобально и гротескно. Правда, Кэнко-хоси очень сильно отличается от остальных известных мне японских авторов. Во-1, это бог весть какой, а точнее, 13-14 век. Во-2, это образчик дзуйхицу, бессюжетного жанра в духе "что вижу, то пою". Ну или точнее, пою, о чем в голову придет прямо сейчас. В таком жанре можно написать и нечто совершенно очаровательное, и нечто совершенно бессмысленное и бездарное. В зависимости исключительно от персональных достоинств автора и его способности думать и формулировать. У Кэнко-хоси, буддистского монаха, получилось очаровательно. Пожалуй, из всей японской литературы жанр дзуйхицу нравится мне больше всего — общая очаровательность и легкость (маленькие заметочки от одного предложения до пары страниц) вполне компенсируют абсолютную чуждость менталитета. Будучи изложенными в качестве отдельных наблюдений, мыслей, историй, своего рода "анекдотов" в прежнем понимании этого слова, они создают некий особый шарм. Как острая приправа, которую есть отдельно невозможно, но в небольшом количестве она прекрасна. К примеру: "Карп очень благороден, так как из всех рыб одного только карпа можно разделывать в высочайшем присутствии". "Однажды Китаяма-нюдо П обратил внимание на то, что на полке для снеди над августейшей купальней в покоях императрицы виднеется дикий гусь. По возвращении домой он тут же написал письмо, где указывал: «Мы не привыкли видеть, чтобы подобные вещи открыто хранились на августейшей полке. Это неприлично. И все оттого, что у вас нет надежного слуги». Есть и другие, вызывающие, как метко выразился публикатор знаменитой перфонтаны, "легкий клин левого полушария"  "Раньше прежде чем виновного высечь розгами, его подводили к станку для порки и привязывали. В наше время уже никто не разбирается ни в этих станках, ни в том, как привязывать к ним". Действительно, o-tempora-o-mores! Никто не разбирается в стане для порки, куда катится наша культура! C другой стороны, некоторые из сказанных Кэнко-хоси вещей актуальны, видимо, во все времена и в любых культурах. О взаимоотношениях полов прежде всего  "Говорят, что вообще мужчину надо специально воспитывать, чтобы над ним не смеялись женщины". (Жизнь неоднократно подтверждает абсолютную верность этих слов). "Если бы не было на свете женщин, мужчины не стали бы следить ни за одеждой, ни за шляпами, какими бы они ни были". В общем, Кэнко-хоси очарователен и при этом совершенно не скучен — не в последнюю очередь за счет по-настоящему странной логики, этики и тд.
|
| | |
| Статья написана 25 сентября 2012 г. 16:23 |
сабж "Большой шлем" — достаточно стандартный рассказ для этого периода русской литературы, такой злобно-бытовой. Про неких провинциальных картежников, один из которых все мечтал сыграть Большой шлем, и как только спустя много лет ему повезло, не выдержал, бедняжка, и помер. Рассказик вполне чеховского толка, я бы сказала, разве что у Андреева чуть больше яда или надрыва, даже не знаю, как определить. Недостает чеховской легкости. "Он" — ужасно интересная и странная штука. Некий таинственный дом, в который приглашается репетитором бедный студент, и поначалу эта работа кажется ему манна небесной. Но старшая, давно утонувшая дочь хозяина (ее вынесло на берег "сюда головой, туда ногами") все не дает ему покоя. А затем за студентом и вовсе приходит "черный человек". Ничего особенного в рассказе, кроме разговоров и переживаний, не происходит, но это очень атмосферно и интересно. Оставляет ощущение такой тоскливой жути с легкой примесью безумия, и вообще чувство подкрадывающейся шизофрении. Здорово. "Дневник Сатаны" — очень наивный роман, на мой взгляд. Не значит, что плохой, но наивный. Знаете, это как в 13 лет все написали хоть одно стихотворение. И идеи приходят людям в голову одни и те же в определенном возрасте и историческом периоде. Так же и с Дневником — нет ничего логичнее и естественней того, что именно в 20-е годы в России Андреев задумался написать дневник воплотившегося в человеческое обличье Сатаны. Это мило, но... очень наивно, что ли. Революция, развенчание православия и религии вообще с одной стороны (попробуй такое напиши в 19 веке при самодержавии-православии-народности), и при этом общие эсхатологические настроения из-за происходящего вокруг ужаса. Бедный Сатана у Андреева оказывается жалким слабым неудачником по сравнению с первыми попавшимися ему человеками, которые его жестоко облапошивают. Ах, куда катится этот мир, если сам Сатана не может их переплюнуть! И всетакое. В наше время такого уже не напишут. Да и вообще роман, несмотря на очевидные художественные достоинства, производит впечатление, будто его написал человек очень молодой. Лет примерно пятнадцати (притом, что Андрееву на самом деле было под пятьдесят). И это не критика, а констатация факта; текст пафосен не по содержанию, а по сути, по самой своей идее. К тому же увы, это ни разу не уровень Булгакова, и Сатана у Андреева скорее под стать нежным трепетным тургеневским юношам, которые так и мечтают "погрязнуть в бездне порока", однако теряют дар речи, увидев скромную дочку соседей в белом платье. Это мило, но разочаровывает, потому что абсолютно не оправдывает ожиданий.
|
| | |
| Статья написана 21 сентября 2012 г. 00:26 |
сабж Самое начало романа было ваистену ужасно. У Олди обычно и так через пень-колоду понимаешь, что конкретно происходит с героями и кто такие вообще герои, не говоря уж о том, зачем оно все. Но тут они с моргающим громовержцем Индрой переплюнули самое себя — откровенно говоря, в эту часть в самом начале я совершенно не врубилась. Точнее, поняла, в чем там суть (да и то только в общих чертах и не факт, что правильно) только к самому концу. Признаться, мне это в фэнтезийном жанре слегка не нравится — учитывая, что я его и читаю для того, чтобы выключить мозг на некоторое время, чтобы не надо было вчитываться в каждую строчку и думать, что она значит (для этого у меня есть Кьеркегор, мухаха!  ). ). Дальше, когда началась история ребенка-ученика-престолонаследника-регента Гангеи, пошло полегче. Во всяком случае, к концу первой трети романа я поняла, кто у нас герой  С одной стороны, Олди выбрали совершенно зубодробительную тему — индийскую мифологию. Я грешным делом сама в ней разбираюсь из рук вон плохо, и весьма смутно понимаю, кто все эти суры-асуры, кто кого родил и кто чей брат. И даже "Махабхарату" целиком не читала, кажется. Так что с этой стороны у меня полный провал, увы. Думаю, тому, кто в сабже разбирается действительно хорошо, будет куда легче. Но с другой стороны, не могу не признать, что под общую стилистику и манеру повествования Олдей именно индийская мифология подходит идеально. Она так же грешит нагромождением персонажей, каждый со своими специфическими и подчас сверхъестественными талантами. Персонажи так же бестолково на первый взгляд взаимодействуют, так что с первых же страниц начинается жуткая путаница. В общем, очень по-олдевски. И, разумеется, опираясь на столь обширный и плодотворный материал, они выжали все из своего фирстиля. Герои, которые беспрерывно сражаются на поле Куру — видимо, в мифологии объясняется, почему и зачем, но я этого как не знала, так и не узнаю. Обиженные персонажи, которые уходят в подвижники и за годы беспрерывного укрощения плоти накапливают такое количество жара-тапаса, что не только обидчику могут отомстить с лихвой, но и ненароком подвернувшемуся божеству изрядно нагадить. Боги, которые играют в собственные игры и ведут себя одновременно как маленькие капризные дети, а с другой — как хорошие расчетливые менеджеры. История мальчика Гангеи сама по себе весьма хороша и интересна, на мой вкус. В ней достаточно и действия, и в то же время она достаточно понятна и местами даже логична, что вообще редкое достижение. Не могу сказать, чтобы я сочувствовала герою — Олди вообще такие авторы, у которых никому не сочувствуешь. Но за перипетиями его жизни следить интересно — тем более что, как всегда у Олди, абсолютно невозможно предсказать, в какую сторону кинется сюжет в следующий раз — что и придает основную прелесть. История бога Индры — собственно, более широкая, чем история Гангеи (которая представляет собой этакий рассказ в рассказе, но не вставную новеллу, а именно часть сюжета). И при этом куда более бестолковая и смутная. Имхо, бог у Олдей вышел, как Христос у Бездомного, совершенно ненатуральным. Не то чтобы я лучше знала, каким должен быть бог Индра. Но в данном случае у меня как-то не собирается мозаика, не получается единый складный персонаж, у которого были бы характер, биография, взаимосвязи с другими персонажами. Вопрос, что же, собственно, происходит, не оставлял меня в начале и в конце романа. Имхо — далеко не лучшая вещь Олдей. Хотя, как всегда, на хорошем читабельном уровне.
|
|
|


 облако тэгов
облако тэгов