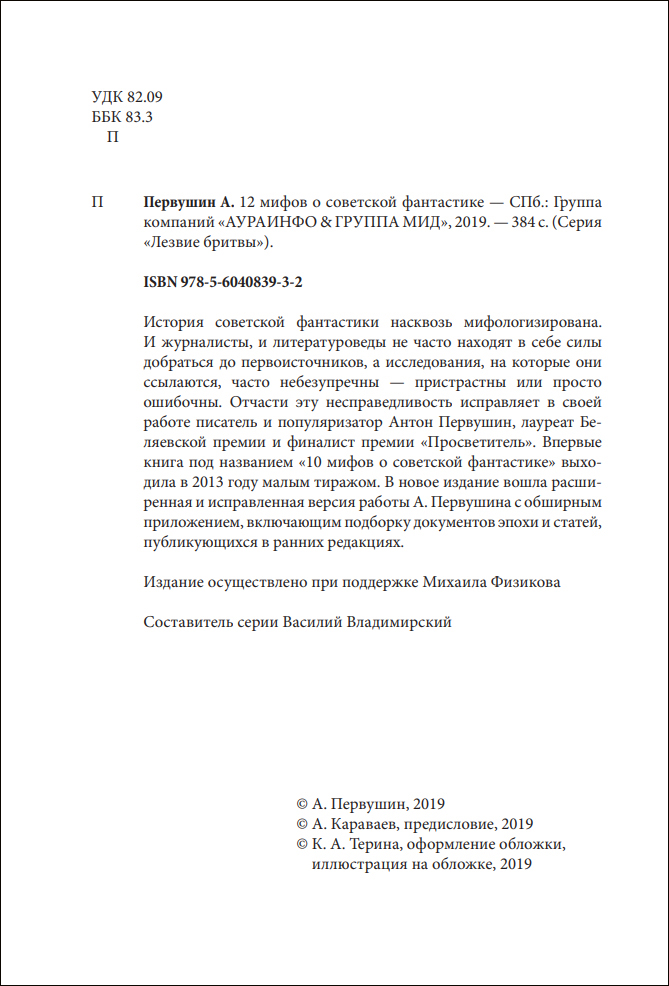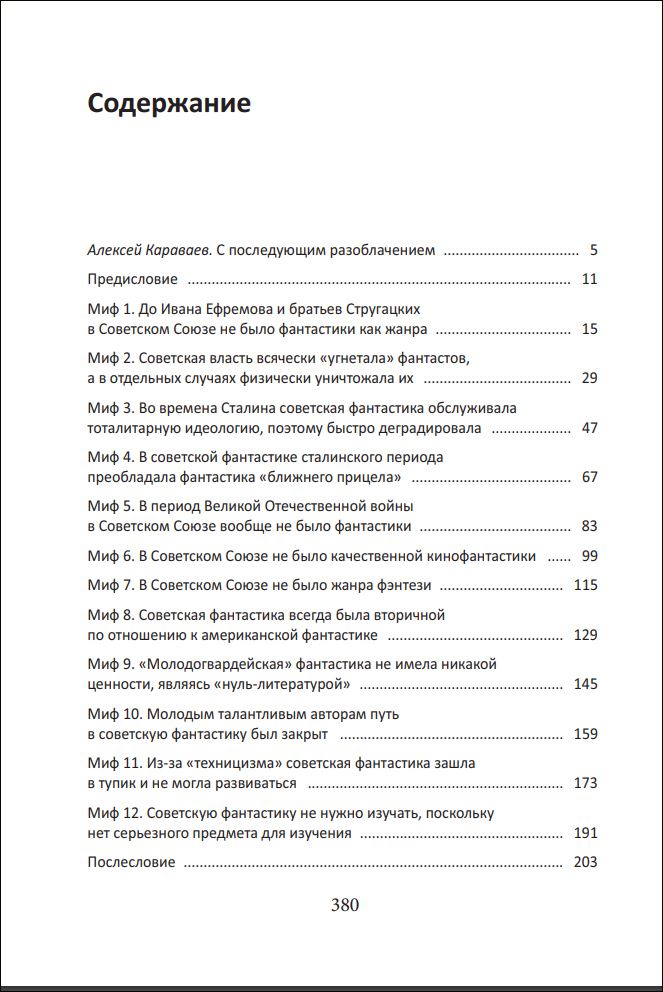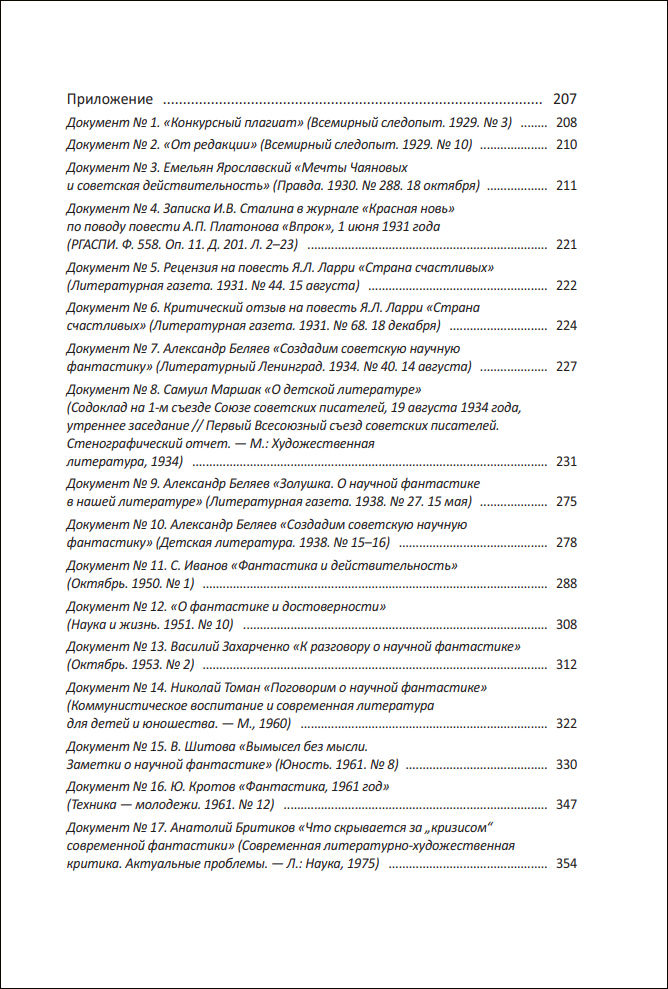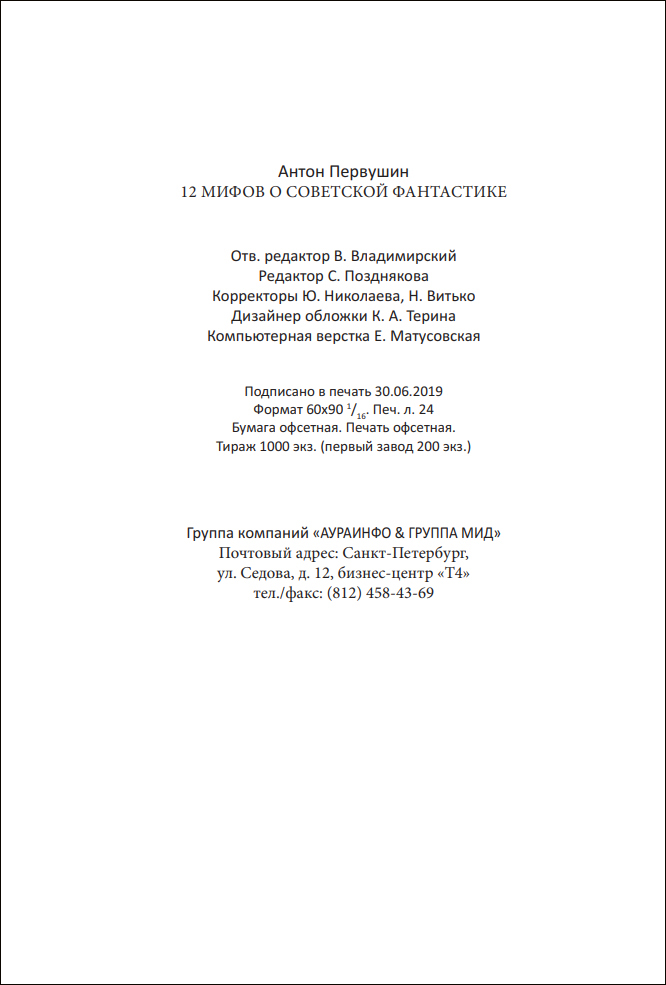В первой части диссертации анализируются «ПУТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ АВАНТЮРНОЙ ПРОЗЫ». В первой главе рассматриваются теоретические аспекты проблемы и история развития авантюрной прозы в России до 1917 г. Начало 20 в. — период эстетических поисков и преобразований — характеризуется и пристальным вниманием русских художников к культурному наследию минувших эпох. В «Приключениях Эме Лебефа» (1907) М.А.Кузмин обратился к форме классического авантюрного повествования 18 в. С точки зрения принципов «кларизма», авантюрная повесть была привлекательна как устойчивая структура, требующая чисто литературного восприятия. Но стилизация была бы экспериментом или «эстетической игрой», если бы современный художник не вкладывал своей индивидуальности в старинную форму. В кузминских повестях едва ли не главное — вера в фатум, в предопределенность всего происходящего.
Отсюда и отказ от
4 Тимофеев Л. Пути развития литературы периода иностранной военной интервенции и гражданской войны // Лекции по истории русской советской литературы. Книга 2. Издательство Московского университета, 1953. — С.29-30.
«осуждения», и ощущение театральности мира, условности человеческого существования, всецело подчиненного неведомой силе. Авантюрная модель используется в начале 20 в. и в произведениях иного рода, ориентированных на менее взыскательного читателя, — так называемой «уголовно-сыщицкой литературе». Основная причина увлечения «пинкертоновщиной» — стремление найти в книге насыщенный событиями сюжет и настоящего героя: активного, способного преодолевать препятствия и побеждать врагов, уверенного в себе и убежденного в конечном торжестве разума, добра и справедливости. Необходимо отметить и то, что многие произведения, не являясь «чистыми» образцами авантюрной прозы, нуждаются именно в этом жанровом контексте, позволяющем соотнести «деформации» с первоначальной схемой, которая служит, по Б.Христиансену, «масштабом отклонений и вместе с тем основой дифференциальных впечатлений»5.
После революций 1917 г. литературные образы, казавшиеся выдуманными и даже надуманными, обретают реальные черты, невероятные в прежнем мире сюжетные ходы воплощаются в реальность. Авантюра, авантюристы, авантюризм — эти слова мелькают на страницах газет и журналов. Время, когда в литературе господствовал авантюрный роман, оказалось гораздо ближе революционному и послереволюционному периоду русской истории, чем прошедший под знаком господства социально-бытовой прозы 19 век. Если раньше в поисках динамичной фабулы писатели обращались к прошлому, то теперь сама эпоха требовала авантюрного героя. Вопрос о судьбе авантюрного романа уже в 1920 г. затрагивался в устных беседах в кругу опоязовцев и «Серапионовых братьев». В начале 1920-х гг. в Берлине о «перспективе авантюрного романа» писал А.Вольский, в России — Н.Н.Асеев, И.А.Груздев, В.А.Каверин, Л.НЛунц, В.Б.Шкловский и др. Л.Н.Лунц считал, что единственный способ возродить исчезнувший русский роман — обратиться к европейской традиции фабульного повествования. По мнению В.Б.Шкловского, новому читателю интересны приемы авантюрного романа: Тарзан «идеологически благороден», он сверхчеловек, способный бросить вызов обществу и победить. И.А.Груздев выделял жанр «похождений», поскольку его структура позволяет строить большую форму из отдельных составных элементов -жизнеспособных малых форм.
Во второй главе анализируются произведения А.Ветлугина и И.Эренбурга, опубликованные в Париже и Берлине в начале 1920-х гг. Образ авантюриста становится одним из центральных в книгах А.Ветлугина, рассказывающих о героях нового времени («Авантюристы гражданской войны», «Третья Россия», «Записки мерзавца»). В «Необычайных похождениях Хулио Хуренито и его учеников...»
5 Христиансен Б. Философия искусства. — СПб., 1911. — С.105-106.
И.Г.Эренбурга уже само название, прямо отсылающее к образцам классической авантюрной прозы, заставляет соотносить роман с авантюрной моделью. Бог и авантюрист — один из основополагающих конфликтов в авантюрной прозе; они вновь сталкиваются в книге Эренбурга. Есть ли некая высшая сила, определяющая ход событий, -этот вопрос является ключевым и для повествователя, и для главного героя. Война становится своего рода проекцией столкновения стремления возвеличить случай и стремления установить порядок, а антиномия «хаос
— гармония» подменяется в сознании героев противоположением «порядка» и «беспорядка». Идея театральности, тесно связанная в истории европейской литературы с авантюрным началом, уступает место фантасмагорическому бреду: все меньше значит таинственный режиссер-кукловод, решающую роль теперь играет автор сценария, в чьем воображении рождаются сцены бытия. Бред выступает как новое организующее начало, как прием гармонизации хаоса.
В первой половине 1920-х гт. создается ряд произведений, в которых сюжетная схема оставалась неотделима от проблематики авантюрной прозы, функция главного героя, связывающего людей и события, не заслоняла характера человека, по-прежнему пытающегося бросить вызов высшей силе, определяющей и его судьбу, и судьбы мира. В третьей главе в центре внимания произведения Г.Н.Гайдовского, Б.А.Садовского, В.В.Каменского, Вс.В.Иванова, А.Н.Толстого, С.Р.Минцлова, М.А.Булгакова. В основе повести Г.Н.Гайдовского «Картонный император» лежит один из традиционных фабульных вариантов, используются привычные мотивы тайны, переодевания, погони и т.д. Но главное, что привлекает автора в авантюрной структуре,
— подчеркнутая условность. Гайдовскому необходимо создать ощущение «театральности», и он добивается требуемого эффекта, отчасти используя богатые возможности выбранной жанровой формы, отчасти, наоборот, разрушая ее формальную целостность. Весьма необычен по внутреннему заданию роман Б.А.Садовского «Приключения Карла Вебера». Своему кредо, выраженному в формуле «духовного консерватизма», писатель не изменил и при новом режиме. Садовской выстраивает произведение в соответствии с «идеологической» схемой. Речь идет о противоположении «реакции» и «беспокойства», которое стало центральной антитезой в миропонимании писателя. Реакция плодотворна как символ прочности и традиции, как необходимое условие духовной «кристаллизации». Беспокойство — основа прогресса, искушающего обманчивой новизной и неизменно ведущего к распаду. В романе эту мысль иллюстрируют судьбы главных героев. С места их срывает беспокойство: смутная неудовлетворенность, тайна, «бес алчности». Но движение не приносит ничего, кроме несчастий. Подтверждение той же закономерности Садовской видит и в жизни Петра I, и в истории России. Петр, обуреваемый «тревогой бесплодных
исканий», предстает фигурой роковой: именно петровские преобразования увлекли страну, бывшую оплотом «святой реакции», на путь «бессмысленного и лживого» прогресса.
К авантюрной прозе обращались не только писатели, близкие в начале 20 в. к акмеизму, но и бывшие футуристы. У М.А.Кузмина и его последователей стремление «действовать», «беспокойство» осуждалось, движение в их произведениях проводило героев через цепь несчастий и, в конце концов, возвращало к той точке, откуда они начинали свой путь. Отстаивая «покой» и «стабильность», писатели и на уровне формы подчеркивали это, используя приемы одной из самых устойчивых жанровых структур. Футуристов, у которых абсолютизация движения являлась одним из краеугольных камней мировоззрения, в авантюрной модели должна была скорее привлекать не идея бессмысленности движения, а собственно постоянное движение как жанрообразующий принцип. В.В.Каменский в романе «27 приключений Хорта Джойса» как бы снимает с авантюрной структуры «налет веков», приближая ее к тому, с чего все начиналось, — к циклизации сказок. Хорт Джойс напоминает пошедшего по свету счастья искать фольклорного персонажа. За нагромождением имен, характеров, коллизий у Каменского встает проблема жизни и смерти. Роман заканчивается смертью главного героя. Это достаточно традиционно для авантюрного романа, но там смерть обычно настигает героя, стремящегося ее избежать. А Хорт Джойс с первых страниц идет навстречу смерти, и момент смерти воспринимается им как высшая точка. Смерть превращается в цель, и получается, что Каменский согласен с тем, что «беспокойство» — кратчайший путь, ведущий к смерти.
Фольклорная «основа» авантюрного романа привлекла внимание и Вс .В .Иванова. В повести «Чудесные похождения портного Фокина» и сказ, и авантюрная схема использовались с одной целью. Они должны были, во-первых, передавать своеобразие «простонародного», «естественного» мышления, а во-вторых, делать индивидуальное максимально типичным, помогать индивидуализировать персонажей за счет черт внешних, сохраняя при этом «всеобъемлющность» типа. Генетически связанный с фольклорной сказкой, авантюрный роман в большей степени, чем другие жанровые формы (за исключением, конечно, авторских вариантов форм фольклорных), соответствует простонародной модели мировосприятия, что проявляется практически на всех уровнях — в сюжете, композиции, принципах типизации и т.д. Иванов сосредоточивает внимание не на личности героя, отправляющегося за тридевять земель, не на том, как он преодолевает возникающие на пути препятствия, а на самих препятствиях. Заставляя Фокина перемещаться по Европе, Иванов сопоставляет жизнь в капиталистических странах с жизнью в СССР.
В «Ибикусе, или Похождениях Невзорова» А.Н.Толстой делает «авантюрного героя» сатирическим персонажем. Мечтавший стать аристократом Невзоров превращается в спекулянта и сводника. И все же он — порождение революции — оказывается победителем. Бледно выглядит рядом с ним «классический» авантюрист Ртищев, гибнут те, кто не сумел приспособиться, преобразиться. Творчество А.Н.Толстого отличается тем, что у писателя нет обычного противоположения авантюрной и социально-бытовой модели. И в «Приключениях Растегина», и в «Ибикусе» он использует приемы авантюрного повествования, если жизненные наблюдения лучше укладываются в авантюрные схемы. Авантюрная модель «вырастает из жизни». В 1920-е г. писатели отталкивались и от конкретных произведений, построенных по модели «похождений». Так, например, с «поэмой» Н.В.Гоголя «Мертвые души, или Похождения Чичикова» должны были соотноситься очерки С.Р.Минцлова «За мертвыми душами» и «поэма в 10-ти пунктах с прологом и эпилогом» М.А.Булгакова «Похождения Чичикова».
В четвертой главе рассматривается иной тип использования приемов авантюрного повествования. Бурный всплеск «жанра» при советской власти объяснялся, в частности, прямым идеологическим заказом. В 1922 г. Н.А.Бухарин выдвинул тезис создания «коммунистического Пинкертона». Он подчеркивал агитационный потенциал авантюрной структуры и учитывал потребность массы в развлекательном, «легком» чтении. Устойчивые элементы авантюрной структуры как бы оправдывали появление идеологически обусловленных штампов, помогали утверждать идею: при помощи увлекательных, привлекающих читателей произведений, решались конкретные идеологические задачи. Публикацией в 1924 г. романов «Остров Эрендорф» В.П.Катаева и «Месс-Менд, или Янки в Петрограде» М.С.Шагинян открывается ряд получивших широкое распространение в советской литературе в середине 1920-х гг. авантюрно-приключенческо-фантастическо-пародийных произведений. К их числу относятся также романы «Психо-машина» и «Долина смерти. Искатели детрюита» В.А.Гончарова, «А.А.А.Е.» А.Д.Иркутова и В.В.Веревкина, «Никаких случайностей. (Дипломатическая тайна)» и «Тайна сейфа» Л.В.Никулина, «Молодцы из Генуи» В.Л.Веревкина, «Лори Лэн, металлист» М.С.Шагинян, «Повелитель железа» В.П.Катаева, «Иприт» Вс.В.Иванова и В.Б.Шкловского, «Запах лимона» Л.Рубуса (Л.А.Рубинова и Л.В.Успенского) и т.д. Отличительной чертой, объединяющей большинство подобных книг, является и масштаб описываемых событий: в конечном итоге речь идет либо о всемирной революции, либо о мировом заговоре империалистов, либо о мировой войне. Одной из причин «глобализации» являются изменения в проблематике: заменяя религиозное социальным, высшую силу силой общественной, писатели в
и
то же время пытались не размениваться на частности и сохранять общий характер проблемы.
В.П.Катаев одним из первых приходит к решению проблемы случайности и закономерности с точки зрения классового противостояния. В романе «Остров Эрендорф» случайность показывается как системообразующий признак капиталистического общества: в этом качестве она противостоит неумолимой закономерности исторического и диалектического материализма, утверждающего безусловное и не подвластное никакой случайности превосходство нового, социалистического, строя. Один — социальный — конфликт отражает закономерность всего происходящего, другой — частный, разрастающийся до общемирового, — построен на случае. Когда эти конфликты сливаются, оказывается, что случай не может изменить закономерный ход событий, но может ускорить их. Писатель подчеркивает, что успех мировой революции не зависит ни от воли случая, ни от предначертаний судьбы.
«Коммунистический Пинкертон» создавался в основном силами «попутчиков», пытавшихся встать на позиции рабочего класса. По мнению Г.Лелевича и его. соратников, персонажи-рабочие оказывались выразителями чуждой им психологии, суть революционного процесса и пролетарское понимание истории искажались: «попутчики» изображались в качестве деятельных участников революции, а рабочие отстаивали идеи непротивления или создавали подобие тайного ордена. М.Шагинян сама называла «Месс-Менд» «романом-сказкой совершенно своеобразного жанра». В книге сочетались сюжетные ходы авантюрного повествования и мелодрамы, фантастический вымысел, сатирическое обличение капиталистического мира, идеализация советского строя и пародийное использование литературных источников. Предложенная Н.А.Бухариным формулировка предполагала переосмысление существующей литературной схемы, использование устойчивого набора художественных приемов для достижения иных, нежели это заложено в собственно «пинкертоновской» модели целей. Но, выполняя идеологический заказ, писатели не хотели «опускаться» до уровня «Пинкертона». Отсюда элемент пародийности, стремление подчеркнуть дистанцию между автором и текстом. Впрочем, установка на пародийность скорее мешала, нежели помогала. В очерке о «Пинкертоне» дореволюционном А.Бухов обращал внимание на исчезающую в подобных текстах границу между пародией и объектом пародии. Читатели малоподготовленные были не способны отличить пародию от пародируемого. Те же, кто хорошо разбирался в литературе, не интересовались «красным Пинкертоном». Пародию и социальный пафос не удавалось слить воедино.
Пятая глава посвящена литературным формам, в которых использовались приемы авантюрного повествования, — кино-роману,
бульварному роману, уголовному роману и детективу. О "кинематотрафизации современной западной и русской литературы"6 писалось много раз. Стремление сочетать два вида искусства, действительно, является одной из отличительных черт литературы 1920-х гг., но чаще всего модными кинотерминами называли приемы, возвращавшие читателей от ставших привычными моделей социально-бытового или психологического романов к хорошо разработанной, но несколько подзабытой стилистике авантюрного произведения. И так называемая монтажная композиция, и внешняя, «театральная» выразительность образа, и определенность характера, и сочетание планов при первостепенной роли крупного плана, и условность изображения, и динамика развития сюжета, и острота конфликта, и «декоративная» приблизительность фона — все давно использовалось в авантюрном романе. «Кино-романы» Н.А.Борисова «Укразия» и «Четверги мистера Дройда» — пример того, как в метрополии создавались приключенческие книги, рассчитанные и на коммерческий успех, и на пропагандистский эффект. Автор берет за основу форму авантюрного произведения, но меняет проблематику, тип конфликта, характеры центральных персонажей — т.е. целый ряд основополагающих формальных признаков. Проблематика произведений подобного типа практически всегда сводится к противостоянию «наших» и «не-наших». Развязка здесь очевидна изначально. Конфликт между нашими и не-нашими трактуется автором еще и как конфликт старого и нового: старое обречено на поражение, новое неизбежно должно победить. На смену Богу, судьбе, року, неведомому Хозяину приходит неумолимая историческая закономерность. У истории нет больше никаких загадочных поворотов — человечество по прямой дороге движется к светлому будущему.
Существуют две основные модели, по которым создаются бульварные романы. В первом случае акцент делается на разработку системы персонажей, а сюжет максимально упрощен. Вторая модель построена на динамичной смене обстоятельств и введении дополнительных сюжетных линий. Эта модель сближается с моделью авантюрного романа, но последняя здесь, с одной стороны, осложняется дополнительными обязательными элементами, прежде всего, любовной интригой, возможной в авантюрном романе, но вовсе не обязательной, а, с другой стороны, теряет устойчивую проблематику авантюрного произведения (противопоставление «покоя» и «беспокойства», согласно формуле Б.А.Садовского). В произведениях Н.Н.Брешко-Брешковского ключевую роль, как правило, играет политическая интрига, среди персонажей — русские эмигранты, пытающиеся найти свое место в другом, во многом чуждом мире, куда они попали против воли. Несмотря на последовательную ориентацию на каноны авантюрного романа в
6 Витман A.M., Покровская (Хаимович) Н.Д., Эттингер М.Е. Восемь лет русской художественной литературы (1917-1925). — M.-J1., 1926. — С. 364.
построении сюжета, Брешко-Брешковский центральным конфликтом делает конфликт морально-нравственный. Добродетельные герои противостоят аморальности и безнравственности, «вдохновенная религиозность» побеждает. Подтверждение вечности «вечных истин», христианских норм добродетели, существующих вне времени и пространства, читатель находил и в романах О.Г.Бебутовой, построенных на нагромождении любовных треугольников. Система ценностей, вроде бы вывернутая наизнанку за годы революции и гражданской войны, на самом деле осталась незыблемой — подчеркивала Бебутова, возвращая читателей в дореволюционный мир.
1920-1930-е гг. в мировой литературе, прежде всего в литературе англосаксонской, проходят под знаком развития детектива. Эта жанровая форма завоевывает огромную популярность, но в русской литературе собственно детективных произведений почти не создается. Детектив может развиваться лишь в обществе, где конфликт добра и зла как конфликт нравственный рассматривается в качестве одного из ключевых столкновений современности. В СССР с господствующей точки зрения конфликт нравственный являлся лишь «продолжением» конфликта классового. Кроме того, для построения детективного сюжета необходимо, чтобы в обществе, где совершается преступление, было четко определено, что есть закон и что есть нарушение закона. Детектив редко допускает «отклонения» от жесткой схемы: все, что противоречит закону, — преступление, преступник должен понести наказание. В 1920-е гг. развитие детектива в русской литературе затруднено во многом именно из-за дискредитации «закона» как такового, причем это касается и советской, и эмигрантской литературы. Показательны в данном случае попытки писателей русского зарубежья использовать элементы детектива в произведениях, действие которых развивается в СССР. В романе В.Я.Ирецкого «Похитители огня» — детективная сюжетная схема, причем преступление совершается в СССР и расследование ведет советский уголовный розыск. Но поскольку писатель-эмигрант изображает советскую действительность, система нравственных оценок, традиционная для детектива, вывернута «наизнанку». Ирецкий словно действует по системе «минус на минус дает плюс»: если жертвой становится человек, верой и правдой служивший преступному режиму, то совершивший преступление показывается не преступником, а героем, а погибший — преступником.
Образ агента уголовного розыска Шельги из романа А.Н.Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» — одна из самых примечательных попыток создать новый тип советского положительного героя, сталкивающегося и с белоэмигрантами, и с агентами империалистов, и с бандитами, и с международными авантюристами. Принципиальным отличием советского сыщика становится его «обычность», которая в данном случае лишь подчеркивает «масштаб» рядовой личности в СССР.
Авантюрная схема как нельзя лучше приспособлена для того, чтобы показать исключительность обычного — именно на трансформации прежде заурядного героя построены многие авантюрные произведения. Но в классической авантюрной схеме самим героем овладевает беспокойство, побуждающее утверждать свою исключительность, а у Толстого Шельга оказывается вовлеченным в авантюрный сюжет «по долгу службы»: он должен расследовать преступление, совершенное «настоящим» авантюристом. Авантюрист-одиночка пытается использовать в своих целях противоборство социальных систем, и традиционное противопоставление покоя и беспокойства выглядит иначе на фоне классового конфликта. В «Ибикусе» Толстой показывал «авантюристов поневоле», в «Гиперболоиде инженера Гарина» создаются образы «современных авантюристов» — умных, волевых, талантливых и циничных, настоящих, если воспользоваться названием книги
A.Ветлугина, «авантюристов гражданской войны». Толстой подчеркивает, что именно определенные общественные условия помогают раскрыться авантюрному началу. Столкновение авантюриста с буржуазным обществом рассматривается как конфликт двух аморальных сил. В рамках собственно авантюрного сюжета развивается линия, связанная с Гариным и Роллингом; другая же линия, с одной стороны, выстраивается в соответствии с детективным противопоставления добра (сыщик) и зла (преступник), а с другой стороны, является проекцией классового конфликта, где Гарин выступает индивидуалистом, а Шельга действует от имени коллектива. Пренебрегая «буржуазной моралью», дискредитировавшей себя во время Первой мировой войны, Гарин забывает, что появилась новая, пролетарская мораль, которой ему нечего противопоставить. Более того, авантюрист стремится выступать в качестве «организатора». Это противоречит самой сути образа авантюриста, так как смысл авантюрного конфликта в энергии беспокойства, вторгающейся в находящееся в состоянии равновесия, т.е. «организованное» общество. Гарин не понимает, что «организационный потенциал» одиночки не может противостоять организационной силе общества. Буржуазное общество не справляется с угрозами новой эпохи, но их способно предотвратить новое, советское общество.
В шестой главе подводятся итоги развития авантюрной прозы в русской литературе 1920-1930-х гг. В начале 1920-х гг. писателей в авантюрной модели привлекали мотив театральности всего сущего, стремление понять, мыслимо ли существование мира и человека без таинственного кукловода, держащего все в своих руках; образ человека, поведение которого объясняется идеей беспокойства, искателя — не столько собственно приключений, сколько того, что без приключений недостижимо. Б.А.Садовской, А.Н.Толстой, М.А.Булгаков,
B.В.Каменский, Г.Н.Гайдовский и после революции, ставившей своей целью вознести человека на вершины бытия, стремились показать
подвластность каждого неким высшим силам. Писатели, откликнувшиеся на призыв создать советского «Пинкертона», иначе строили произведения. Социально-конкретная проблематика не позволяла в полной мере использовать метафизическую дистанцированность авантюрной модели. Необходимый эффект достигался главным образом за счет использования пародийной отстраненности. И все же «театральность» авантюрной структуры сказывалась и в «сказочности» романов М.С.Шагинян, и в цирковых приемах у В.П.Катаева, Вс.В.Иванова и В.Б.Шкловского.
В советской литературе сюжетно-композиционная схема «похождений» и образ авантюриста играли важную роль в создании сатирической картины жизни буржуазного общества. Условность авантюрной структуры близка условности памфлетного изображения, и эта общность с успехом использовалась в прозе 1920-х гг. (Необходимо отметить, что нет произведений, в равной степени сочетающих черты авантюрной и комической прозы: мы имеем дело либо с элементами сатиры в авантюрной прозе, либо с приемами авантюрного повествования в сатирических произведениях). Сохранение схемы, концентрирующей внимание на похождениях подчеркнуто асоциального героя, было затруднительно в книгах о советской действительности, но зато кажущаяся «буржуазность» авантюрного романа, когда действие происходило за пределами СССР. Кукольный мир — теперь прежде всего мир капиталистический. Авантюрные приемы построения сюжета используют в сатирических произведениях Б.А.Лавренев («Крушение республики Итль»), Ю.П.Слезкин (Ж.Деларм) («Кто смеется последним» («Дважды два — пять»)), А.В.Шишко («Господин Антихрист», «Комедия масок») и др.
Авантюрист в буржуазном обществе обречен, потому что терпит крах сам буржуазный мир. Авантюрист в социалистическом государстве обречен, потому что там нет места авантюризму. В 1928 и 1931 гг. выходят романы И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», которые словно завершают круг развития русского авантюрного романа. Как и Чичиков у Н.В.Гоголя, Остап Бендер обречен. Симптоматично, однако, то, что, в отличие от Чичикова, Бендер выступает в роли почти положительного героя, в столкновении с которым раскрываются характеры персонажей сугубо отрицательных. Он уже порождение новой, революционной, а может быть и постреволюционной эпохи, и в этом его привлекательность для авторов, создающих резко антипатичные образы «героев прошлого», пытающихся вернуть ушедшее, — Кисы Воробьянинова, отца Федора и др. Бендер не является социально опасным, поскольку, по мысли авторов, для его талантов уже нет почвы в СССР. И Бендер понимает собственную обреченность: его стремление в Рио — желание авантюриста вернуться в мир авантюризма.
В 1930-е гг. в советской литературе авантюрная проза вытесняется прозой приключенческой. Об этом говорит и изменение терминологии: на первый план выдвигается принцип построения сюжета. В эмиграции в начале 1930-х гг., наоборот, писателей привлекает не столько действие, сколько тип героя-авантюриста и его восприятие в статичном, не авантюрном мире. В рассказе «Авантюрист» Г.Газданова и в «Авантюрном романе» Н.А.Тэффи авантюрист больше не является центральной фигурой в системе персонажей. Авантюрное в качестве основы его характера констатируется не повествователем, претендующим на объективность, а другим персонажем или самим героем. Определяющим фактором становится мотивированное психологически поведение главных героинь, для которых столкновение с авантюрным — подлинным или мнимым — лишь одно из слагаемых в ряду других событий. В авантюрной схеме все, кроме героя-авантюриста (или группы героев), играли вспомогательную роль; теперь персонажи словно меняются местами: писатели используют образ авантюриста, для того чтобы показать внутренний мир своих героинь.
Вторая часть диссертации посвящена РУССКОЙ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ 1920-1930-х гг. В это время фантастическая проза впервые после эпохи романтизма занимает столь значительное место в русской литературе. Картины иных миров рисуют в футуристы Н.Н.Асеев и Г.Арельский, в сатире фантастику используют М.А.Булгаков, Е.Д.Зозуля, Б.А.Лавренев, А.В.Шишко. Образцом научно-фантастической прозы становятся книги В.А.Обручева, фантастические картины будущего создают Е.И.Замятин, Я.М.Окунев. Романтическая фантастика привлекает членов групп «Московский Парнас» и «Серапионовы братья», фантастические романы пишет А.Н.Толстой, существенную роль фантастика продолжает играть в творчестве А.С.Грина. А.Р.Беляева критики называют советским Жюль Верном. В прозе русского зарубежья к фантастике обращаются И.Ф.Наживин, А.М.Решшков, П.Н.Краснов, С.Р.Минцлов, В.Я.Ирецкий, М.К.Первухин, И.Д.Сургучев, П.П.Тутковский, В.В.Шульгин и т.д. Мистические мотивы звучат в оккультных романах. «Россия, последние годы ставшая фантастичнейшей из стран современной Европы, несомненно отразит этот период своей истории в фантастике литературной»,7 — писал в 1922 г. Е.И.Замятин. «То, что происходит сейчас в нашей стране, те темпы, которыми все это осуществляется, говорят сами за себя. База для творчества поистине огромна, — утверждал в 1934 г. А.Н.Толстой. — Отсюда вывод, что есть все предпосылки, сама жизнь их дает, для развития научно-фантастического романа»8.
7 Замятин ЕМ. Герберт Уэллс. — Пб„ 1922. — С.47.
8 Борьба за технику. — 1934,- №17-18.- Сентябрь. — С.9.
Фантастическая проза позволяла передать новое, принципиально отличающееся от дореволюционного, мироощущение. Это также было своеобразным разрушением старого мира: на смену литературным формам, господствовавшим в русской прозе на протяжении более чем полувека, пришел способ художественного освоения мира, ранее в отечественной литературе широко не применявшийся. Фантастика помогала разорвать устойчивую связь человека и окружающего мира, установленную реализмом в 19 в., и в этом смысле была сродни романтическому ниспровержению классицистических норм, также связанному с революционной катастрофой. С помощью фантастики писатели пытались выстроить новую схему взаимосвязей быта, бытия и события, подчиненную воле автора, а не условиям. Фантаст легко преодолевает зависимость от любых надличностных сил, создавая новую систему мира. После революции эта возможность фантастики приобретает особую актуальность, так как рушатся традиционные системы гармонии и проблема «хаос — гармония» выходит на первый план. Фантастика также могла служить средством упрощения реальности, адаптации сложной для понимания действительности к сказочным, фольклорным формулам, понятным малообразованной части читательской аудитории.' В русской литературе 1920-1930-х гг. представлены различные типы фантастической прозы. Фантастика давала возможность конструировать действительность, но одни стремились таким образом уйти от реальности, другие — активно вторгаться в нее. Фантастика могла выступать как способ показать иной мир и как способ выявить (обострить) противоречия этого мира.
В первой главе уточняются теоретические положения, связанные с определением фантастического в художественной литературе и классификацией фантастического. Автор исходит из того, что в основе фантастического произведения лежит особый тип вымысла: фантастический вымысел воплощает в реальность то, что является невозможным или недостижимым, но при этом заведомо невозможное определяется рамками возможного на той или иной стадии развития сознания. Это заведомо невозможное «объективно», с точки зрения существующей в тот или иной период «объективной» картины мира.
Во второй главе рассматривается фантастическая проза русского зарубежья. В литературе эмиграции фантастика использовалась и для создания утопических картин будущего, связанных с идеей грядущего возрождения России как оплота духовности, противостоящего разлагающемуся в погоне за материальным Западу, и для сатирического изображения большевистских порядков. В прозе русского зарубежья фантастика сочетается с публицистическим началом, с элементами фельетона, памфлета. Действие большинства фантастических произведений разворачивается в России. Это может быть Россия прошлого («Пугачев-победитель» М.П.Первухина), Россия будущего («За
чертополохом» П.Н.Краснова) или советская Россия («Перст Божий» П.П.Тутковского, «Похитители огня» В.Я.Ирецкого, рассказы А.Т.Аверченко). Большевистский переворот расценивается писателями как катастрофа — причем катастрофа не просто национальная, но мировая. Исключение составляет лишь роман А.Н.Толстого «Аэлита». В сатирических рассказах А.Т.Аверченко Совдепия предстает невиданной, фантастической страной, где нет ни прошлого, ни будущего, а настоящее — временное, исчезающее при столкновении с вечностью. Это царство смерти; властители его — «нечистая сила». В повести «Искушение в пустыне» И.Ф.Наживин рисует полный провал большевистских устремлений. Памфлет на коммунизм превращается в памфлет на человечество, «коммунистический» остров становится проекцией остального мира. У П.Н.Краснова в романе «За чертополохом» мы встречаем тот же образ отделенной от остального мира России, что и в рассказах Аверченко «Отрывок будущего романа» и «Стенли», но пафос романа принципиально отличается. «Великое Российское государство» сумело не только преодолеть большевизм, но и уйти с порочного пути развития, которым следует западная цивилизация, «гнилой запад»9. Схема, положенная в основу сюжета, напоминает фольклорную: таинственная сила влечет героя в царство мертвых. Чертополоховые заросли воспринимаются как граница между миром мертвых и миром живых, но мертвой оказывается демократическая Европа, а Россия, скрытая от взора непосвященных, предстает воскресшим градом Китежем. Фантастика позволяет писателю, переносящему действие в будущее, обострить противоречия, довести идеологические установки до логического конца. В романе словно сталкиваются утопия и памфлет. Противопоставление России и Европы у Краснова — это противопоставление веры и неверия.
Эпиграфом к повести «Перст Божий. (Гибель российской коммуны)» П.П.Тутковский поставил слова «Кто в наше время может разграничить действительность и пылкую фантазию?» Происшедшее с Россией осознается писателем как невозможное, фантастическое. Соответственно, и для «исправления ситуации» нужны фантастические методы. В повести П.П.Тутковского один человек, русский изобретатель, уничтожает большевистский строй. В системе персонажей «злые враги России, интернациональные комиссары» противопоставляются русскому народу. Залог возрождения государства писатель видит в устремлении к религии, в истовости веры, присущей русским людям. В «историко-фантастическом романе» М.К.Первухина «Пугачев-победитель» фантастическое подается как историческое. Писатель строит сюжет на трансформации истории: войскам Пугачева удается занять Москву и Емелька провозглашается «анпиратором». Композиционно произведение делится на две части: историческую, где авторский вымысел не вступает
9 Краснов Л.Н. За чертополохом: фантастический роман. — Берлин, 1922. — С.25, 380.
в противоречие с фактами, и фантастическую, в которой исторический фон целиком подчинен фантастической идее. Первухин показывает, как, лишившись Государя, разрушается, умирает государство. Эпоху пугачевского бунта читатель должен соотносить с современностью. История падения Пугачева и восстановления династического правления в России — это попытка предсказать будущее советской России. Война с Емелькой воспринимается и изображается как борьба с сатаной. Русский народ, русскую государственность, честь и славу России спасает вера православная. Народ уповает на чудо, и чудо происходит. В книге
A.М.Ренникова «Диктатор мира: роман будущего» фантастическое изобретение помогает столкнуть различные политические силы, различные взгляды на идеальное мироустройство. «Нечто без окончания»
B.В.Шульгина -— диалог, персонажи разговаривают о будущем. Собеседники настолько уверены в скором падении большевиков, что лишь вскользь касаются этого в начале беседы. Шульгин старается понять логику происходящего сегодня, исследуя не только причины, но и следствия, доказать, что жизнь сегодня не начинается, и не заканчивается, что она не момент, а процесс, складывающийся из множества событий, ни одно из которых не должно заслонять бытие.
Большинство прозаиков русского зарубежья, обращавшихся к фантастике, принадлежало к «правому» лагерю, но были и те, кто придерживался демократической ориентации. Название книги В.Я.Ирецкого «Похитители огня: роман из советской жизни» связано с образом Прометея. Новоявленные советские Прометеи хотят украсть у человека «искру Божью». Беляев, открывший способ воздействия на человеческую психику, не способен противиться искусителю, в роли которого выступает маньяк-коммунист Мизерский, и предает свой дар, свое призвание. Вовченко, сохранивший веру в идеалы коммунизма, постепенно приходит к разочарованию в советской действительности и взрывает лабораторию. В развязке книги отразилась позиция значительной части берлинской эмиграции, считавшей, что большевизм неминуемо падет, когда народ поймет, в чем его сущность. Взрыв в лаборатории в данном случае является предвестником социального взрыва в России.
«Аэлиту» А.Н.Толстого исследователи называют одним из первых советских научно-фантастических романов, хотя писалась книга в 1922 г. в Германии. Эта советско-эмигрантская двойственность долгое время сказывалась на восприятии произведения критиками и литературоведами. «Аэлита» послужила моделью для создания целого ряда художественных произведений. В сюжете романа значимой явилась попытка объединить традиционную линию, связанную с межпланетным путешествием (в данном случае подчеркнуто банальным — на уже не раз становившийся предметом изображения Марс), с революционной героикой. В системе персонажей наибольший интерес представляла фигура красноармейца
Гусева. Естественная «отстраненность» от советской действительности помогла Толстому выделить в характере героя черты, обусловленные сущностным, а не частным, бытовым.
Как и в литературе русского зарубежья, в советской России в первой половине 1920-х гг. развивается преимущественно социальная фантастика. Третья глава называется «В ожидании мировой революции». В начале 1920-х гг. мировая революция видится неизбежной, и сама по себе является недостаточно фантастичной. В центре внимания оказываются утопические картины будущего, а не изображение борьбы за установление советской власти во всем мире. В книге «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» А.Чаянова читатель переносится из 1920 г. сначала в 1921 г., а затем — в сентябрь 1984 г. Герой просыпается в «стране будущего». Писатель использует форму прошедшего будущего: персонажи, вспоминающие о событиях последних шестидесяти лет, обращаются к своему прошлому, читатель же узнает из их рассказов о будущем. Перспектива превращается в историческую ретроспективу, ретроспективу будущего. Чаянов высказывает свои взгляды на принципы идеального мироустройства, показывает грядущее торжество крестьянской России. Новая эпоха противопоставляется автором социалистическому периоду русской истории. В основе строя, утвердившегося в России, лежит индивидуальное крестьянское хозяйство — «совершеннейший» тип деятельности, в котором каждый работник выступает как творец. Примечателен сам факт издания в 1920 г. в советской России книги, предвещавшей не просто падение диктатуры пролетариата, но вообще исчезновение в России пролетариата как класса. Своеобразным ответом Чаянову можно считать опубликованный в 1921 г. в журнале студий Московского Пролеткульта «Твори!» «отрывок из фантастической повести» В.Кириллова «Первомайский сон». Москва 1999 года в изображении Кириллова —; гигантский промышленный центр, люди будущего поражают красотой и гармонией. Кириллов также лишь вскользь, как о само собой разумеющемся, говорит о торжестве Всемирной Коммунистической Революции. Революция для него — не цель, а средство; результатом является не победа революции, а воплощение в жизнь идеалов, во имя которых она совершалась. Акцент на появлении в будущем новой — коммунистической — психики делает в романе «Грядущий мир» Я.М.Окунев. В его «утопическом романе» погруженные в анабиоз люди начала 20 в. пробуждаются в первой четверти 22 столетия.
Сочетание авантюрно-приключенческого и фантастического — отличительная черта поэтики группы произведений, появление которых критики связывали с призывом Н.А.Бухарина создавать «красного Пинкертона». Речь идет о книгах В.П.Катаева, М.С.Шагинян, Вс.В.Иванова и В.Б.Шкловского, А.Д.Иркутова, В.В.Веревкина,
В.А.Гончарова, Л.В.Никулина, Б.А.Лавренева, Н.А.Карпова и др. В авантюрно-фантастической прозе сталкивались не только настоящее и будущее, но и две реальности — советская и капиталистическая (чаще всего американская). Памфлетному изображению капиталистического общества с еще более усилившейся эксплуатацией и обострившимися до предела классовыми противоречиями противопоставлялось утопически-благополучное советское государство. Даже если действие, как в романе М.Шагинян «Месс-Менд», развивалось в настоящем, реальность все равно показывалась не такой, какова она есть, а такой, какова она должна быть. Как и в утопиях начала 1920-х г., социальная проблематика была связана с противостоянием двух систем, но если у Чаянова и у Окунева мировая революция рассматривалась как промежуточный этап в развитии сюжета, то в «Острове Эрендорф» Катаева, в «Иприте» Иванова и Шкловского и т.п. действие, наоборот, заканчивается мировой революцией и уничтожением последних бастионов капитализма. Писатели изображают будущее, где по-прежнему существует капиталистический мир, потому что иначе в произведении не было бы ключевого — социального — конфликта, и чаще всего будущее удаленное (в большей или меньшей степени) от времени, в котором живут автор и читатели. С одной стороны, это показывает, что уже теряет актуальность тезис перманентной революции и предстоит пройти через множество испытаний на пути создания единого мирового советского государства. С другой стороны, идея мировой революции пока выглядит еще привлекательной, и вполне достижимой видится конечная цель -всемирная победа коммунизма. Необходимо отметить и еще один момент: убежденность в прочности и долговечности советского строя. Сам факт существования процветающей советской республики в достаточно отдаленном будущем был значим для читательской аудитории в середине 1920-х гг.
Примечательно, что ни одно из авантюрно-фантастических произведений не расценивалось критиками как творческая удача с точки зрения использования фантастики. Рецензентам фантастика казалась либо недостаточно фантастичной, либо излишне фантастичной, и в любом случае недостаточно революционной. Некоторые фактически отрицали возможность существования и советской утопии, обвиняя авторов в стремлении убежать от реальности. В дальнейшем, стремясь показать грядущее торжество идей коммунизма, писатели делали это уже не в утопии, а в памфлете, определяющей стала установка на сатирическое изображение капиталистического общества. Создается гнетущая картина умирающего мира, сознающего неизбежность близкого конца и одновременно всеми средствами пытающегося обмануть себя. Роман А.В.Шишко «Аппетит микробов» (1927) — одно из последних произведений на тему мировой революции. Изменение политической конъюнктуры заставляет искать другие темы для фантастических
произведений. Соответствующие времени исправления вносятся при
переиздании даже в старые тексты. Конкретика будущего становится
опасной. Так, в повести С.Д.Кржижановского «Воспоминания о
будущем» говорится лишь о том, что путешественник во времени видел
будущее, но не уточняется, что именно он видел. Социальная утопия
через десять лет после революции уступает место утопии социально-
технической. Окончательное торжество Коммунизма при этом, как
правило, подразумевается, но мировая революция не изображается.
В.Д.Никольский пишет уже о том, «какие подавляюще-огромные
перспективы перед техникой и наукой откроет это грядущее, о
наступлении которого мечтали, отдавая свои силы, жизнь и здоровье,
10
лучшие люди всех времен и народов...»
Использование фантастики в сатирических произведениях анализируется в четвертой главе. Фантастике близок сам принцип сатиры: утверждение идеала через отрицание антиидеала, путь к подлинному через мнимое. Чаще всего писатель, опирающийся на фантастический вымысел, стремится привлечь внимание к тому, что в создаваемой им картине мира отличается от общепринятого. Но есть и другой тип фантастической прозы: изменяя реальность, можно сделать ярче и понятнее то, что остается неизменным. Фантастический вымысел помогает убрать все скрывающее, по мнению автора, сущность настоящего. Субъективный взгляд претендует на то, чтобы быть по-настоящему объективным. У Е.Д.Зозули в «Рассказе об Аке и человечестве», в «Граммофоне веков», в «Живой мебели» можно увидеть скептицизм по отношению к настоящему, общий пессимистический взгляд на жизнь человека и историю человечества. О судьбе человечества, превращающегося в Государство, размышляет в романе «Мы» Е.И.Замятин. Если мы сравним картины будущего в романе Замятина и в советских утопиях 1920-х гг., то найдем множество схожих черт. Но в утопии, создавая воплощенный идеал, писатели делают акцент на новой «коммунистической психике», у Замятина же «психика» героев вполне традиционна, а идеальность разрушается наличием еще одного мира, дорога к которому идет через Древний Дом. Единое Государство сознается именно как Государство, потому что есть и нечто иное, неведомое, отгороженное Зеленой Стеной. Сама идея иного мира, путь в который лежит через таинственный дом, свое наиболее яркое воплощение получила в волшебной сказке. Столь неожиданное на первый взгляд столкновение технологического сознания потомков и синкретического сознания предков в романе Замятина не случайно. Глубинные основы сознания, сохранившиеся несмотря на прошедшие века, не позволяют герою раствориться в новом мире. Ему ведомы те сомнения и стремления, что и автору и читателям. То, что принято рассматривать как бунт против «идеальной несвободы», на самом деле
10 Никольский В.Д. Через тысячу лет: научно-фантастический роман. — Л., 1927. — С.4.
является бунтом против несвободы неидеальной: идеальная несвобода не допускает такого количества «отклонений», не позволяет усомниться. Столкновение между декларативной идеальностью и фактической неидеальностью — одно из ключевых противоречий, лежащих в основе сюжета романа. Именно на это обращает внимание Д-503, когда в жизнь вторгается Случай. Гармония на поверку оказывается хаотична. Появление в Едином Государстве организации, ставящей целью освобождение от благодетельного ига Государства, есть свидетельство не-Единости Государства, а, значит, социальный конфликт в романе надо рассматривать не как столкновение личности и подлинно Единого Государства, а как противоборство различных групп внутри мнимо Единого. Конфликт из «конфликта будущего» превращается в «конфликт настоящего» и не может соотноситься только с возможным будущим устройством тоталитарного государства. Проблема существеннее: Единое Государство претендует на то, чтобы быть Единым Человечеством, и оказывается, что единственный путь гармонизации частей, достижения Идеала — идеальная несвобода, обретаемая за счет лишения человека всего человеческого.
В 1920 г., когда торжествующий хаос заставлял абсолютизировать гармонию, Замятин утверждал, что хаотическое начало отличает человека и человечество: иррациональный корень становится основой всего происходящего. Писатель стремился разрушить статичную схему утопии, столкнув ее с движением жизни. Обретение свободы через обязательное устранение любых ограничений (несвобода свободы) противопоставляется традиционной — природной, не механической гармонии. Гармония естественная и гармония , механическая — вот одна из важнейших проблем, поставленных в романе. Когда роман «Мы» называют «антиутопией», антиутопия обычно классифицируется либо как разновидность утопии, либо как самостоятельный жанр. Книгу Замятина можно определять как антиутопию, но это «анти» проявляется прежде всего в отрицании формообразующих принципов утопии. Утопия описательна, антиутопия повествовательна, сюжетна. Утопия статична, антиутопия — динамическое разрушение утопии. Антиутопия — не воплощение идеала, а критика одного идеала с точки зрения другого, памфлет, в котором фантастика используется для социально-философской критики настоящего.
В статье «Я боюсь» Е.И.Замятин призывал писателей не быть благоразумными, католически-правомерными, полезными сегодня, «хлестать всех», как Свифт, и «улыбаться над всем», как Анатоль Франс11. Тяготение к западной литературе проявилось в русской прозе первой половины 1920-х гг. и в пристальном внимании к наследию Гофмана, Уэллса, Свифта. На Гофмана ориентировались в своем творчестве «Серапионовы братья» и писатели из группы «Московский
11 Дом искусств. — 1921. — №1. — С.43-45.
Парнас». Традиционные приемы сочетались с пародийным разрушением «изнутри» жанровой заданности и, в результате, создавалась абсурдно-гротескная картина мира. Влияние Свифта чувствуется, например, в рассказе В.А.Каверина «Бочка», где автор создает травестийный образ родной планеты и цикличностью вращения бочки объясняет закономерности исторического процесса.
Использование фантастики в сатирических произведениях является одной из отличительных черт творчества М.А.Булгакова. «Роковые яйца» и «Собачье сердце» традиционно изучаются как сатирическая дилогия, но это еще и дилогия фантастическая. Завязкой сюжета и в той, и в другой повести служат фантастические открытия, сделанные «дореволюционными» профессорами в СССР. В обоих случаях открытия приводят к непредсказуемым последствиям, но при кажущемся сходстве и сюжетное построение произведений, и типы, в них созданные, и роль фантастического существенно различаются. В «Роковых яйцах» действие переносится в будущее — не слишком отдаленное, но все-таки значительно отличающееся от настоящего. Сатирическое изображение сочетается с картинами в стиле фантастических романов-катастроф: во второй части повести, где описывается нашествие гадов, фантастика выходит на первый план. В «Собачьем сердце» действие разворачивается в настоящем, фантастика играет служебную роль, но эта повесть также тесно связана с фантастической литературной традицией. Провозглашенная коммунистами цель -— создать новый мир и нового человека — была фантастична. Именно поэтому для сатирического изображения советских реалий прекрасно подходили фантастические образы. Создание нового человека — не дело человека, он не способен наделить тело душой, даже если сможет оживить его, — не раз утверждали писатели. Шарикова можно рассматривать как гомункулуса, созданного ученым, возомнившим себя равным Богу; можно видеть в нем аллегорическое изображение воцарившегося хама; можно — животное, волею интеллигентов-экспериментаторов, не подумавших о последствиях своего эксперимента, поставленное над людьми, а в развязке, когда Шариков вновь становится собакой, можно увидеть единственный выход из создавшейся в России, да и в мире ситуации. Все это справедливо, но кажется упрощением. Объектом сатирического изображения в повестях Булгакова становится советская Россия, но уровень обобщения позволяет не замыкаться на строго определенном социальном материале. Сатирическое направлено против утопического и защищает право человека на обычную, простую, но естественную жизнь, пусть не идеальную, но далекую и от губительного антиидеала, предстающего как нечто неразрывно связанное с воплощением неосуществимой мечты именно в силу ее априорной неосуществимости. Идея создания или пересоздания людей становится центральной темой еще нескольких сатирических произведений, написанных в середине 1920-х гг. в СССР. В
повести «Конец здравого смысла» А.В.Шишко показывается Европа будущего. Он отказывается от классового конфликта и делает это вполне осознанно: сатирическое изображение буржуазного общества может быть спроецировано на общество вообще. Шишко осмеивает многое из того, что казалось воплощением мечты писателям-утопистам, — к примеру, омоложение или таблетки, заменяющие сон и еду. Полемика с утопистами не бросается в глаза, ее заслоняют прозрачные намеки на современное капиталистическое общество, политическая конкретика. И все же буржуазность того здравого смысла, с которым сражается герой, во многом декларативна. Это не классовое противостояние, а бунт человека против механической цивилизации.
Центральное место в пятой главе занимает характеристика фантастического в произведениях А.С.Грина. Фантастическое у Грина связано с «ненормальным», или, как сейчас бы сказали, паранормальным
— выходящим за рамки нормативных представлений о мире, природе и человеке. Грин создает фантастические характеры, в основе которых лежит нечто странное, таинственное, иррациональное, показывает неспособность разума постичь многое из того, что происходит с человеком. Мир, созданный людьми, нормативен, и он безусловно хуже мира подлинного, скрытого от людских глаз видимым миром нормы. Герои Грина отстаивают право на собственное существование. Его произведения отличает, если можно так выразиться, антиколлективистский пафос. Путь, который выбрало человечество, — построение технической цивилизации, — кажется Грину ошибочным. Разум, полагает Грин, ведет человечество в тупик. Людям следовало бы прислушиваться к интуиции, к чувствам. Наука стремится объяснить непонятное, ввести его в рамки нормы, человеческий разум хочет подчинить мир, уничтожая или игнорируя все, что не поддается разумному объяснению. Век научно-технического прогресса для Грина
— век торжества толпы над личностью, разума над верой и чувством, низменных, животных желаний над высшими стремлениями. Человек же настоящий, личность в полном смысле слова мечтает приобщиться к высшему. Фантастику Грина нельзя назвать ни сказочной, ни романтической. Это фантастика эпохи научно-технического прогресса, и, по аналогии с термином «научная фантастика», здесь уместно употребить термин «антинаучная фантастика».
Предмет рассмотрения в шестой главе — научная фантастика. «Образцовым» научно-фантастическим романом, позволяющим уяснить основополагающие художественные принципы «не-социальной» научной фантастики, является «Плутония» В.А.Обручева. Цель писателя — показать возможности человеческого разума: он делает акцент на создании, на изобретении, на открытии как таковом, сочетает художественные задачи с научно-просветительскими. В основе конфликта лежит противодействие человека и стихии, знания и незнания,
природы и цивилизации и т.д. Научная достоверность и познавательность обязательны для научно-фантастических произведений, но поэтика их определяется не только и не столько этим. Задача писателя-фантаста не может быть чисто научно-просветительской (в противном случае произведение надо было бы отнести к научно-популярной или образовательной литературе), но сюжет строится таким образом, чтобы донести до читателя максимально возможное количество научной информации. Композиционно роман Обручева можно разделить на четыре части. Первая, описывающая подготовку к экспедиции и ее начальный этап, построена по модели романа-путешествия. Во второй рассказывается о проникновении в таинственную страну и происходящих во время этого загадочных событиях. Тайна получает объяснение в третьей части, где повествуется о приключениях участников экспедиции в Плутонии. И, наконец, в заключительной части дается «научное» обоснование фантастической разгадки. Фантастическое объяснение цепочки необъяснимых явлений, которое выглядит научным и вполне обоснованным, — один из ключевых принципов построения научно-фантастического произведения. Существенной особенностью романа «Плутония» является деидеологизированность. «Идеологическая составляющая» появляется в романе благодаря репликам персонажей, причем эти реплики не обусловлены происходящими событиями. Это позволяет автору при необходимости менять роль идеологических высказываний, а также варьировать их содержание.
Новый этап развития русской научно-фантастической прозы связан с именем Л.Р.Беляева. В начале творческого пути Беляев использовал фантастику для критики буржуазного общества. Он старался воспроизвести стилистику "переводной" фантастики, но модель служила достижению иной цели: противопоставлению двух социальных систем — капиталистической, которая изображалась в произведении, и советской, в рамках которой существовали и писатель, и читатели. Повесть «Золотая гора» •— переход от социально-критической фантастики к фантастике «утверждающей». В повести складывается образ советского ученого, который в дальнейшем будет переходить из одного произведения Беляева в другое. Хотя основная сюжетная линия связана с «осуществлением изобретения», с противоборством человеческой воли и человеческого разума с силами природы (в широком смысле), одним из ключевых является конфликт двух систем. В романе «Подводные земледельцы» окончательно формируется новая модель построения советского научно-фантастического романа (ее станут использовать и другие писатели). Автор описывает события, невозможные в настоящем, но не переносит действие в будущее: он изображает «современность» не как момент, но как эпоху. В основе фантастической идеи лежит стремление принести пользу людям, советскому отечеству. Для реализации ее необходим комплекс фантастических изобретений, и на помощь приходит наука. С
техническими принципами, с научной основой фантастических изобретений Беляев чаще всего знакомит читателя не непосредственно, «от автора», а используя высказывания или записи персонажей. Он старается «не вмешиваться» в ткань повествования, чтобы не разрушать иллюзию реальности происходящего. Важнейшую роль в фантастической прозе Беляева играют описания: они подчас несут основную нагрузку создания «научно-фантастического».
В 1930-е гг. в советской литературе утопический роман трансформируется в «роман будущего». В романе Беляева «Звезда КЭЦ» показывается мир, где осуществились мечты великого ученого К.Э.Циолковского. Любовный конфликт разворачивается на фоне фантастических картин воплощенного торжества человеческого разума и высшей нравственности. В книге нет отрицательных типов, нет антагонистических противоречий, намеченный любовный треугольник оказывается мнимым и счастливая развязка знаменует собой уверенность в счастливом будущем. Как и роман «Мы», книга Беляева написана в форме записок главного героя, и может рассматриваться в качестве ответа Замятину. Торжество коммунистической психики и общественных интересов сочетается здесь с сохранением собственно человеческого, личного — любви, семьи, творчества, даже таких эмоций и чувств, как ревность, сомнение, неуверенность и т.д. Примечательным является и то, что роман в целом подчеркнуто аполитичен. В будущем автор видит торжество науки, а не политической программы, небесная база названа по имени ученого, а не государственного деятеля. То, что будущее стало возможным лишь благодаря мировому социализму, подразумевается, но — именно подразумевается, общественный конфликт исключен не только из будущего, но и из настоящего, так как главный герой, рассказывающий о своей жизни, — человек будущего, и конфликты конца 1930-х гг. ему неведомы.
В заключительной главе второй части анализируется развитие в 1920-1930-е гг. характерных для фантастической прозы тем и мотивов. Рассматриваются, в частности, свойственный еще романтической фантастике мотив тайны, а также тема исследования, изобретения и связанный с ней образ ученого-изобретателя, которые находятся в центре внимания в рационалистической фантастике второй половины 19 в. В большинстве произведений 1920-х гг. сам факт изобретения носит второстепенный характер, служит лишь завязкой сюжета, основное же действие связано с тем, как изобретение используется. Тип ученого-изобретателя может быть как положительным, так и отрицательным, способность совершать великие открытия не определяет нравственное превосходство героя. Противоборство человека и «природы» остается одним из ключевых конфликтов и в литературе 20 в. Но наряду с этим столкновением большое значение приобретает конфликт «ученый -общество», который показывается как результат противоречия не
абстрактно взятых «ученого» и «общества», а конкретного общества с конкретным человеком, чья система взглядов не совпадает с господствующей. Нравственные и социальные конфликты в фантастической прозе 1920-1930-х гг., как правило, тесно переплетены. Нравственная позиция определяется социальным или заключается в преодолении враждебного социального. После 1917 г. одним из конфликтов, связанных с разработкой образов ученых, становится конфликт между учеными — «нашим» и «не нашим», — где нравственная позиция обусловлена социальным происхождением или общественно-политическими взглядами героя.
Важной проблемой, связанной с разработкой в фантастических произведениях образов ученых, является проблема «науки и религии». Большинство советских фантастов подчеркивает, что знание приходит на смену религии, но подобный подход не является единственным. В «Собачьем сердце» М.А.Булгакова нет непосредственного столкновения науки и Веры, но оно явно прослеживается в «подтексте» произведения. В эмиграции так же, на уровне «подтекста», Вера и наука противопоставляются в романе ВЛ.Ирецкого «Похитители огня». В повести П.П.Тутковского «Перст Божий. (Гибель российской коммуны)» наука приходит на помощь церкви.
В романтической фантастике большую роль играли мотивы сна и «нечистой силы». Одним из наиболее часто встречающихся в фантастической прозе 1920-1930-х гг. приемов трансформации реального в ирреальное является использование мотива сна, видения. В эмигрантской литературе выделяется мистическое направление, оккультная проза. В советской литературе также есть примеры произведений, формальной основой которых становится «параллелизм» сна и яви, но чаще мы встречаем иное звучание мотива сна. Его можно определить формулой: «Сон становится явью». Указывая на схожесть действительности и сна, писатели подчеркивают удивительность существующего. Претерпевает изменение и традиционное использование мотива «нечистой силы». В произведениях писателей-эмигрантов с нечистой силой отождествляются большевики. Показательно, что и в литературе русского зарубежья, и в произведениях советских писателей персонажи, даже не вспоминающие о существовании Бога, к месту и не к месту поминают черта: создается впечатление, что в мире, где торжествуют атеистические идеи, резко возрастает значение дьявола. В СССР мотив «нечистой силы» играет важнейшую роль в творчестве М.А.Булгакова, достаточно назвать «Похождения Чичикова», «Дьяволиаду» или обратиться к тексту «Собачьего сердца», где постоянно чертыхается даже собака. А в романе «Мастер и Маргарита» главным героем становится сама потусторонняя сила — не высшая, но непостижимая для человеческого разума и неодолимая человеческой волей.
В третьей части диссертации изучается РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА 1920-1930-Х ГОДОВ. Отмечается, что к 1917 г. ушли из жизни почти все писатели, определявшие лицо русской исторической прозы в последней трети 19 — начале 20 в. Из тех, кто приобрел известность в качестве исторических романистов еще до революции, продолжали достаточно активно работать лишь несколько человек. Фактически историческая проза 1920-1930-х гг. создается новым кругом авторов — и в СССР, и в зарубежье. В первой главе формулируются теоретические основы исследования, подчеркивается, что «историческая достоверность» в художественном произведении является одним из художественных приемов, реализующимся на различных уровнях структуры текста.
В литературе эмиграции историческая проза занимает важное место уже в первой половине 1920-х гг. Историческая проза русского зарубежья рассматривается во второй главе. Идея преемственности, связывающей эмиграцию и дореволюционную Россию, для многих писателей русского зарубежья являлась одной из ключевых. Наряду с задачей «переоценки прошлого» существовала и обратная тенденция: обращаясь к ушедшим эпохам, писатели стремились «воскресить» прошлое, противопоставить не настоящее прошлому, а прошлое настоящему. «Диалог исторических истин» — так можно охарактеризовать общую тенденцию развития исторической прозы в эмиграции.
С.Р.Минцлов — один из тех, кто писал исторические произведения еще до революции. Профессиональный историк и архивист, Минцлов полагает, что воспоминания, прошлое — главное, что есть у человека. Восприятие историка, живущего одновременного «в разных эпохах», помогает убрать грань между прошлым просто и прошлым историческим, рассказывать о давно прошедших событиях как о недавнем, делиться воспоминаниями о том, что воспоминанием являться не может, ибо свершилось за много лет до рождения автора. Минцлов делает акцент не на умирании, а на той бурной, прекрасной, широкой жизни, что предшествовала смерти; у читателя появляется ощущение уюта: уюта старины, уюта собственного прошлого, собственной юности.
М.А.Алданов как автор исторической прозы дебютировал уже в эмиграции. Центральное место в его творчестве занимает тетралогия «Мыслитель», которую составили романы «Девятое термидора», «Чертов мост», «Заговор» и повесть «Святая Елена, маленький остров». События конца 18 в. перекликаются с современностью, но автор хочет, чтобы читатель сам провел необходимые параллели. Изображая французскую революцию, Алданов дает противоречивую оценку событиям. Революция близка ему как отрицание плохого, и в то же время чужда, поскольку ей не удается утвердить хорошее. «Реминисценции» современности в книгах проявляются не столько в описании событий или в характеристиках лиц, сколько в рассуждениях персонажей, историческими фигурами не
являющихся. Алданов считает, что определяющую роль в истории играет случай, соответственно, и значительность исторических лиц оказывается мнимой. Почти всех — от Канта до Палена, от Екатерины II до Робеспьера — писатель изображает «приниженно», создавая «отрицательные» или «комические» образы.
Обращаясь в эмиграции к истории Древнего Египта, Д.С.Мережковский в «Тутанкамоне на Крите» и в «Мессии» выстраивает в романах примерно ту же систему конфликтов, что и в дореволюционных произведениях: проблематика у писателя не «вытекает» из эпохи, наоборот, эпоха подбирается под проблему, даже, точнее, под определенное решение определенной проблемы. Единобожие и многобожие, мир и война, мужское и женское, вера и любовь, жизнь и смерть — круг проблем в эмигрантской исторической прозе все тот же. Центральной в «Тутанкамоне на Крите» является тема жертвы, жертвоприношения и искупления. Переход от язычества к христианству осмысляется Мережковским в романе как переход от жертвы богу к жертве Бога. При этом Мережковский закладывает в сознание персонажей романа — критян, египтян, халдейцев — антиномию «бог — дьявол» в христианском ее понимании. Позиция повествователя, не скрывающего, что он далек от изображаемой эпохи, определяет не только проблематику, но и взгляды героев, их поведение. И в тематике, и в отдельных высказываниях персонажей можно найти отзвуки последних лет, но подобные аллюзии не связаны с современностью напрямую: зависимый от сиюминутного психологически, Мережковский философски продолжает возвышаться над историческими эпохами. Современность для него — лишь еще один виток вечно раскручиваемой спирали, и в своем творчестве он ищет ответ на вопрос: не является ли эта спираль на самом деле замкнутым кругом? Движение к синтезу есть движение поступательное, или «бег по кругу» и есть тот самый высший синтез, что объединяет в себе все и вся? «Ибо все в мире пляшет, вечным кругом кружится»12, — замечает один из персонажей романа.
Для И.Ф.Наживина, чьи взгляды формировались под влиянием толстовства, центральными проблемами являлись противоборства языческого и христианского начал, христианства «подлинного» и «мнимого». Исторические события важны прежде всего как отражение общих закономерностей — идей, отстаиваемых писателем. В его романах из разных эпох возникают схожие конфликты, появляются образы-близнецы, звучат одни и те же идеи. Так, например, характеристика Византийской империи 10 в. напоминает оценку происходящего в первой трети 20 в. в империи Российской. Одной из основополагающих мировоззренческих посылок Наживина является отрицание прогресса. Раздвоенность, разорванность естества человеческого Наживин считает основополагающим началом мира земного, а вечное стремление человека
12 МережковскийД.С. Собрание сочинений: в 4 т. — М., 1990. — Т.4. — С.293.
к гармонии при невозможности ее обретения — ключевым противоречием. Преодоление раздвоенности лишь иллюзия: единое русское государство, утверждающееся, потому что «одна голова лучше», делает своим символом двуглавого орла. Но все противоположности объединяются неведомым образом в прекрасное целое, именуемое жизнью; беда человека заключается в том, что он не в силах увидеть эту целостность. Она воспринимается лишь при взгляде из вечности, а люди могут только верить и в вечность, и в целостность, и в гармонию. История неподвластна разуму, и Наживин не видит связи между историческими событиями и человеческими поступками.
В творчестве П.Н.Краснова русская история предстает как череда взлетов и падений, но движение это является поступательным. Писатель не идеализирует прошлое: в его произведениях есть столь неприглядные картины жизни «царской России», что их могли бы принять и самые радикальные из советских писателей. Разница в том, что, изображая голод и разруху, предательство и стяжательство, безверие и нравственное падение, Краснов проводит параллели как раз с советской Россией, в современности видит не преодоление «темного прошлого», а отражение его. Произведения Краснова строятся на столкновении положительного и отрицательного, и в отрицательном легко угадываются исторические аналогии с современностью. Краснов ищет аналогий — именно история Россия должна, с точки зрения писателя, подсказать выход, помочь встать на путь истинный. Краснов создает образы Государей, далекие от идеала, но он пишет и о великом подвиге государей, принявших ответственность за народ, отечество, за веру отцов. В дилогии, посвященной российским императрицам, Краснов развивает идею преемственности «великих дел», живой связи великих царствований.
Творчество писателей, стоявших у истоков советской исторической прозы, анализируется в третьей главе. В повести «Декабристы» Н.С.Ашукин использует простую и одновременно эффективную с точки зрения идеологической схему построения произведения, делая повесть доступной и убедительной. Литературной основой книги становятся мемуары жены декабриста П.В.Анненковой: любовная интрига как бы обрамляет собственно рассказ о тайном обществе и о восстании декабристов. Из воспоминаний берутся и фрагменты, позволяющие показать степень падения дворянства, полное пренебрежение интересами народа. Создается образ «темного царства», лучом света в котором являются герои-революционеры. Контрастность изображения доводится до предела. Ашукин подает и пример того, как можно обращаться с историческими источниками: все, что не укладывается в авторскую концепцию, объявляется фальсификацией. В романе «Братья Гракхи. (2000 лет тому назад)», изображая Древний Рим, Т.Левицкая-Ден переносит на две тысячи лет назад схему классового противостояния в буржуазном обществе, заставляет и угнетателей и угнетаемых думать и
говорить языком газет и прокламаций начала 20 в. В повести «Степан Халтурин (1858-1882 гг.)» А.Гамбаров использует образ главного героя для того, чтобы показать революционное движение 1870-1880-х гг. В центре сюжета оказывается агитационная и организаторская деятельность Халтурина, его участие в создании рабочей партии. Н.Н.Шаповаленко в повести «Город на костях» показывает, что революционные преобразования нельзя проводить «сверху». Любые реформы, инициированные верховной властью, призваны лишь усилить эксплутацию народа. Противопоставление Петра I и мужика есть отражение противоположности интересов Императора и народа; Государь предстает фигурой антинародной и — антигосударственной.
Задача советской исторической прозы в первой половине 1920-х гг.
— показать, что современники несут ответственность перед многими поколениями страдавших и умиравших от голода и нужды, перед павшими борцами за свободу, что победа октябрьской революции -закономерный итог многотысячелетней истории человечества, укрепить в читателях ненависть к любому эксплуататорскому строю, к классовым врагам, оправдать и объяснить жестокость по отношению к дворянству, духовенству, купечеству, интеллигенции, кровавую расправу над императорской семьей. Тенденциозность проявляется, во-первых, в самом характере отбора исторических событий, во-вторых, в оценках событий. Меняется тематика исторических произведений. Прозаиков привлекает все, что можно назвать борьбой с «эксплуататорами». Это обусловлено заданностью ключевой проблемы: столкновения защитников народных интересов и врагов народа. Основной конфликт произведений связан с двумя аксиомами, определяющими подход к историческому процессу: народ непременно бедствует, а «верхи» наслаждаются жизнью за народный счет. Но хотя классовые противоречия и являются главной движущей силой исторического процесса, собственно конфликт показывается как классовый лишь опосредованно: у исторических фигур, ставших главными героями книг Ашукина, Левицкой-Ден, Гамбарова, иное классовое происхождение. Писатели создают образы вождей, подчеркивая, что вожди — прежде всего выразители воли народной.
Сам уровень осмысления исторического процесса в метрополии и в эмиграции в это время кардинально различался. Если Алданова интересовали уже нюансы — его произведения были ориентированы на читателя подготовленного и разбирающегося в истории, то советские писатели занимались разработкой общих схем, стремились задать необходимую тональность восприятия исторического прошлого. Их цель
— сделать изложение доступным и заставить принять предлагаемую точку зрения. Отсюда обилие публицистических приемов, плакатность изображения, схематизм в построении системы персонажей с четким делением на положительных и отрицательных. Небольшие по объему и написанные доступным языком, рассчитанные на малоподготовленного
читателя, произведения и историю адаптируют соответствующим образом, устаревшие слова поясняются в сносках или специальных словариках, заменяются на те, что понятны современникам. Необходимо отметить, что общий пафос не предполагает тождества проблематики произведений. Так, в повести Гамбарова центральное место занимает полемика с народниками, которая проецируется на актуальное еще идеологическое противостояние большевиков и эсеров. Идея интернационализма является одной из ключевых в романе Левицкой-Ден.
Революционеры, борцы за справедливость становились примером для подражания. Писатели обращались к прошлому в поисках героического. В ранней исторической прозе было слишком много положительного, а требовалось, чтобы образ положительного героя не заслонял общий отрицательный фон — советский читатель должен был искать героев в современности либо в недавнем революционном прошлом. Ю.Н.Тынянов главным героем повести «Кюхля» делает человека слабого, пожалуй, самого негероического из декабристов. В определенном смысле повесть экспериментальна: писатель старался сконструировать книгу так, чтобы она была интересна и идейным сторонникам большевизма, и тем, кто далеко не во всем разделяет (или вообще не разделяет) точку зрения победителей. Опираясь на факты, на документы, отталкиваясь от научного исследования биографии Кюхельбекера, Тынянов выстраивает ее в соответствии с художественной задачей, акцентируя внимание на одних эпизодах и игнорируя другие. Подчеркнутая документальность многих рассуждений и размышлений придает достоверность и фрагментам, которые вымышлены автором. Прежде всего это касается образа Александра I. Мысли, реакции, мотивы его поступков сочинены, но они обретают очертания исторического факта. Александр I предстает лживым, властолюбивым, нетерпимым, даже кровожадным, испытывающим досаду из-за того, что взбунтовавшимся против него людям удалось избежать гибели. Антисамодержавный пафос — главное, что сближает повесть Тынянова с книгами Ашукина, Гамбарова и Шаповаленко. Писатель стремится «развенчать» монарха, рисуя фигуру то зловещую, то комическую. У Тынянова к императорской семье отрицательно относятся не только декабристы, но абсолютно все — от простого мастерового до Милорадовича. «Александр, который всем говорил, что тяготится троном, боялся соперников»,13 — утверждает писатель. Этот прием — утверждение заведомо недоказуемого как исторического факта — Тынянов использовал и в дальнейшем. Именно здесь зарождается его знаменитая формула: «Там, где кончается документ, там я начинаю». Исторический анекдот постепенно начинает определять отношение к истории. Ошибка переписчика уничтожает человека, ошибка переписчика
13 Тынянов Ю. Кюхля; Рассказы. — М., 1981. — С.204.
человека создает — а сознательной «воле» писателя подвластно все. Он оказывается сильнее эпохи, сильнее истории.
О.Д.Форш, как и Ю.Н.Тынянов, создает произведение, доступное самым разным слоям читательской аудитории, но она выбирает иной путь. В романе «Современники» одних должна была привлечь революционная патетика, других — попытка разрешить сложные религиозные и философские вопросы, третьих призван был заинтересовать «загадочный» характер Багрецова и т.п. Модель построения, отразившаяся в названии романа — «Современники», как нельзя лучше подходила для решения поставленной задачи: брался срез эпохи, но исторический фон в романе оставался фоном.
Четвертая глава называется «От Степана Разина к Петру Великому». Долгое время в советской исторической прозе противоборство двух сил — народа и самодержавного государства — рассматривалось в качестве определяющего конфликта любого исторического периода, а их непосредственные вооруженные столкновения — в качестве ключевых моментов исторического процесса. Именно к изображению таких «ключевых моментов» обращались писатели. Первостепенной являлась задача пересмотреть прежние взгляды на народные бунты, крестьянские восстания, революционные выступления. Персонажами книг становились Степан Разин, Иван Болотников, декабристы, народовольцы — те, кто в прежнее время боролся, по новой исторической модели, «против самодержавия». В 1920-е и в начале 1930-х гт. создаются такие повести и романы, как «Разин Степан» и «Гулящие люди» А.П.Чапыгина, «Стенькина вольница» Ал.Алтаева, «Иван Болотников» М.М.Шишкевича, «Салават Юлаев» С.П.Злобина, «Повесть о Болотникове» Г.П.Шторма, «Холоп Ивашка Болотников» Г.В.Добржинского, и т.д. В романе А.П.Чапыгина «Разин Степан» содержание эпохи определяется не столкновениями государств, не политикой властителей, не государственными преобразованиями, а народными возмущениями, вооруженными выступлениями против правящих классов. Даже повседневная жизнь в романе предстает как непрерывная цепь столкновений угнетателей и угнетаемых. Чапыгин останавливает внимание только на моментах социально конфликтных, и у читателя создается впечатление, что вся жизнь России сводится к сплошному насилию и произволу.
Новые тенденции в советской исторической прозе намечаются в конце 1920-х гг. В 1928 г. выходит книга Г.И.Чулкова «Императоры: психологические портреты». Писатель считал, что наступило время, когда можно не только печатать «страстные пафлеты против поверженных монархов, но и спокойно зарисовывать их личины». Резко отличавшийся от преобладавшего в предшествующее десятилетие подход к изображению монархов сразу бросался в глаза. Факт публикации «Императоров» показал, что о царях действительно стало можно писать
по-другому, и уже в 1929 г. А.Н.Толстой начинает работу над романом «Петр Первый». Толстой стремился увидеть то общее, что объединяло современную эпоху с эпохой Петра I — для советской литературы такой подход был принципиально новаторским. Сразу после публикации первой части романа писателя упрекали в идеализме и реакционности. Г.Горбачев обвинял Толстого в том, что в книге нет изображения борьбы двух тенденций: капитализации России сверху, со стороны царя, и снизу, путем антидворянской и антибоярской революции.
Основная тематическая линия в советской исторической прозе вплоть до середины 1930-х гг. была связана с изображением столкновений власти и народа. Но наряду с главной темой, были и другие
— не столь популярные, но также важные. К началу 1930-х гг. усиливается звучание антиклерикальных мотивов. В повести В.Б.Шкловского «Житие архиерейского служки» церковь и церковные служащие изображаются как люди, использующие народную наивность в корыстных целях. Название отсылает к жанровой форме жития, но Шкловский описывает, как герой укрепляется не в вере, а в грехе. Ирония по отношению к форме сочетается с травестировкой, а особенности стилистической манеры определяются расчетом на эмоциональное воздействие. Показывая священнослужителей как людей порочных, а церковь как средоточие греха, Шкловский и стилистически все «выворачивает наизнанку», создает образы, снижающие духовное до уровня бытового.
Отношение к самодержавной власти и церкви, с одной стороны, и к революционерам и народным героям, с другой стороны, при допустимой «разноголосице» все же полностью определялось идеологией социалистического государства. Взгляды на культурное наследие самодержавной эпохи, на жизнь и деятельность великих писателей, композиторов, художников, ученых были не столь жестко регламентированы. В советской исторической прозе создавались разные, подчас по самой сути своей отличные друг от друга образы не только лиц «второго ряда», но и таких кажущихся сегодня «бесспорными» фигур, как А.С.Грибоедов, А.С.Пушкин и М.Ю.Лермонтов. Отрицание самодержавия часто переносилось на все, с ним связанное, в том числе и на культуру царской эпохи: даже когда не ставилась задача принизить, подспудно существовало опасение не возвеличить. Но был и иной подход
— культура либо отделялась от «базиса», показывалась «отдельно», либо рассматривалась как стремление воплотить некий идеал гармонии и справедливости, созвучный идеалу коммунистическому. Характеризуя эпоху в повести «Судьба Шарля Лонсенвиля», К.Г.Паустовский пишет не только о социальных противоречиях, нищете и бесправии народа, но и о гениальных зодчих, создающих «каменный величественный ансамбль императорской России»14. Его герой понимает, что сила духа,
"Паустовский К. Судьба Шарля Лонсевиля. —М., 1933. — С.24.
самоотверженность и талант русского народа в конечном итоге перевешивают весь ужас, который ему пришлось пережить.
В начале 1930-х гг. «партийная печать, советская общественность подвергли критике вульгаризаторские взгляды представителей «школы» Покровского в области истории»15. По-новому взглянуть на роль исторической прозы заставило и постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома от 16 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР». Изменение линии партии незамедлительно отразилось в литературной критике. Если в 1931 г. Г.Горбачев утверждал, что А.Н.Толстой игнорировал в романе «Петр Первый» ленинское учение о двух путях развития капитализма в России, то в 1934 г. Р.Мессер замечала в ответ, что сам Г.Горбачев плохо знает ленинские работы, и подчеркивала, что в книге отразилась «принципиально новая философии истории». В журнале «Октябрь» были опубликованы материалы дискуссии «Социалистический реализм и исторический роман». Редакция отмечала, что постановление о преподавании истории в школе имеет прямое отношение к задачам советской художественной литературы: «огромное значение приобретают сейчас исторические романы, призванные сыграть свою роль в деле социалистического воспитания масс реалистическим, правдивым показом прошлого»16.
Среди произведений, находившихся во время дискуссии в центре внимания, был роман Г.Н.Серебряковой «Юность Маркса». В пятой главе «Юность Маркса» анализируется как образец исторического романа, написанного в 1930-е гг. с «пролетарских» позиций. Серебрякова показывает, что процесс становления пролетариата как революционной силы, был бы немыслим без участия организующего и вдохновляющего гения. Роман не является «биографическим»: жизнеописание Маркса занимает меньше половины объема, а в качестве второго главного героя вводится вымышленный персонаж — портной Иоганн Сток. Сюжет построен на «движении» главных героев друг к другу, а их встреча знаменует собой объединение практического опыта и теоретической мысли, которое должно принести успех в революционной борьбе. Ключевым художественным приемом, использующимся при создании образа Маркса, становится авторская характеристика: оценки задают необходимый тон восприятия. Вера — вот что должно определять отношение людей к Марксу, и касается это не только его учения, но и личной жизни. Конфликт не просто выстраивается таким образом, чтобы был лишь один, продиктованный автором, вариант правильного его решения; Серебрякова постоянно озвучивает само решение, непременно подчеркивая его «объективный» характер. Шаблонность как художественный принцип лежит в основе подхода к описаниям и речевому строю произведения. Той же цели — упрощения восприятия -
15 Очерк истории русской советской литературы: Часть первая. -
16 Октябрь. — 1934. — №7. -С.195.
М., 1954.-С.291.
подчинено и «метонимическое» изображение мира: построение картины мира как системы простых деталей, своего рода «знаков».
В заключительной главе подводятся итоги анализа русской исторической прозы 1920-1930-х гг. Ее тематика достаточно многообразна, изображаются разные страны, разные эпохи — от античной Греции до Российской Империи второй половины 19 в. Можно выделить и период, более всего интересовавший русских прозаиков. Его временные границы с некоторой долей приближения определяют восшествие на престол Елизаветы, с одной стороны, и кончина А.С.Пушкина, с другой. О причинах, побуждающих обращаться к событиям второй половины 18 — первой трети 19 вв. писал в предисловии к роману "Чертов мост" М.А.Алданов: "Эпоха, взятая в серии "Мыслитель", потому, вероятно, и интересна, что оттуда пошло почти все, занимающее людей нашего времени"17. В отношении русской истории советские писатели и писатели русского зарубежья придерживаются в целом схожих принципов отбора материала (по-разному решая поставленные проблемы), но когда речь идет об истории мировой, произведения существенно отличаются и по тематике.
Осмысление истории и в СССР, и за рубежом носило "дискуссионный характер". Можно проследить и общие тенденции в изменении оценок прошлого. Сначала создаются отрицательные или "бытово сниженные" образы русских монархов, затем чаще появляются книги с противоположным пафосом. Вплоть до конца 1930-х гг. противоборство России с внешними врагами редко является центральной темой исторических произведений. На первом плане — внутренние столкновения. Но в преддверии Второй мировой войны в исторической прозе начинают звучать патриотические мотивы. Прежде всего это относится к СССР, где вспоминают о борьбе с татаро-монгольским игом, польским нашествием, победах над немцами (параллели с современностью здесь очевидны). Главными героями произведений становятся великие русские полководцы: в 1937 г. роман Н.Белогорского "Суворов" публикуется в Харбине, в 1938 году в СССР выходит "Суворов" С.Т.Григорьева. Идеологические установки писателей старшего поколения отличаются от позиции «литературной молодежи». У писателей с дореволюционным стажем остается много общего в восприятии истории, независимо от того, эмигрировали они или нет.
Проблематика исторической прозы имеет свою специфику. В любом историческом произведении писатель затрагивает проблемы "прошлого-настоящего-будущего", "жизни и смерти", "личности и общества". Романтизм, которому историческая проза обязана многим, определил еще одну ключевую проблему — героя и толпы. Но историческая проза обязательно отражает тот круг проблем, который характерен для литературы в данный период ее развития в целом. В
х1Ллданов М.А. Чертов мост. — [Берлин], 1925. — С.4.
СССР обращение к прошлому многими рассматривалось как попытка уйти от действительности. Считалось, что советская литература должна изображать советскую современность: новую жизнь и новых людей. Игнорировалось то, что в историческом произведении отражается авторское настоящее, что круг проблем и пути их решения определяются современностью. «Трактовка исторических тем советскими авторами никогда не бывает отвлеченной, «академической»: в их интерпретации на любую из таких тем есть рефлексы русской современности»18, — писал в 1935 г. Е.И.Замятин. Его слова в полной мере можно отнести и к литературе эмиграции. Именно современность определяет читательское восприятие. Философия истории становится отражением «философии современности», проекцией ее в прошлое, так как современность в философском смысле включена в историю в качестве завершающего ее на данный момент этапа. История, в конечном счете, призвана объяснить или оправдать современность. Прошлое рассматривается в исторической прозе с точки зрения настоящего, но историческая дистанцированность, лежащая в основе соотношения времени создания и времени изображаемого, определяет уникальность структуры произведения. Постановка и решение актуальных для современности проблем на историческом материале позволяет сделать произведение убедительнее, поскольку и писателю, и читателям известен окончательный результат (историческая дистанция нивелирует возможность изменения этого результата), в отличие от произведений о современности, где окончательность решения может быть поставлена под сомнение, ведь дальнейшее развитие событий способно кардинально поменять картину. Немаловажным является и то, что автор в исторической прозе выступает как лицо «незаинтересованное». Он занимает «внешнее» положение по отношению к эпохе, хотя на самом деле и выстраивает ее на основании собственных представлений.
Изменения, происходящие в русской исторической прозе после революционных событий 1917 г., связаны с привнесением «новой тенденциозности». Эта новая тенденциозность, определялась, во-первых, взглядами и задачами конкретного писателя, во-вторых, общими идеологическими установками, и, в-третьих, появлением новых исторических источников — и документальных, и аналитических. В наиболее общей форме новая тенденциозность определяется словом «переосмысление». Если в предшествующий период развития литературы к истории обращались чаще всего в поисках «урока», то на этапе становления советской литературы писатели выступают скорее в качестве «учителей». «Переосмысление» долгое время в метрополии связано с тотальным или частичным отрицанием национального прошлого. Отрицание это проявляется двояко: либо отвергается вообще все, что
18 Замятин Е.И. Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. — М., 1999. — С.212-213.
происходило до начала «третьего этапа освободительного движения», либо отвергается все, кроме выступлений против власти. Социальные конфликты переосмысляются в духе новой идеологии, нравственные конфликты — в духе новой морали; «переоценка ценностей» зачастую доходит до абсурда. Задача «развенчания» самодержавия понималась иногда настолько буквально, что любые силы, боровшиеся с «царской» Россией, показывались с симпатией. Но необходимо отметить, что сама задача «переоценки исторического прошлого» казалась вовсе не бесспорной. В начале 1920-х гг. установка, которая сейчас воспринимается как крайняя, была умеренной, позволявшей в настоящем «балансировать» между прошлым и будущим. Радикальнее выступали те, кто призывал вообще отказаться от «позорного прошлого», писать историю с чистого листа. Этой позиции защитники исторической прозы противопоставили тезис о необходимости социальной критики прошлого и героизации тех, кто выступал против «угнетателей».
По мере того, как строилось советское общество, как формировалась новая государственная идеология, менялся и пафос исторической прозы. На смену всеобъемлющей критике приходит критика недостаточности того, что двигало историю по пути "прогресса", при несомненном признании общей закономерности изменений. Ограниченность теперь рассматривается как естественная черта исторических деятелей прошлого, обусловленная объективными предпосылками. Народность не обязательно связывается с изображением народных движений, народные интересы могут остаиватъ представители разных общественных групп и даже монархи, В конце 1930-х гг. патриотические мотивы уже начинают определять тенденциозность советской исторической прозы. Обусловлено это было осознанием надвигающейся мировой войны. Историческая проза показывает, что задача возбуждения и "поддержания" классовой ненависти отходит на второй план. Главным врагом становятся "иноземные захватчики", героями — те, кто успешно боролся с завоевателями. Советские писатели возвращаются ко многому из того, что было ранее отвергнуто, но при этом они объединяют традиции дореволюционной исторической прозы с тем, что было наработано в предшествующее десятилетие. Наряду с положительным героем, олицетворяющим государство (пусть самодержавное), в произведении обязательно присутствует положительный герой — воплощение народных чаяний. Им противостоят отрицательные персонажи: алчные и безжалостные завоеватели, ненавидящие все русское, и предатели, ради корысти, власти и т.п. продающие свое отечество, свой народ. Патриотический пафос сочетается с пафосом социального обличения, ненависть к врагам классовым объединяется с ненавистью к врагам государства.
В Заключении подчеркивается, что авантюрная, фантастическая и историческая проза, несмотря на формальную дистанцированность, отражала происходящие в Советском Союзе и в мире изменения. Авантюрная проза постепенно превращается в прозу приключенческую: тип героя-авантюриста исчезает, поскольку исчезает основа его характера — неудовлетворенность существующим положением вещей. Образ одиночки, противостоящего "целому", человека, за счет личных качеств способного решить задачи, непосильные для остальных, готового бросить вызов всем и вся, сменяется образом одного из многих, "члена коллектива", "представителя" (народа, государства и т.д.). Традиционные черты характера героя-авантюриста теперь имеют значение только в тех случаях, когда они служат общему делу. В фантастической прозе на смену социальным утопиям и памфлетам приходят научно-фантастические произведения, адресованные в первую очередь молодежи. В них подчеркивает творческий потенциал советских людей и организующая мощь государства. В исторической прозе, где в 1920-е гг. преобладал пафос отрицания, социальной критики, к концу 1930-х гг. на первый план выдвигаются героическое и патриотическое начала: показывается сила государства, утверждается величие России и русского народа. Смута и раздробленность остались в прошлом, эпоха одиночек закончилась. Единое государство и единый народ готовы дать отпор всем, кто осмелится посягнуть на престол, веру и отечество (разумеется, в новом их понимании). Если в 1920-е гг. в авантюрной, фантастической и исторической прозе изображались преимущественно события революционные (в том или ином смысле), конфликты классовые, то в конце 1930-х гг. на первый план выходят уже конфликты межгосударственные. Предчувствие мировой войны проявляется не только в общей тональности произведений, в «атмосфере»: дистанцированная проза позволяет писателям непосредственно изобразить столкновения, еще не произошедшие, но ожидаемые.
Сознание того, что война еще не закончилась, пронизывает русскую советскую прозу и (в несколько меньшей степени) прозу русского зарубежья на всем протяжении 1920-1930-х гг. в 1920-е годы в СССР грядущая мировая война рассматривается как завершение противостояния мира труда и мира капитала, как вооруженное столкновение социальных систем, обреченных на борьбу «до победного конца». В фантастических произведениях рассказывается о том, как в будущем Союзу советских республик удастся, наконец, одолеть сопротивление мировой буржуазии. Военные действия выступают в роли своего рода катализатора, приводят к революционному взрыву в странах Европы, Америки, Азии. В эмиграции, наоборот, показывается торжество монархической России, силой духа и силой оружия повергающей в прах демократии Запада. Но новая война связывается не только с революционной идеей. Круг потенциальных врагов меняется в
соответствии с государственной политикой СССР. На смену Англии, Франции, США — основным соперникам в литературе 1920-х гг. — в конце 1930-х гг. приходят Япония и Германия. И в исторической прозе конца 1930-х гг. можно выделить два основных тематических направления, связанных с теми же предполагаемыми противниками. Если литературу первой половины 1920-х гг. мы называем литературой послереволюционной, то литература конца 1930-х гг. должна именоваться предвоенной.
Содержание диссертации отражено в следующих публикациях:
1. Русская проза 1920-1930-х годов: авантюрная, фантастическая и историческая проза. — М.: Наука, 2006. — 688 С. — 46 а.л.
2. Проза И.Бунина первой половины 1920-х годов // И.А.Бунин и русская литература XX века: по материалам Международной научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения И.А.Бунина. — М.: Наследие, 1995. — С.151-167. — 1,3 ал.
3. «Единственная, оригинальная, чудесная...» // Тэффи H.A. Собрание сочинений. — Москва: Лаком, 1997. — Т.1: И стало так... — С.5-29. — 1,6 а.л. (в соавторстве с Е.М.Трубиловой).
4. «Огни» (1921), «Огни» (1924) // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940). — М.: ИНИОН РАН, 1998. — Т. 2. Ч. 2. К-С. — С.136-142. Переиздание: Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М.: Росспэн, 2000. — Т. 2: Периодика и литературные центры. — С.285-288. — 0,4 а.л.
5. «Время» // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940). — М.: ИНИОН РАН, 1998. — Т. 2. Ч. 3. Т-Я; Дополнения. — С.207-216. Переиздание: Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М.: Росспэн, 2000. — Т. 2: Периодика и литературные центры. — С.85-90. — 0,6 ал.
6. «Зарницы» // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940). — М., ИНИОН РАН, 1998. — Т. 2. Ч. 3. Т-Я; Дополнения. — С.221-229. Переиздание: Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М.: Росспэн, 2000. — Т. 2: Периодика и литературные центры. — С.147-151. — 0,5 а.л.
7. А.Т.Аверченко // Литература русского зарубежья, 1920—1940. — М.: ИМЛИ-Наследие, 1999. — Вып. 2. — С.117-157. — 3,0 ал.
8. И.Д.Сургучев // Литература русского зарубежья, 1920—1940. — М.: ИМЛИ-Наследие, 1999. — Выпуск 2. — С.85-116 — 2,1 а.л. (в соавторстве с Т.В.Марченко).
9. Идейно-художественное своеобразие прозы Н.Н.Брешко-Брешковского начала 1920-х гг. // И.С.Шмелев и литературный процесс накануне XXI века: VII Крымские Международные Шмелевские чтения:
сборник материалов международной научной конференции. — Симферополь: Таврия-Плюс, 1999. — С. 181-185. — 0,3 а.л.
10. Концепция "Книги" в творчестве Н.А.Тэффи // Творчество Н.А.Тэффи и русский литературный процесс первой половины XX века: [Материалы международной юбилейной научной конференции к 125-летию со дня рождения и 45-летию со дня смерти]. — М.: ИМЛИ— Наследие, 1999. — С.20-39. — 1,25 а.л.
11. История одного городка // Тэффи H.A. Собрание сочинений.— М.: Лаком, 1999. — Т. 3: Городок. — С.5-16. — 0,75 а.л.
12. Король в изгнании (Жизнь и творчество А.Т.Аверченко в Белом Крыму и в эмиграции) // Аверченко А.Т. Сочинения: в 2 тт. — М.: Лаком, 1999. — Том 1: Кипящий котел.— С.5-58. (Литература русского зарубежья от А до Я). Переиздание: М.: Лаком-книга, 2001. — 4,0 а.л.
13. Комментарии // Аверченко А.Т. Сочинения: в 2 тт.— М.: Лаком, 1999. — Т. 1. Кипящий котел.. — С.329-380. (Литература русского зарубежья от А до Я). Переиздание: М.: Лаком-книга, 2001. — 3,7 а.л.
14. Комментарии // Аверченко А.Т. Сочинения: в 2 тт.— М.: Лаком, 1999. Т. 2: Смешное в страшном. — С.337-380. (Литература русского зарубежья от А до Я). Переиздание: М.: Лаком-книга, 2001. —-3,2 а.л.
15. И.Д.Сургучев // Русские писатели 20 века: Биографический словарь. — М.: Большая Российская Энциклопедия-Рандеву-AM, 2000.
— С.672-673. — 0,3 а.л.
16. С.Р.Минцлов // Русские писатели 20 века: Биографический словарь. — М.: Большая Российская Энциклопедия-Рандеву-AM, 2000.
— С.471-473. —0,4 а.л.
17. Ибикус, или Жизнь и смерть А.Ветлугина // Ветлугин А. Сочинения: Записки мерзавца. — М.: Лаком, 2000.— С.5-38. (Литература русского зарубежья от А до Я). — 3 а.л.
18. Комментарии // Ветлугин А. Сочинения: Записки мерзавца. — М.: Лаком, 2000.— С.378-461. (Литература русского зарубежья от А до Я). — 10 а.л.
19. Эпопея И.С.Шмелева «Солнце мертвых»: поэтика жанра // Венок Шмелеву. [Материалы международной научной конференции «Иван Шмелев — мыслитель, художник и человек» (2000)]. — М., 2001.
— С.213-224.— 0,8 а.л.
20. Детектив // Литературная энциклопедия терминов и понятий. — М.: Интелвак, 2001. — Стб. 221-223.
21. Миссия русского писателя. (Творчество И.А.Бунина 1920—1923 гг.) // Бунин И.А. Сочинения: Ночь отречения. — М.: Лаком-книга, 2001.—- С.5-60. (Литература русского зарубежья от А до Я). — 4 а.л.
22. Комментарии // Бунин И.А. Сочинения: Ночь отречения. — М.: Лаком-книга, 2001.— С.327-444. (Литература русского зарубежья от А до Я). — 12 а.л.
23. Бебутова О.М. «Сердце Царевича (Абастуман)» (1923); «Черный маг» (1930); «Дуэль» (1930) // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М„ ИНИОН РАН, 1999. — Т. 3: Книги. Ч. 1. А-3. — С.117-120. Переиздание: Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940). — М„ РОССПЭН, 2002. — Т. 3: Книги.
— С.73-75. — 0,2 а.л.
24. Брешко-Брешковский H.H. «Роман "Манекена"» (1928) // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М., ИНИОН РАН, 1999. — Т. 3: Книги. Ч. 1. А-3. — С.166-167. Переиздание: Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940). — М., РОССПЭН, 2002. —Т. 3: Книги.— С.100-101. — 0,1 а.л.
25. Ветлугин А. «Авантюристы гражданской войны» (1921); «Третья Россия» (1922) // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М„ ИНИОН РАН, 1999. — Т. 3: Книги. Ч. 1. А-3. — С.218-221. — 0,2 а.л.
26. Минцлов С.Р. «Царь Берендей» (1923); «Далекие дни» (1925); «Дебри жизни» (1925); «За мертвыми душами» (1925); «Трапезондская эпопея» (1925); «Святые Озера» (1927); «Свистопуп» (1930); «Петербург в 1903-1910 годах» (1931) // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М„ ИНИОН РАН, 1999. — Т. 3: Книги. Ч. 2. 3-П. — С.201-217. Переиздание: Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М., РОССПЭН, 2002. — Т. 3: Книги. — С.362-370. — 1,0 а.л.
27. Наживин И.Ф. «Распутин» (1923); «Кремль» (1931). // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М., ИНИОН РАН, 1999. — Т. 3: Книги. Ч. 2. 3-П. — С.293-299. — 0,3 а.л.
28. Сургучев И.Д. «Эмигрантские рассказы» (1927), «Ротонда» (1952), «Детство Императора Николая И» (1953) // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М., ИНИОН РАН, 2000. — Т. 3: Книги. Ч. 3. П-Я. — С.102-109. Переиздание: Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940). — М., РОССПЭН, 2002.
— Т. 3: Книги. — С.532-536. — 0,5 а.л.
29. Тэффи H.A. «Рысь» (1923), «Вечерний день» (1924), «Городок: Новые рассказы» (1927). // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М., ИНИОН РАН, 2000. — Т. 3: Книги. Ч. 3. П-Я. — С.129-136. — 0,5 а.л.
30. Чириков E.H. «Красота ненаглядная: Русская сказка-мистерия в пяти картинах» (1924). // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М., ИНИОН РАН, 2000. — Т. 3: Книги. Ч. 3. П-Я. — С.206-209. Переиздание: Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М., РОССПЭН, 2002. — Т. 3: Книги. — С.605-607. — 0,2 а.л.
31. «Годы» // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М.: Росспэн, 2000. — Т. 2: Периодика и литературные центры. — С.96-99. — С.0,4 а.л.
32. «Москва» // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М.: Росспэн, 2000. — Т. 2: Периодика и литературные центры. — С.235-238. — 0,4 а.л.
33. «Родное Слово» // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М.: Росспэн, 2000. — Т. 2: Периодика и литературные центры. — С.340-341. — 0,2 а.л.
34. «Русская Книга» // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М.: Росспэн, 2000. — Т. 2: Периодика и литературные центры. — С.366-377. — 1,1 а.л.
35. «Студенческие Годы» // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М.: Росспэн, 2000. — Т. 2: Периодика и литературные центры. — С.469-474. — 0,6 а.л.
36. Ветлугин А. «Авантюристы гражданской войны» (1921); «Герои и воображаемые портреты» (1922), «Записки мерзавца: Моменты жизни Юрия Быстрицкого» (1922), «Третья Россия» (1922) // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М., РОССПЭН, 2002.
— Т. 3: Книги. — С. 129-132. — 0,5 а.л.
37. Наживин И.Ф. «Распутин» (1923); «Глаголят стяги...: Исторический роман из времен князя Владимира» (1929), «Кремль» (1931) // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940).
— М., РОССПЭН, 2002. — Т. 3: Книги. — С.413-414, 415-417. — 0,5 а.л.
38. Тэффи H.A. «Рысь» (1923), «Вечерний день» (1924), «Городок: Новые рассказы» (1927), «Авантюрный роман» (1931) // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). — М., РОССПЭН, 2002.
— Т. 3: Книги. — С.552-557. — 0,7 а.л.
39. Журнал «Русская Книга» (1921): идеологическая платформа и литературная критика // Литературное зарубежье: Национальная литература — две или одна? — М., ИМЛИ РАН, 2002. — Вып. 2. — С.63-137.-4,5 а.л.
40. Художественное своеобразие авантюрной прозы А.Н.Толстого // А.Н.Толстой: новые материалы и исследования. — М.: ИМЛИ РАН, 2002.-С.64-76,-1,4 а.л.
41. Русские периодические издания в Германии // Литература русского зарубежья, 1920-1940.— М.: ИМЛИ РАН, 2004. — Вып.З. — С. 173-247.— 5,2 а.л.
42. Русская эмигрантская периодика в Чехословакии // Литература русского зарубежья, 1920-1940.— М.: ИМЛИ РАН, 2004. — Вып.З. — С.329-426. — 6,8 а.л.
43. О типологическом единстве русской литературы двадцатого века // Русская словесность в мировом культурном контексте: материалы международного конгресса (Москва, 2004). — Литературоведческий журнал. — 2005.—№19. —С. 155-164. — 1 а.л.
44. Воланд против Хулио Хуренито // Вестник МГУ. Филология. — 2006. — №5. — С.84-91. — 0,5 а.л.
***
автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему:
Русская проза 1920-1930-х годов: авантюрная, фантастическая и историческая проза
Год:2006
Автор научной работы:Николаев, Дмитрий Дмитриевич
Ученая cтепень: доктора филологических наук
На правах рукописи
Автореферат
диссертации в виде монографии на соискание ученой степени доктора филологических наук
Москва 2006
Работа выполнена в Отделе новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, академик РАЕН А. Н. Николюкин
доктор филологических наук,
профессор
А. А. Газизова
доктор филологических наук,
профессор
М. В. Михайлова
Ведущая организация: Литературный институт им. А. М. Горького


 облако тэгов
облако тэгов