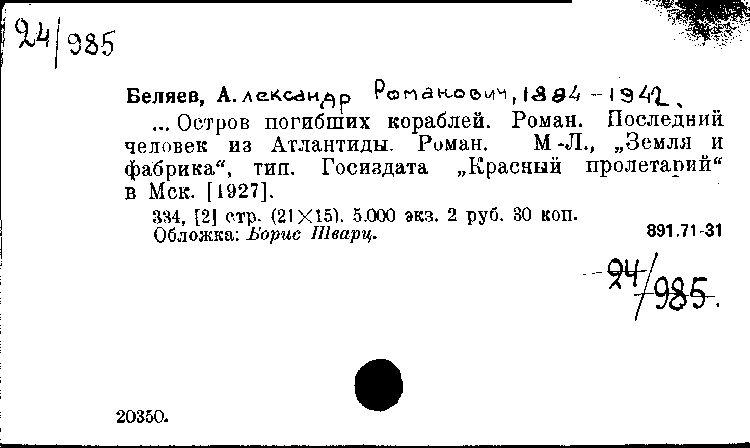Граммофон веков и вечерняя небесная газета в “Граммофоне веков” Е.Д. Зозули; “легкий аэропиль” и система метеорофора в “Путешествии моего брата Алексея в страну крестьянской утопии” А.В. Чаянова; “гигантские алюминиевые корабли, горящие хрус-тальными стеклами многочисленных кают” в “Первомайском сне” В.Т. Кириллова; “Интеграл” в романе Е.И. Замятина “Мы”; газ, по¬гружающий человека в состояние длительного анабиоза, идеограф, воздушные корабли, радиоактивный душ, поглощающий яды и уби¬вающий бациллы сна, и ванная с бесцветной питательной жидкос¬тью, заменяющая пищу в романе Я.М. Окунева “Грядущий мир”; ма¬шина “обратного тока” в романах В.П. Катаева “Остров Эрендорф” и “Повелитель железа”; установка электро-климата в “Месс-Менд” М.С. Шагинян; дымовая канализация, засухоустойчивые сорта куку¬рузы и пшеницы, способ производства несгораемой и неломкой целлюлозы, заменяющие сон таблетки в романе Вс.В. Иванова и В.Б. Шкловского “Иприт”; “стада гигантских цеппелинов”, двухме¬стные аэробили, длинные аэроэкспрессы в романе А.В. Шишко “Господин Антихрист”; воздушные дороги, “аэропоезда дальнего летания”, радиоэкран на Плас д’Опера и стеклянный колпак над Па¬рижем в его же повести “Конец здравого смысла” и “железные” в романе “Аппетит микробов” — список фантастических открытий и изобретений, упомянутых в произведениях, о которых речь шла вы¬ше, можно продолжать и продолжать.
Среди технических достиже¬ний, преображающих мир будущего, есть и уже привычные роботы, телевизоры, пассажирские самолеты, и остающиеся пока в области фантазии граммофон веков, идеограф и стеклянный колпак над Па¬рижем. Тем не менее, даже в тех случаях, когда речь шла о самых не¬вероятных вещах, писатели в большинстве своем ориентировались на сведения о проводящихся научных исследованиях или отталкива-лись от уже имеющихся технических достижений. “Все чудеса тех¬ники грядущего мира имеются уже в зародыше в современной тех¬нике, — отмечал в послесловии к книге “Грядущий мир” Я.М. Оку¬нев. — Радий, огромная движущая и световая энергия которого изве¬стна науке, заменит электрическую энергию, как электрическая энергия заменила силу пара и ветра. Работы ученых над продлением человеческой жизни, над выработкой искусственной живой мате- ши, над вопросом омоложения, над гипнозом, над психологически¬ми вопросами — достигли за последние десятилетия крупных успе¬хов. Современная наука делает чудеса и шагает семимильными ша¬гами к победе над природой. Все то, что изображено в этом романе, либо уже открыто и применяется на деле, либо на пути к откры¬тию” . Даже появление искусственного золота писатель подчеркну¬то связывает не с алхимией, а с наукой. “Над этой задачей — над от¬крытием способа приготовления искусственного золота — в настоя¬щее время работает ряд ученых, иесть полное вероятие ожидать, что наука добьется успеха в этом направлении” , — пишет он в после¬словии к первому изданию рассказа “Золотая петля”, и в 1926 г. по¬вторяет: “Называя свой рассказ фантастическим, автор вовсе не на¬мерен сказать этим, что он изображает в нем невероятные события. Даже искусственное золото, на возможности открытия которого по¬строены выводы автора, является если не вероятностью, то пробле¬мой, занимающей умы многих современных буржуазных химиков” .
Реальную основу имели и машина обратного тока, и лучи смер¬ти — пожалуй, самые популярные изобретения в фантастической прозе середины 1920-х годов. В качестве одного из возможных ис¬точников, свидетельствующих об исследовательской работе, кото¬рая велась в данном направлении, приведем заметку под названием “Сенсационное изобретение”, опубликованную в берлинской газет “Призыв” в феврале 1920 г.:
“Нам доставлен любопытный материал — изобретение одног нашего соотечественника. Вопрос идет об опытах взрыва на рассгоянии. Пока изобретателю удалось добиться путем теоретическим даже практическим совершить опыт трансформировать электрическую энергию в световую, производя в эфире колебания достаточке быстрые, чтобы они фиксировались на сетчатой оболочке человеческого глаза. Им сконструирован особый аппарат, при помощи ко торого он производит электрические волны весьма короткие, н очень сильного напряжения. Далее им установлено, что все метал лические части аппаратов и инструмент отзываются на волны резонансом, давая искры, т.е. звуки, нечто вроде крепитации, что межд прочим приводится им в связь со взрывом, происшедшим в свое время на французском броненосце “ЫЬеЛё”.
При дальнейших работах изобретатель добился возможности ре флектировать колебания, которые сопровождают световые волны причем он может их пускать в желаемом направлении. Вследстви этого получилась возможность производить взрывы пороха, динами та, бензина, аэропланов и дирижаблей, находящихся на земле или в воздухе, а также арсеналов, пороховых погребов и всех родов газа.
На зависящем от величины аппарата расстоянии он может безо¬шибочно определять нахождение металла. (...) Аппараты эти произ¬водят известные колебания, при помощи которых можно, как выра¬жаются артиллеристы, идентифицировать и индивидуализировать расстояние и местонахождение тех предметов, которые должны быть обстреляны.
Он уверяет, что в состоянии посылать по определенному на¬правлению волны, причем, если на пути этих волн встречаются взрывчатые вещества, то последние взрываются.
Эти волны имеют также свойство размагничивать мгновенно “динамо”, находящийся в сфере их действий: обыкновенный черный порох, находящийся в металлических помещениях, подвергаясь дей¬ствию лучей, взрывается. Тот же порох, заключенный в деревянных коробках, теряет на время свои взрывчатые свойства” .
В середине 1920-х годов особую актуальность приобретает тема межпланетных путешествий. В 1924 г. в прессе появляются сообще¬ния о готовящемся в Америке запуске ракеты на Луну. Американ¬ский физик Роберт Годдард, профессор Ворчестерского университе¬та, опубликовавший в 1919 г. в известиях Смитсоновского института исследование “Способ достижения крайних высот” , объявляет о подготовке пробного полета на Луну. Планируется, что беспилотная ракета, стартовав с Земли со скоростью одиннадцать километров в секунду , за четверо суток достигнет той точки между Землей и Лу¬ной, где лунное притяжение начнет преодолевать земное, и, начав падение, примерно через двое суток столкнется с лунной поверхнос¬тью. Апрельский номер журнала “Рорн1аг Зшепсе” сообщал, что за¬пуск ракеты назначен на четвертое июля. “Если опыт окажется удачным, то ракета Годдарда перекинет мост через пространство в 400 000 километров, отделяющих нас от нашего ближайшего небес¬ного соседа, и отметит новую эпоху в вопросе междупланетных сообщений, — писал М. Лапиров-Скобло в журнале “Молодая гвар¬дия”. — Вопрос о междупланетном сообщении из мечты романистов начинает становиться реальной проблемой ученых-изобретателей” . Как видим, известия о готовящемся полете вызвали отклики не толь¬ко в научно-популярных, но и в научно-художественных изданиях. Еще в марте 1924 г. статью “Междупланетное сообщение” в журнале “Звезда” опубликовал Я.И. Перельман, автор выдержав¬шей к 1924-му г. пять изданий книги “Межпланетные путешествия”. Он напоминал, что первым человеком, указавшим путь к созданию летательного аппарата, способного двигаться в пустоте, был рево¬люционер, участник покушения на Александра II, Н.И. Кибальчич. Проект Кибальчича увидел свет лишь в 1918 г., в журнале “Былое”, но еще раньше, в 1903 и 1911 гг. в журналах “Научное Обозрение” и “Вестник Воздухоплавания” появились работы К.Э. Циолковского, в которых обосновывался принцип действия ракеты. Свои идеи К.Э. Циолковский развивал в брошюре “Исследование мировых про¬странств реактивными приборами”, изданной в Калуге в 1914 г. Принцип действия многоступенчатой ракеты был разработан немец¬ким ученым Германом Обертом. В книге “Ракеты в межпланетные пространства” он доказывал, что при современном уровне развития науки и техники возможно создание летательных аппаратов, способ¬ных подниматься за пределы земной атмосферы, что усовершенство-ванные соответствующим образом подобные аппараты могут до¬стичь скорости, необходимой для преодоления земного притяжения, что возможно создание пилотируемых моделей, и, наконец, что раз¬витие междупланетного воздухоплавания сулит немалые экономиче¬ские выгоды. Оберт, в частности, предлагал запустить гигантскую ракету так, чтобы она вращалась вокруг земли наподобие спутника. Сообщение с землей должно было поддерживаться при помощи не¬больших аппаратов, а большие ракеты — наблюдательные станции — пристраивались бы на орбите к головной ракете, формируя посте¬пенно межпланетную станцию, с которой можно было бы наблюдать за происходящим на земной поверхности и передавать полученные данные на землю. Оберт указывал, что подобная станция могла бы использоваться для установления связи между разными пунктами и имела бы стратегическое значение во время военных действий.
“Наступит день, — быть может еще на глазах нынешнего поко¬ления, — когда безграничный океан вселенной, окружающий наш планетный остров, будет покорен гением человека, — заключал Я.И. Перельман. — Возможно, что темп, с каким осуществится заво¬евание межпланетного пространства, будет так же быстр^как и для завоевания воздуха. Вспомним, что всего двадцать лет отделяет на¬шу эпоху блестящего развития авиации от первого робкого взлета бр. Райт, длившегося только 12 секунд и тем не менее отметившего собою рождение новой отрасли транспорта. Современное развитие техники таково, что первое принципиальное достижение влечет за собою стремительно быстрое закрепление и пышное развитие пер¬воначального успеха. Трудно поэтому предвидеть грандиозные по- ледствия первого удачного опыта переброски земного снаряда на очву другой планеты. Быть может, он начнет собою новую эпоху в стории материальной культуры — эпоху вселенского существова- ия человечества, когда оно расширит свою власть над природой да- еко за пределы земного шара, в плену которого, казалось, оно бы- о обречено оставаться” .
М.Я. Лапиров-Скобло в статье “О путешествиях в межпланет- ые пространства” особо отмечал роль, которую играет в науке, как в искусстве, фантазия творца. “Только в правильном, гармоничес- ом сочетании научных исследований и творческого воображения аключается залог прогресса науки, движения вперед, — подчерки- ал он. — Поэты, художники часто являются предшественниками и отрудниками ученых, творцов, — техников изобретателей. Поэт зобретает, не стесняясь ни законами природы, ни средствами, ни атериалами. (...) Народная фантазия, вдохновение поэта зачастую пережают научное техническое творчество, намечая пути и идеи удущего изобретательства, которые, за отсутствием соответствую- ;их технических и культурных средств, надолго, иногда на многие толетия и даже тысячелетия, остаются простыми мечтаниями” , режде чем обратиться к перечислению трудов ученых и изобрета- елей, работавших над проблемой освоения межпланетных прост- анств, — Кибальчича, Циолковского, Лорена, Унге, Горохова, [ельтри, Оберта, Годдарда, — М.Я. Лапиров-Скобло вспоминает пи- ателей-фантастов — Э. Ростана, Э. По, Ж. Верна, Г. Уэллса.
“Научно-фантастические произведения имеют большое образо¬вательное значение, ибо в них в художественной форме дается пред¬ставление о достижениях и перспективах науки и техники, о практи¬ческом применении научных изобретений. Они — прямой путь чита¬теля к научно-популярной книжке” , — писал в 1929 г. С.С. Динамов в статье, посвященной авантюрной и научно-фантастической лите¬ратуре. Но, говоря о роли, которую должна играть научно-техниче¬ская фантастика, критик с точки зрения “научности” анализировал фантастику “научно-революционную” и приходил к неутешитель¬ным выводам: “Ряд авторов пытался научно-фантастический жанр приспособить к нашей революционной действительности. И никто из них не создал хороших вещей, — утверждал С.С. Динамов. — В “Ос¬трове Эрендорфе” и “Повелителе железа” Вал. Катаев старается со единить науку и революционное содержание, но не успевает в этом “Лучи смерти” Н.А. Карпова обнаруживают, что он имеет весьм смутное представление об изображаемой им Америке и находите не на высоте научных требований. “Иприт” В. Иванова и В. Шилов ского — остроумный роман, но разобраться в нагромождении событий и в ворохе всякой небывальщины могут немногие. “Долин смерти” В. Гончарова столь же невероятна, но гораздо менее интересна. С. Григорьев в “Гибели Британии” столь же безуспешно пытается соединить социальность с научной фантастикой. Романь А. Шшпко (“Господин Антихрист” и др.) неплохо сделаны, читают ся с интересом, но и они весьма поверхностны” . По мнени С.С. Динамова, среди советских научно-фантастических произведений выделяются романы “Борьба атомов” и “Машина ужаса” ((Л.) Рабочее издательство “Прибой”, (1927)) ленинградского инженер Вл.Орловского, хотя и Орловский “лучше пишет о науке, общест венные моменты у него гораздо менее удачны” . Из произведений не затрагивающих тему революции, А.Р. Беляев в “Голове про фессораДоуэля” “дает ряд недурных биологических фантазий” Ряд отрицательных примеров возглавляет “совсем уж безграмотный” “Век гигантов” В. А. Гончарова, далее следуют “малонаучны и малохудожественные” “Повести о Марсе” Г. Арельского и “без грамотная халтура” М.Гирели “Преступление профессора Звездочетова”.
О книге Г. Арельского “Повести о Марсе” С.С. Динамовписа еще в 1925 г., представляя ее на страницах журнала “Книгоноша” Он утверждал, что “незначительная в смысле художественной цен ности книжка не представляет интереса и по содержанию”: в “Повестях о Марсе” Г. Арельский пытается “дать научную фантастику” не справляется с поставленной задачей: изобразить семейно-бытовую, общественную и техническую жизнь Марса: “Вместо расцвеченных фантазией картин он дает голую схему, вместо живых, дей ствующих лиц — абстрактных “говорилыииков” с приемами митинговых ораторов. Диалоги марсианских рабочих перегружены “агит кой”, а рассуждения о “вечности и неизменности” любви как-то н увязываются с образом будущих людей” . Но к составившим сбор ник произведениям Г. Арельского вряд ли можно подходить с требованиями, предъявляемыми к научно-фантастическому произведению. Обращаясь к фантастике, Г. Арельский преследовал иные це¬ли. Если писатели круга “Аполлона” в авантюрных произведениях “возвращались к прошлому”, то бывшие футуристы — Г. Арельский, Н.Н. Асеев, С.П. Бобров (в меньшей степени В.В. Каменский), — как и следовало ожидать, стремились в мир “будущего”. И те, и другие были не удовлетворены реалиями и искали нового героя, существу¬ющего вне привычных социально-бытовых рамок, в “не-настоя- щем” мире. Первые ориентировались на Лесажа, Анри де Ренье, вторые — на Герберта Уэллса и Жюль Верна. Именно об этом пишет Г.Арельский в книге “Повести о Марсе”: “Жизнь — буйный вихрь бе¬шеного движения. Бесчисленны, невероятны, непостижимы сочета¬ния жизни. И не есть ли самая яркая фантазия, самый нелепый вы¬мысел лишь слабое отражение действительности?” (“Обсервато¬рия профессора Дагина”).
Г. Арельский спорит с пониманием жизни как процесса цикличе¬ского, все время возвращающегося и возвращающего в точку отсче¬та. Идея “вечной повторяемости” для него религиозна, и, отвергая Бога, отвергая любую высшую силу, он “обожествляет” человечес¬кий разум, подчеркивая при этом свою приверженность марксизму. В повести “К новому солнцу” противопоставляются две точки зре¬ния — религиозная (“Вечная повторяемость. И основы жизни неиз¬менны. Даже познавательная сила — вечный круговорот повторяе¬мости. Может быть, эта познавательная сила существовала ранее возникновения мыслящих существ” ) и марксистская (“Вне людей нет познания. Только с развитием людей развиваются и производи¬тельные силы. И то, что тебе кажется старым и вечно повторяемым, в сущности ново. Жизнь не возвращается назад. Жизнь — вечно мо¬лодой, бурно-радостный поток. Он уносит нас к неведомым бере¬гам... Каждый миг его движения — новый неповторяемый мир” ). Побеждает, естественно, вторая точка зрения, причем побеждает не в отвлеченно-философской дискуссии. Марсиане покоряют “приро¬ду”, перелетев через мировое пространство к новому солнцу, они разрешают “задачу жизни и смысла всего человечества”, а восстав¬шие “рабы машин” свергают своих хозяев.
Отметим, однако, что в первой из вошедших в книгу повестей — “Обсерватории профессора Дагина” — звучат и несколько иные мыс¬ли. Вместо далеких марсиан и фантастических восстаний автор не¬ожиданно вспоминает о недавнем и близком (“Бешено закружила стрелки на циферблате событий русская революция...” ), и, хотя и здесь в сюжет вторгаются марсиане, а русская революция больше не упоминается, финальные размышления героя связываются читате¬лем не только с изысканиями его отца — профессора Дагина, но и с событиями 1917 г., ведь герой словно сомневается в том, что ранее, как раз в связи с вихрем революции, утверждал повествователь:
“Дагин думал:
— Жизнь — буйный вихрь бешеного движения.
Бесчисленны, невероятны, непостижимы сочетания жизни.
Торопись, поспевай за жизнью!
Отстанешь на миг — никогда не догонишь жизни, не вернешься назад.
А если перегонишь жизнь?..”
Мысль о существовании какой-либо высшей силы, властвую¬щей над всем и всеми, чужда футуристам. Н.Н. Асеев в сборнике “Расстрелянная Земля: фантастические рассказы” (1925) не призна¬ет ничего выше человека, и отдельный индивидуум в его книге как бы врывается в космос: “Вот, например, станция. Название — “2000 год”. Вся она играет огнями. И к ней тянет Ваньку Облакова. Он видит ее отсвет с Брянского уже сегодня. А вы, писатели, хоти¬те его к Николе на Посадьях приохотить? Не выйдет” (“Только деталь: Московская фантазия”). Однако, подчиняя себе космос, че-ловек невольно погружается в хаос, на смену единому Богу в реаль¬ности просто приходит много маленьких богов, и Н.Н. Асеев не¬вольно подтверждает это, рисуя в “Войне с крысами” совершенно кафкианскую картину мира.
Научная фантастика не обязательно связана с описанием техни¬ческих достижений будущего. Огромное воздействие на пути разви¬тия русской научно-фантастической литературы оказали художест¬венные произведения известнейшего геолога и географа, с 1929 г. действительного члена Академии наук СССР, автора удостоенных Сталинских премий пятитомной “Истории геологических исследова¬ний Сибири” (1931-1949) и трехтомной “Геологии Сибири” (1935-1938), Героя Социалистического Труда (1945) В.А. Обручева. В 1924 г. В.А. Обручев печатает роман “Плутония: Необычайное путешествие в недра земли”. Роман был написан в 1915 г., а затем лишь дорабатывался, и тем не менее его все равно относили к про¬изведениям советской литературы.
“Плутония” является “образцовым” научно-фантастическим ро¬маном, и анализ романа Обручева позволяет уяснить основополага- щие художественные принципы “не-социальной” научной фантас- ики. Писатель ставит перед собой цель показать возможности че- овеческого разума, делает акцент на создании, на изобретении, на ткрытии как таковом, либо сочетает художественные задачи с на- чно-просветительскими. В большинстве случаев в основе конфлик- а здесь лежит не столкновение “плохих” и “хороших”, а противо- ействие человека и стихии, знания и незнания, природы и цивили- ации и т.д. Научная достоверность и познавательность (информа- ивность) обязательны для научно-фантастических произведений, о поэтика их определяется не только и не столько этим. Задача пи- ателя-фантаста не может быть исключительно научно-просвети- ельской, в противном случае его произведение надо было бы отве¬та не к художественной, а к научно-популярной или образователь- ой литературе, признав, что вымысел является научной гипотезой ибо допущением как педагогическим приемом.
Композиционно роман В. А. Обручева можно разделить на че- ыре части. Первая, описывающая подготовку к экспедиции и ее ачальный этап, построена по модели романа-путешествия. Здесь ет элементов фантастики и используются традиционные для рома- а-путешествия сюжетные мотивы: неожиданное приглашение, редставление и совещание будущих участников путешествия, сна- яжение экспедиции, спасение человека, который присоединяется к утешествующим, и т.д. Во второй части рассказывается о проник- овении в таинственную страну и о происходящих во время этого агадочных событиях. Ключевым мотивом является мотив тайны, айна получает объяснение в третьей части, где повествуется о риключениях участников экспедиции в Плутонии. Фантастическая азгадка (письмо Труфанова) определяет границу между второй и ретьей частями. И, наконец, в заключительной часта дается “науч- ое” обоснование фантастической разгадки, а также объясняется тсутствие документальных подтверждений реального сущесгвова- ия Плутонии.
Первая часть романа заканчивается главой “Через хребет Рус- кий” — это последняя из глав, в которой происходящее не выходит а рамки существующих научных представлений о мире. Впоследст- ии мы узнаем, что хребет Русский является границей между миром еальным и миром фантастическим, но долгое время вместе с геро- ми считаем, что, преодолев перевал, продолжаем путешествие в ривычном, хотя и еще не изведанном мире, где все должно разви- аться по известным нам законам и укладываться в рамки привыч- :ых представлений. Интересно, что в первой из глав второй части — ‘Бесконечный спуск” — автор использует определение “фантастиче- кий” для характеристики картины вполне реальной, хотя и “фанта- тически” прекрасной: “Картина, которая представлялась глазам на¬блюдателей, была совершенно фантастическая: белоснежная равни¬на, клубы и клочья быстро ползущих по ее поверхности серых туч, беспрерывно меняющих свои очертания; столбы крутящихся в воз¬духе мелких снежинок и то тут, то там, в этой бело-серой мутной и движущейся мгле, ярко-розовые отблески от лучей прорывавшего¬ся солнца, которое то появлялось в виде красного шара, то исчезало за серой завесой” . “Фантастичность” реального должна упростить переход к реальности фантастического мира, в котором оказывают¬ся герои. Столкнувшись с цепью необъяснимых явлений, исследова¬тели не сразу понимают, что оказались в ином мире, но уже в следу¬ющей главе — “Непонятные явления” — звучат слова, допускающие его существование:
Единственное объяснение, что в этом провалище непримени¬мы физические законы, установленные для земной поверхности, и нужно вырабатывать новые, — сказал Каштанов.
— Легко сказать вырабатывать, — сердился Боровой. — На лету их не выработаешь! Сотни ученых десятки лет трудились, а тут все идет насмарку, словно на другой планете”. (С. 91).
Необходимо обратить внимание на то, что на смену физическим законам, установленным для земной поверхности, по мнению героев должны прийти другие физические же законы, т.е. в ином мире ме няется содержание законов, но не самый тип их: законы науки про должают оставаться определяющими, несмотря на очевидное несоответствие известных законов данным научных же наблюдений:
Это уж, извините, ерунда! — заметил Каштанов. — Ни сквозно дыры через земной шар, ни воронки до центра быть не может. Эт противоречило бы всем данным геофизики и геологии.
— Вот как! А с противоречиями всем законам метеорологии, ко торые мы уже наблюдаем, вы миритесь? Вот увидите, и законы ва шей геологии полетят еще кувырком” (С. 92).
Необычным происходящее во второй части является именно точки зрения научной и строится на несоответствии визуальных на блюдений и показаний приборов: так, несмотря на то, чтобблыпу! часть пути герои идут вверх, приборы показывают, что они спуска ются вниз, а когда они, наоборот, вроде бы спускаются, приборь фиксируют подъем. Преодолевается несоответствие также научно логикой: “Разберемся со временем. Каждая гипотеза, если она обоенована, представляет лишний шаг к познанию истины”; “Тепер каждый день можно ждать каких-нибудь фактов, на первый взгля непонятных, но слагающихся в общую цепь причин и следствий, ког да в них разберешься” (С. 93). Действительно, количество загадочых явлений множится по мере продвижения исследователей по не-зведанной земле, сомнения, звучавшие до поры до времени лишь в епликах героев, теперь высказываются и повествователем: “Каза- ось, что законы физических явлений, выработанные поколениями ченых на основании наблюдений на земной поверхности, здесь, в той впадине полярного материка, были неприменимы или получа¬и совершенно другой смысл. Необъяснимые явления умножались” С. 97).
Определения “необъяснимый”, “загадочный”, “странное”, странный” все чаще используются и героями, и повествователем, о мере накопления странностей растет и напряжение; В.А. Обру- ев “нагнетает” таинственное, так что читатель уже готов принять юбое, даже самое невероятное решение всех загадок. Это реше- ие — герои находятся в подземной стране, в которой сохранился ир, давно исчезнувший с поверхности, — показалось бы нам абсо- ютным вымыслом, если бы не объясняло все уже скопившиеся за- адки. Фантастическое объяснение цепочки необъяснимых явлений ыглядит научным и вполне обоснованным по сравнению с другими озможными вариантами объяснений (за исключением, конечно, на, галлюцинаций и т.п.), — это один из ключевых принципов пост- оения научно-фантастического произведения. В результате “в этой тране необъяснимых явлений” получает объяснение все, кроме, говоримся, того, как оказалось возможным существование подоб¬ой страны.
Существенной особенностью научно-фантастического романа .А. Обручева является его деидеологизированность. В “Плутонии” сть отзвуки общественных конфликтов, но автор сознательно не водит их в сюжетную канву повествования, ограничиваясь упоми- аниями в диалогах. Так, осуждение самодержавного строя содер-жится в одной из реплик Каштанова, звучащей в разговоре об Аля- ке: “До поры до времени, — возразил Каштанов, — свободное разви- ие России вообще задавлено самодержавием. Но переменится пра- ительство, и мы, может быть, заработаем в американском масшта- е, и тогда Аляска нам бы очень пригодилась” . Но это единствен- ый случай, когда герои В.А. Обручева затрагивают “внутриполи- ические” темы. Главной “идеологической линией” романа можно азвать русский патриотизм. Во всем звучит гордость за русских, за ’оссию: и в сюжете книги (русская экспедиция, совершающая вели¬чайшее открытие, которое остается неизвестным по вине немцев), в деталях (русский флаг, поднятый на новооткрытых землях пр троекратном салюте), и в описании поступков и характеров героев и в их высказываниях. “Я вижу, господа, что вы мои соотечествен ники! Я ведь русский — Яков Макшеев из Екатеринбурга. (...) Во счастье-то! И от чукчей убежал, и к русским попал!” — говорит спасенный незнакомец (С. 32). “Мы помогли соотечественнику выпутаться из беды и очень рады этому”, — отвечает Труханов (С. 34)
В романе часто звучит противопоставление русских и иностранцев. Уже в самом начале, в главе “Совещание в Москве”, подчерки вается патриотический характер организованной Трухановым экс педиции и отмечается, что вопрос научного приоритета имеет практический характер: “Итак, господа, — закончил Труханов сво доклад, — существование материка или тесной группы больших ост ровов в этой части арктической области можно считать почти несомненным и остается только открыть их и занять их для России. Я уз нал, что правительство Канады снаряжает экспедицию, имеющу задачей проникнуть летом этого года в белое пятно с востока, от ос тровов Парри и Патрика. Дольше медлить нельзя — нам нужно про никнуть в ту же область с юга и юга-запада, со стороны Берингов пролива, иначе последняя неизвестная часть Арктики будет цели ком изучена и захвачена англичанами, а не русскими” (С. 12). И чут дальше: “Если бы кто-нибудь из вас теперь, после разоблачени плана экспедиции, нашел невозможным принять в ней участие, то попросил бы его все-таки не говорить никому об этом плане до на чала мая, чтобы нас не могли опередить иностранцы” (С. 14). Анг личане не единственные, кого поминают недобрым словом на страницах романа. Каштанов, сожалея об Аляске, призывает дать отпо американцам: “Владея ею и Чукотской землей, мы бы командовал всем севером Тихого океана, и ни один американский хищник н смел бы сунуться сюда; а теперь они чувствуют себя хозяевами в Бе ринговом море и в Ледовитом океане” . Папочкин иронизирует на французами: “Если французы с удовольствием едят фрикасе из ля гушек, то почему бы русским путешественникам не покушать бифштексиз игуанодона?” (С. 231).
Интересно, что, хотя действие романа происходит в 1914-1915 гг. в нем нет антигерманских настроений; более того, участники экспе диции, отправившись в путь в начале 1914 г., пребывают в неведени относительно разразившейся мировой войны. Лишь в заключитель ной главе (“Военный приз”) рассказывается об аресте в русских во дах “Полярной звезды” австрийским крейсером. Социальный кон фликт здесь, казалось бы, должен выйти на первый план, но на са мом деле реалии Первой мировой войны просто используются в ка¬честве мотивировки исчезновения полученных в ходе экспедиции материалов, а стремление автора уйти от социальной проблематики подчеркивается диалогом австрийского офицера и Труханова:
Мы побывали на Чукотской земле, зимовали на острове Врангеле, — заявил Труфанов офицеру, принимавшему имущество, который сочувственно закивал и сказал:
— Мой отец бил в полярной экспедиция, земля Франц-Иосиф, ав¬стрийский корвет “Течетгоф” ви, конечно, читаль?
— О, да! — улыбнулся Труханов” (С. 457).
Таким образом, за исключением финала, в сюжете романа нет элементов, связанных с общественными конфликтами. “Идеологи¬ческая составляющая” появляется в романе благодаря репликам персонажей. Подобная схема позволяет автору при необходимости менять роль “идеологических” высказываний, либо расширяя их, ли¬бо устраняя совсем, а также варьировать их содержание: критика са¬модержавного строя без особого ущерба может быть заменена на критику любой другой формы государственного устройства или же опущена вообще.
Еще одной важной особенностью построения сюжета романа является отсутствие конфликтов между главными героями: их ха¬рактеры в целом прописаны не слишком подробно, индивидуализа¬ция минимальна и сводится в основном к внешнему облику, манере поведения и — главное — тесно связана с “научной специализацией” героев. В какой-то степени их можно уподобить персонажам класси¬цистической драматургии: геолог здесь прежде всего геолог, зоолог прежде всего зоолог, метеоролог — метеоролог, ботаник и врач — бо¬таник и врач, а капитан — капитан. Споры героев между собой носят либо научный, либо комический характер, и ни одного серьезного разногласия за весь описываемый в романе промежуток времени (почти два года) у них не возникает. Подобная “бесконфликтность” могла бы показаться искусственной, но в книге есть вполне убеди¬тельная мотивировка “единства” героев. Все они ученые, причем специально отобранные для участия в экспедиции, в том числе, оче¬видно, и с учетом личных качеств; они увлечены исследованием ок¬ружающего мира, а невиданные картины, которые открываются пе¬ред ними во время экспедиции, заставляют забыть обо всем, кроме собственно исследовательской работы.
Научная увлеченность у В.А. Обручева становится способом преодоления противоречий. Оказавшись в Плутонии, герои не вспо-’ минают ни родных, ни друзей, ни даже коллег по экспедиции, остав¬шихся на корабле; они не думают о том, что происходит в их собст¬венном мире, — и, наверное, это правильно — ведь что значат какие- то два года по сравнению с сотнями тысяч и миллионами лет, про¬шедшими с тех времен, когда исчез вдруг найденный ими животный и растительный мир.
Отсутствие дополнительных конфликтов позволяет автору со¬средоточиться на основной сюжетной линии, выстроенной по аван¬тюрной схеме. Он “нанизывает” сюжетные мотивы, традиционно использующиеся в романах-путешествиях: герои находят несметные богатства, открывают новые земли, реки, горы, ловят рыбу, охотят-ся, сражаются с дикими животными, чудом спасаются во время лив¬ней и извержений вулканов, гигантские муравьи похищают их иму¬щество, самих участников экспедиции берут в плен местные жители, и т.д. В книге есть даже такой сказочный мотив, крайне редко встре¬чающийся в литературе нового времени, как похищение героя ги¬гантской птицей, — правда, здесь он не играет ключевой роли. Глав¬ным же отличием от романа-путешествия является то, что герои пу¬тешествуют по фантастической стране. В основе фантастического вымысла здесь лежит идея трансформации перемещения простран-ственного в перемещение временное: из мира реального герои, пре¬одолев границу между мирами, попадают в мир фантастический, пе¬редвигаясь в котором, они перемещаются в глубь времен, а затем, на обратном пути, возвращаются в свое время. Пространственное пе¬ремещение преобразуется во временное только в этом, фантастиче¬ском мире, в мире реальном время и пространство вновь обретают привычные формы.
В основе построения картины мира фантастического у В.А. Об¬ручева лежит реализация метафоры “исчезнуть с лица земли”, не¬сколько раз встречающейся в репликах зоолога Папочкина (“Если бы я не знал, что мамонты исчезли с лица нашей планеты, я бы ска¬зал, что это не слоны, а мамонты”; “Но теперь я решаюсь думать, что это были первобытные быки, исчезнувшие с лица земли вместе с мамонтом и носорогом” (С. 112, 125)). Животный и растительный мир, исчезнувший с лица земли, переместился в ее недра и там со¬хранился до наших дней. В предпоследней главе (“Научная беседа”) существование фантастического мира Плутонии получает “науч¬ное” обоснование; Труханов ссылается на подлинные работы круп¬ных ученых и дает вполне логичное объяснение тому, что увидели путешественники. Собственно, именно эта глава показывает, зачем В.А. Обручев обращается к беллетристике и создает научно-фанта-стическое произведение: уж слишком привлекательной является од¬на из гипотез, отвергнутых наукой, так хочется, чтобы она все же подтвердилась. Ссылка “публикатора” на то, что книга написана на основе подлинных дневников участников экспедиции, — традицион¬ный прием в фантастической литературе, — придает роману некий элемент мистификаторства: читателям 1920-х годов объяснения Труханова кажутся не менее доказательными, чем доводы сторон¬ников огненно-жидкого строения земли, а дневники путешественни¬ков “документально” подтверждают существование подземной стра¬ны Плутонии.
«Основное требование, которое следует предъявлять к научной фантастике, это — чтобы она была научной в подлинном смысле (а Гончаров, например, повествует, как первобытные люди разгова¬ривают с собаками и мастодонтами на их языках; Гирели вынимает души из людей и т.д.; тот же Гончаров в “Психомашине” заставляет машины двигаться психоэнергией и т.п.), чтобы она не засоряла моз¬ги читателя безграмотными беспочвенными вымыслами. Научная фантастика — это еще не значит безудержное выдумывание. Научная фантастика — это известное усиление того, что еще только намечает¬ся в науке, это восстановление далекого прошлого человечества и ок-ружающих нашу планету миров на основании имеющихся точных данных» , — заключал С.С. Динамов. “Лучшим мастером научно-фан¬тастического литературного жанра” критик признавал Г.Д. Уэллса. Именно его он ставил в пример современным советским писателям: “Оглядывается ли он на седую древность человечества или чертит смелые контуры грядущих тысячелетий, его фантазия не теряет худо¬жественной убедительности, а персонажи остаются также близки нам, как и современные” , — писал С.С. Динамов в 1925 г.
“В условиях советской действительности научная фантастика обещает стать одной из очень ценных отраслей массовой литерату¬ры, организующее значение которой как нельзя лучше совпадает с основными задачами и целями нашего строительства, — заявляла ре¬дакция выходившей в издательстве “Молодая гвардия” современной библиотеки путешествий, краеведения, приключений и научной фантастики, предваряя сборник произведений А.Р. Беляева. — В стране, где общественный строй, решительно порвав с прошлым, весь находится в устремлении к будущему, где торжество техники, организованного на основе науки труда является главнейшей пред¬посылкой хозяйственного развития, каждый шаг повседневной жиз¬ни как личной, так и общественной, должен ориентироваться на ясно осознанные цели, впереди, а не позади нас находящиеся. Такой попыткой осознания будущего на основе научных достижений на¬стоящего и является научная фантастика” .
С именем Александра Романовича Беляева связан новый этап развития русской фантастической прозы, который начинается в се¬редине 1920-х годов. А.Ф. Бритиков в книге “Русский советский на¬учно-фантастический роман” справедливо утверждал, что “вместе с жюль-верновской традицией научности А.Р. Беляев принес в совет¬ский фантастический роман высокое сознание общекультурной и мировоззренческой ценности жанра” , “связал нашу фантастику с мировой традицией” , “утвердил советский научно-фантастичес¬кий роман как новый род искусства, более высокий, чем роман при¬ключений” . По мнению А.Ф. Бритикова, А.Р. Беляев “тонко чув¬ствовал его эстетику, умел извлечь не только рациональные, но и художественно-эмоциональные потенции фантастической идеи”, был в числе тех немногих писателей, кто “спас его для большой ли¬тературы” . В отличие от многих писателей, обращавшихся к фан-тастической прозе на каком-то определенном этапе творческого пути, А.Р. Беляев был первым в русской литературе фантастом- профессионалом. Он сознавал свою ответственность — ответствен¬ность писателя, отстаивающего право на существование целого на¬правления в литературе: “Отсюда — подвижническое трудолюбие. Свыше двухсот печатных листов — целую библиотеку романов, по¬вестей, очерков, рассказов, киносценариев, статей и рецензий (некоторые совсем недавно разысканы в старых подшивках) — написал он за каких-нибудь пятнадцать лет, нередко месяцами при-кованный к постели” .
Собственно научно-фантастические произведения А.Р. Беляева можно разделить на три группы — по месту, где происходят описыва¬емые автором события. Первую группу составляют произведения, действие которых разворачивается за пределами СССР — в буржуаз¬ных государствах, вторую — рассказывающие о жизни в советской стране, в третьей — А.Р. Беляев пишет об отдаленном будущем — той поре, когда на земле исчезнут границы между странами и люди бу¬дут жить в коммунистическом обществе. Особо надо выделить цикл о профессоре Вагнере, в котором научная и социальная фантастика смыкается со сказочной.
В первых произведениях А.Р. Беляева события в основном про¬исходят за границей, фантастика и авантюрный сюжет используют¬ся для критики буржуазного общества. В 1925 г., в журнале “Все¬мирный следопыт” и в московской “Рабочей газете” был опубли- ован “научно-фантастический рассказ” А.Р. Беляева “Голова про- I ессораДоуэля”, впоследствии переработанный в роман . Автор тарался воспроизвести стилистику “переводной” фантастики, но же вполне сложившаяся модель служила достижению иной цели: ротивопоставлению двух социальных систем — капиталистической, оторая изображалась в произведении, и советской, в рамках кото- ой существовали и писатель, и читатели. В 1926 г. издательство ‘ЗИФ” выпускает книгу А.Р. Беляева “Голова профессора Доуэ- я” . В том помимо произведения, давшего название книге, вошли овести “Человек, который не спит” и “Гость из книжного шкапа”.
том же 1926 году московская газета “Гудок” печатает роман “Вла- телин мира” . В 1926-1927 гг. в журнале “Всемирный следопыт” убликуются “фантастический кино-рассказ” “Остров Погибших ораблей” и научно-фантастическая повесть “Последний человек з Атлантиды” . В 1928 г. романы “Остров Погибших Кораблей” и ‘Последний человек из Атлантиды” выходят отдельным изданием “ЗИФе” , в журнале “Вокруг света” печатается роман “Человек- мфибия” , а издательство “Молодая гвардия” представляет сбор- ик “Борьба в эфире” . В него вошли “Борьба в эфире”, “Вечный леб”, “Ни жизнь, ни смерть” и “Над бездной”. В 1929 г. в издании ‘Красной газеты” появляется полный вариант романа “Властелин ира” , журнал “Вокруг света” представляет на суд читателей ро¬аны “Продавец воздуха” и “Человек, потерявший свое лицо” , в сборнике “Борьба миров” публикуется повесть “Золотая гора” .
В “Острове Погибших Кораблей”, сюжет которого, как было казано в издательском предисловии, “заимствован из известной мериканской кинофильмы”, “читатель сталкивается с обычным инематографическим сюжетом, в котором налицо — и роковая су- ебная ошибка, и мрачный злодей, творящий козни мужественному и честному герою, и прекрасная миллиардерша, влюбляющаяся в невинно осужденного. ..”
А.Р. Беляев использует систему персонажей, часто встречающу¬юся в авантюрной прозе западных литератур. Главными героями произведения являются сыщик Джим Симпкинс, конвоирующий пойманного им преступника, сам преступник Реджинальд Гатлинг, на поверку оказывающийся невиновным, и дочка миллиардера мисс Кингман, которую в конце произведения связывают с оправданным преступником узы брака. В произведении с самого начала задается тон неестественности, театральности всего происходящего: “Паро¬ход отходил, осторожно выбираясь из гавани. Казалось, будто паро¬ход стоит на месте, а передвигаются окружающие декорации при по¬мощи вращающейся сцены” .
Стремительность развития действия заставляет читателей вни¬мательно следить за сюжетом, концентрироваться на сюжетных пе¬рипетиях: любое “отступление”, в котором вне собственно значимых сюжетных ходов раскрываются характеры персонажей, сраз обращает на себя пристальное внимание, что позволяет автору из бежать многословия, ограничиться лишь несколькими эпизодами их вполне достаточно, чтобы стали понятны его симпатии и антипатии, отражающие изначальную и фактическую суть характеров ге роев. В первой главе (“На палубе”) описывается посадка в Генуе н большой трансатлантический пароход “Вениамин Франклин”, от правляющийся в Нью-Йорк. Во второй главе (“Бурная ночь”) паро ход уже терпит крушение, все пассажиры, кроме трех главных ге роев, покидают тонущее судно, и лишь названная троица дрейфуе на полузатонувшем корабле в направлении Саргассова моря. В чет вертой главе, так и названной — “Саргассово море”, — к тайне психо логической, связанной с характером Реджинальда Гатлинга, добавляется тайна “внешняя” — “таинственные звуки”, “странный шорох”, “странные колебания” (С. 26, 27). Корабль “посещает” какое то “неизвестное чудовище”; Симпкинса охватывает “животны ужас: ужас перед неизвестным” (С. 27). Гатлинг выдвигает фантастическую версию происходящего: “Возможно, что здесь, в этом та инственном уголке Атлантического океана, живут неведомые на чудовища, какие-нибудь плезиозавры, сохранившиеся от первобытных времен” (С. 29). Впрочем, оказывается, что его версия — своег рода отвлекающий маневр, она не получает развития в книге. Ключевой становится одна из следующих фраз Гатлинга: “Саргассов море называют кладбищем кораблей. Редко кому удается выбрать¬ся отсюда. Если люди не умирают от голода, жажды или желтой ли-хорадки, они живут, пока не утонет их корабль от тяжести нарос¬ших полипов или течи.И море медленно принимает новую жертву” (С. 30).
“Остров Погибших Кораблей” — одно из немногих произведе¬ний А.Р. Беляева, в котором нет фантастических изобретений. В данном случае писатель стоит ближе к направлению, которое связывают прежде всего с именем В.А. Обручева и называют “ге-ографической фантастикой”, хотя и от романов В.А. Обручева и его последователей книга А.Р.Беляева отличается. Фантастичес¬кой у А.Р. Беляева является гипотеза, “материализующаяся” в про¬изведении. Автор предполагает, что в Саргассовом море может су¬ществовать течение, сносящее все корабли в определенное место. В этой точке, по мысли автора, за многие годы должно было ско¬питься такое количество кораблей, что, затопленные на не очень большой глубине, они образовали подводную пирамиду — фактиче¬ски остров, вполне пригодный для жизни. Сюда течение приносит и “Вениамина Франклина” с тремя путешественниками на борту. «Наш профессор Людерс говорит, что здесь небольшая глубина. Корабли же тонули здесь несколько веков, поднимая дно. И теперь :ы находимся на самом настоящем Острове из погибших кораб- ей. У нас есть здесь любимые места прогулок, свои улицы и пло- 1ади — на палубах больших кораблей, “горы” и “долины”...» — рас- казывает одна из жительниц острова миссис Додэ (С. 53). Подоб¬ая фантастическая гипотеза определяет и “сферу научного”, ко- орую затрагивает автор. С одной стороны, он приводит сведения з океанологии, рассказывает о подводном мире, о Саргассовом :оре, о водорослях и т.д. С другой стороны, корабли разных эпох народов, собранные в одном месте, составляют своего рода музей ораблестроения. Для того чтобы познакомить героев и читателей историей судоходства, вводится специальный персонаж — профес- ор Людерс:
“Солнце опускалось за горизонт, освещая красными лучами яр¬о-зеленую поверхность Саргассова моря и Остров Погибших Ко- аблей с его лесом мачт. Этот исковерканный бурями, искрошен-. ый временем лес, его изломанные сучья-реи, клочья парусов, ред- ие, как последние осенние листья, — все это могло бы привести в ныние самого жизнерадостного человека.
Но профессор Людерс чувствовал себя здесь великолепно, как ченый археолог в любом музее древностей.
Усевшись на палубе голландской каравеллы, он с воодушев- ением рассказывал Гатлингу, показывая широким жестом округ:
— Здесь, перед вашими глазами, вся история кораблестроения. Вы не можете себе представить, какие здесь есть исторические дра¬гоценности” (С. 56).
Автор несколько раз “предоставляет слово” профессору Людер¬су, подробно рассказывающему о разных типах кораблей — от скан¬динавского одномачтового десятивесельного судна десятого века до колесного парохода девятнадцатого столетия.
Авантюрная составляющая сюжета связана с противоборством Гатлинга и губернатора Острова Погибших Кораблей Фергуса Слейтона, вознамерившегося жениться на мисс Кингман. Столкно¬вение Гатлинга и Симпкинса переосмысляется как комическое. Ког¬да главным героям удается вырваться с Острова Погибших Кораб лей и добраться до Нью-Йорка, начинает развиваться вторая сюжетная линия, в основе которой — борьба жителей Острова за “губернаторское кресло”. Наконец, Гатлинг и его новые друзья, орга низовавшие научную океанологическую экспедицию, возвращают ся на остров — и две сюжетные линии сливаются воедино. Все заканчивается пожаром: Остров погибает. Попутно раскрывается и тайн Гатлинга — обнаруживается подлинный преступник, совершивши злодеяние, в котором обвиняли Гатлинга.
В ранних произведениях А.Р. Беляева авантюрная составляю щая часто преобладает над фантастической. В произведениях этог периода авантюрно-фантастическое произведение обязательно ис пользуется для социальной критики нравов буржуазного обществ Общественный конфликт может выходить на первое место, как “Голове профессора Доуэля”, может проходить “пунктиром”, как “Острове Погибших Кораблей”, где жизнь Острова становится сво его рода проекцией жизни в капиталистическом государстве, а ег гибель предвещает гибель отжившей социальной системы.
Роман “Человек-амфибия” — одно из самых популярных прои ведений А.Р. Беляева, — еще до войны выдержал несколько переи даний. Роман стоит несколько особняком в творчестве писателя, п скольку, наряду с социальным конфликтом, автор подробно показьвает столкновение науки и церкви. Основным в “Человеке-амфбии” при этом является конфликт любовный, хотя в финале прои ведения он фактически отходит на второй план. История Ихтианра, полюбившего “земную” девушку, — отражение сказочного сюж та о человеке, полюбившем русалку и обреченном на гибель, сюж та балладного типа, встречающегося в романтизме. Но у А.Р. Беля ва романтический конфликт (столкновение двух миров — мира хритианского и мира языческого) переосмысляется с точки зрею двадцатого века. Гениальный ученый и его воспитанник бросав вызов обществу, в котором властвуют церковь и капитал. Они обрчены на гибель, но Ихтиандру удается бежать на некий остров — опять остров! — где хозяева — не промышленники, торговцы и епис¬копы, а ученые.
В фантастических произведениях одним из ключевых является мотив нечистой силы (подробнее об этом речь пойдет ниже), но не¬посредственное участие в конфликте церкви для фантастики неха¬рактерно. А.Р. Беляев же использует тему нечистой силы, чтобы подготовить трансформацию социального конфликта в конфликт науки и церкви. Первая глава романа, в которой рассказывается о “непонятном существе”, “призрачном чудовище”, “загадочном суще¬стве”, не случайно называется “Морской дьявол”: “Одним он причи¬нял вред, другим приносил неожиданную помощь. Старые индейцы были убеждены, что это — морской бог, выходящий из глубины оке¬ана раз в тысячелетие, чтобы восстановить справедливость на зем¬ле. Католические священники уверяли суеверных испанцев, что это морской дьявол, который обнаглел и начал “пошаливать” потому, что люди забывают святую католическую церковь” .
Казалось бы, уже здесь сталкиваются две позиции, которые мо¬гут стать основой конфликта, тем более что столкновение “бог — дьявол” осложняется еще и противопоставлением индейцев и испан¬цев. Но обе точки зрения в данном случае — объяснение людей рели¬гиозных или, пользуясь терминологией автора, “суеверных”. В той же главе писатель вводит и “третью силу” — ученых:
“Ученые не заставили себя долго ждать.
Большинство из них категорически отрицало всякую взмож- ность появления в океане какого-либо неизвестного науке морского чудовища, притом могущего совершать поступки, на которые спосо¬бен только человек. “Если бы вопрос касался малоисследованных глубин океана, такую возможность еще можно было бы допустить, исключая, конечно, высокой “разумности” этого неизвестного су¬щества”, — писали ученые. И они присоединялись к мнению началь¬ника морской полиции о том, что все это — проделки озорства.
Были, однако, и такие “ученые”, которые не отрицали возмож¬ности существования неведомого чудовища.
Они ссылались на знаменитого немецкого натуралиста Конрада Геснера, который дал описание морской девы, морского дьявола, морского монаха и морского епископа.
“В конце концов, многое из того, о чем писали древние и средне¬вековые ученые, оправдалось, несмотря на то, что новая наука отри¬цала правдивость и научность этих “старых” учений. Божеское творчество неистощимо, и нам, ученым, скромность и осторожность в заключениях приличествуют больше, чем кому-либо другому”, — писали старики” (С. 12).
В новой редакции А.Р. Беляев прямо отказывал этим старикам в праве называться учеными: “Впрочем, трудно было назвать уче¬ными этих скромных и осторожных людей. Они. верили в чудеса больше, чем в науку, и лекции их походили на проповедь”. Одни из них шли на поводу у полиции, другие — у церкви. Настоящий ученый для А.Р. Беляева не тот, кто просто изучает доступный для исследо¬ваний материал, и уж тем более не тот, кто благоговеет перед “бо¬жеским творчеством”. Подлинный ученый — творец, создающий сво¬ими руками нечто новое, необычное, удивительное, человек, броса¬ющий вызов предрассудкам, человек, для которого нет ничего не¬возможного, и не потому, что нет ничего невозможного для бога, а потому, что сам человек способен на все. Образ такого ученого А.Р. Беляев создает в романе. Доктора Сальватора многие индейцы тоже называют божеством, поскольку он спасает их и их детей от смерти и болезней. “Они говорят, что он всесилен. Сальватор может творить чудеса. Он держит в своих пальцах жизнь и смерть. Хромым он делает новые ноги, настоящие, живые ноги, слепым дает зоркие, как у орла, глаза и даже воскрешает мертвых”, — объясняет Бальта-зарЗурите (С. 32).
На самом деле, доктор Сальватор, конечно, не совершает ника¬ких чудес, он ученый-хирург, разработавший уникальные методы лечения, экспериментатор, проводящий удивительные опыты. Его открытия — вызов косности и суеверию буржуазного общества, и об¬щество готово пойти на многое, если не на все, чтобы изолироват или уничтожить непокорного ученого, желательно, воспользовав¬шись плодами его трудов в своих целях.
В 1928 г. в послесловии ко второму изданию романа отмечалось что профессор Сальватор — не вымышленное лицо. А.Р. Беляев ис пользовал в сюжете произведения действительные события: всеобщую забастовку рабочих Буэнос-Айреса и процесс над профессоре! Сальватором. В 1926 г. в Буэнос-Айресе профессор Сальватор бы приговорен верховным судом к долгосрочному тюремному заключению за святотатство, так как “не подобает человеку изменять то что сотворено по образу и подобию божию”. “Большинство описаных в романе операций действительно были произведены Сальвато ром, — отмечал автор послесловия. — По его проекту мышцы у сги ба руки переходили в особые ремешки, благодаря которым рук могла поворачиваться на 180°. На груди слева он проделывал по лость для... бумаг, на правом бедре в коже прорезал карман и т.п. словом, он приспособлял организм (по его словам) “к требования современной цивилизации”. Все эти опыты он проделывал над деть ми индейцев, которые боготворили его” (С. 198-199). Интересно, что в послесловии к изданию романа 1938 г. о реальном прототипе одно¬го из главных героев уже не вспоминали. Профессор А. Немилов ставил под сомнение возможность существования такого “чудесного научно-исследовательского института”, какой был у Сальватора. “В капиталистических странах честным трудом нельзя заработать средств не только на постройку института, но даже и на оборудова¬ние маленькой лаборатории. Бескорыстные и талантливые люди не наживают там капиталов, но ночуют подчас под арками или торгу¬ют спичками и зубочистками, — писал А. Немилов. — В буржуазных странах имеются неплохие исследовательские институты, но все они созданы ценою ограбления рабочих масс, построены на средства эксплуататоров и тунеядцев. В настоящее время в условиях погиба¬ющего капитализма эти институты хиреют и чахнут. Дворцы науки можно построить только у нас, где в корне уничтожена возмож¬ность эксплуатации человека человеком и где социалистическое го¬сударство предоставляет неограниченные средства на научные ис¬следования. Живи Сальватор в нашей стране, он, конечно, не стал бы создавать земноводных обезьян и воспитывать Ихтиандра, а свои большие способности и знания направил бы на то, что действитель¬но нужно и полезно для человечества” .
Повесть А.Р. Беляева “Золотая гора” — своего рода переход от социально-критической фантастики к фантастике “социально-ут- верждающей”. Центральным персонажем повести является иност¬ранец — работающий в Москве американский журналист Клэйтон — и в этом смысле повесть смыкается с произведениями первой груп¬пы, но “проискам империалистов”, пытающихся завладеть чужими открытиями или, по крайней мере, помешать “большевикам”, в “Зо¬лотой горе” противопоставляется деятельность советских людей. Именно здесь “вырисовывается” новая система фантастического.
А.Р. Беляев делает героя типичным американцем, примером то¬го, что в Америке называется “кеИтабе тал”, человеком, которому везло в жизни: «Сын небогатого фермера, Клэйтон рано начал зара¬батывать самостоятельно. Ему было семнадцать лет, когда он из сонного Запада приехал в кипящий котел Нью-Йорка и быстро при-способился к новым условиям жизни. Переменив несколько профес¬сий, он остановился на журналистике. К двадцати пяти годам он уже был видным сотрудником газеты “Нью-Йорк тайме”». Казалось бы, Клэйтон быстро достиг всего, о чем только мог мечтать, но неожи¬данно он “заболел скукой”, все ему надоело — работа, знакомые, го¬род. Чтобы спастись от непролазной одуряющей скуки, Клэйтон стал браться за самые рискованные поручения: “Он “провел” на баррикадах две мексиканские революции, кочевал с африканскими племенами, восставшими против французов, летал на Южный по¬люс с экспедицией, разыскивающей Оуэна...” Наконец, по совету одного из друзей, Клэйтон отправляется специальным корреспон¬дентом в СССР, в Москву: “По мнению друга и самого Клэйтона, это предприятие было самое рискованное из всего предпринятого Клэйтоном”. Именно риск привлек Клэйтона, но советская действи¬тельность разочаровала его: “Он не нашел тех ужасов, о которых говорили ему “очевидцы”. Клэйтон искал экзотики и не находил. В окружающей жизни он многого не понимал и не старался понять — он прошел американскую газетную школу, которая не приучила проникать в сущность явлений”.
От своего приятеля Додда, тоже корреспондента “Нью-Йорк тайме”, на самом деле работавшего на американскую разведку, Клэйтон получает задание разыскать на Алтае Василия Николаеви¬ча Микулина, гениального русского ученого-физика, избранного действительным членом Лондонского королевского общества (“Не¬бывалый случай со времени избрания Менделеева. Обычно иност¬ранных ученых, даже с выдающимся именем, избирают только чле¬нами-корреспондентами”). Микулин, гениальность которого, “поза¬быв о национальном самолюбии”, готовы признать даже американ¬цы, стоял на пороге открытия, способного “перевернуть мир”, но вернувшись из Лондона, где он ставил эксперименты в лаборатории Академии наук, в СССР после недолгого пребывания в Ленинграде ученый “как-то незаметно” исчез — по сведениям американцев, от¬правился в родные места — на Алтай, чтобы в тихом “местечке” с прекрасным горным климатом, недалеко от китайской границы, вместе с одним или двумя помощниками завершить исследования.
Поручая Клэйтону ответственное задание, Додд объясняет, что Микулину почти удалось осуществить мечту многих поколений уче¬ных и алхимиков — найти философский камень. Американцы боятся его изобретения: “Представляете вы, что значит превращать один элемент в другой? Это значит из кирпичей, булыжника и песка вы можете делать чистейшее золото, из дерева — шелк, из стекла — ал¬мазы, из алмазов... пасту для зубов, словом, возьмите пару любы: предметов и превращайте их один в другой. Такой человек- долже: быть всемогущим. Но и этого мало. Микулин обещает освободить ] использовать внутриатомную энергию. А это изобретение способ» перевернуть весь мир. В руках этого человека, большевика, окажет ся почти сверхъестественное могущество. Он начнет снабжать сво< правительство целыми вагонами золота. Чем это кончится? Всеобщая золотая “инфляция”, полнейшее обесценение золота, всеобщие кризисы в капиталистических странах, банкротства, рабочие волне¬ния... Бороться с Советской Россией? Но разве можно будет бороть¬ся со страною, которая обрушит на голову врага взбесившиеся силы природы — миллиарды, — не лошадиных, а дьявольских, — сил, сидя¬щих в каждой песчинке! Вы понимаете, что будет?..”
Картина, нарисованная Доддом, производит страшное впечат¬ление на Клэйтона: “Он чувствовал, как холодеет его сердце. Но мысль не хотела мириться с этой страшной судьбой обреченного мира. Может быть, не все потеряно, может быть, есть выход?” И Клэйтон соглашается отправиться на Алтай, разыскать Микули- на, проникнуть в его лабораторию и узнать результаты научных исследований.
А.Р. Беляев не уделяет внимания рассказу о поиске Клэйтоном затерянной лаборатории. Сюжет продолжает развиваться с того мо¬мента, как Клэйтон выходит на след Микулина и с помощью провод¬ника, наконец, подбирается к “колонии” ученых. Достижения совет¬ской науки производят огромное впечатление на Клэйтона, но еще больше поражают его люди — химик и помощник Микулина Елена Лор, лаборант Ефим Яковлевич Грачев, “завхоз, повар, ключница и прочее и прочее — Егоровна”, высокая старуха, которая кажется “последним представителем вымершей породы великанов”, ее муж “великан — седой старик” Данила Данилович Матвеев, “великий ло¬вец зверей”, и, конечно, сам Микулин: «“Неужели этот молокосос способен перевернуть мир?” — думал Клэйтон, разглядывая лицо Микулина. Оно действительно выглядело очень молодым. Прекрас¬ный лоб и в особенности глаза — большие, голубые, прозрачные и в то же время глубокие — привлекали особое внимание. От этих глаз трудно было отвести взгляд».
В повести “Золотая гора” складывается тот образ советского ученого, который в дальнейшем будет переходить из одного произ¬ведения А.Р. Беляева в другое. Микулин предстает человеком, одер¬живающим верх над силами природы, утверждающим величие чело¬веческого разума. Объяснения, которые он дает Клэйтону, это не только изложение сути исследования, это слова человека, уверенно¬го в своем праве повелевать природой:
«Я утверждаю, что классическая химия отжила свой век и что на смену ей идет физика. Даже в тех областях, где химия считается не¬ограниченным владыкой. В самом деле, сколько труда тратят хими¬ки хотя бы на то, чтобы создать синтетическим путем каучук! А я (остигаю этого очень скоро при помощи своих катодных трубок вы- окого напряжения. Вот, полюбуйтесь. (...) Он повернул рубильник 1азад. Страшные огненные змеи исчезли, притаились. Но они были десь, готовые каждую минуту выпрыгнуть по приказу своего укро¬тителя. Да, Микулин, этот красивый юноша с выразительными гла-зами, был страшный своим могуществом человек.
— Это настоящая молния, — пояснил Микулин. — В ней два милли¬она вольт. Но я могу довести напряжение до десятка миллионов. На¬стоящая молния лопнет от зависти. Теперь смотрите сюда.
Микулин повернул другой рычаг.
Шесть длинных стеклянных лампочек, соединенных цепью, за¬светились приятным зеленоватым огнем.
— Это не так страшно, не правда ли? — спросил Микулин. — А между тем здесь заключены те ужасные стихийные силы. Но я заставил их служить человеку. Вот из этого окошечка в трубке я выпускаю “пи-лучи”. Это настоящие лучи смерти для многих жи¬вых существ. И в то же время они способны делать чудеса, превра¬щая химические элементы. (...) Это моя физическая катодная хи¬мия. Я разбиваю и перемещаю атомы по своему желанию. Из угле¬водородов я могу сделать искусственный каучук, из угля — бензин и нефть. Из дерева — сахар и шелк, и скоро, кажется, я получу жи¬вую протоплазму, — Микулин погасил лампочки. — Идемте, пора обедать».
Впрочем, Клэйтона больше привлекает не Микулин и его опы¬ты, а Аленка, Елена Лор. “Советская Диана”, как мысленно называет ее Клэйтон, поражает воображение американца: “Клэйтон ника не ожидал встретить в дебрях Алтая такую красивую женщину” Любовный конфликт и элементы авантюрного сюжета используют ся А.Р. Беляевым в повести “Золотая гора” для того, чтобы пока зать, как меняется характер Клэйтона, как постепенно он убеждает ся сначала в силе характера, красоте и величии души людей, с кото рыми ему довелось столкнуться, затем в правоте их слов и поступ ков, а, в конечном итоге, и в исторической правоте советског строя. Клэйтон не сразу “переходит” на сторону тех, кого еще недав но готов был уничтожить. А.Р. Беляев описывает его “душевны терзания”, столкновение двух идеологий не только как “физическу! схватку” противников, но и как внутренний, психологический кон фликт. Сначала Клэйтон всерьез обдумывает план уничтожени изобретения и ученых, хотя в его душу уже закрадывается червь со мнения. Клэйтон не может понять, почему патриотизм и граждан ский долг велит ему убить этих прекрасных людей:
«Клэйтону надо было обдумать дальнейший план действий, есп секрет получения золота искусственным путем будет открыт сеп дня Микулиным. Убить! Но это нелегко. Совсем нелегко. Пожалуй легче убить Грачева. Но он только лаборант. Нечто вроде слуг: Подай, подогрей, возьми... Микулин? Говорят, он гениален... Впозне возможно. Однако Микулин обладает еще одним талантом: пр: влекать к себе симпатии окружающих.
Клэйтон старался убедить самого себя, что Микулин замышля¬ет погубить цивилизацию, но маска злодея спадала с лица Микулина и на Клэйтона смотрели большие глаза, от которых трудно было оторвать взгляд.
— Не может быть, чтобы Лор была равнодушна к этим глазам, — прошептал Клэйтон. И мысли его перешли к девушке прежде, чем он “покончил” с жизнью Микулина. Убить Лор? Убить молодую де¬вушку, похожую на веселого мальчика? Да он и не собирался нико¬го убивать! Он узнает о том, что секрет золота открыт, сообщит Додду, и пусть они делают, что хотят. Впрочем, нет. Клэйтон был бы плохим патриотом, если бы отказался выполнить свой граждан¬ский долг. Надо меньше размышлять, а больше делать. “Я не воз¬буждаю у Микулина подозрений и спрошу у него прямо, как он ду¬мает использовать свои изобретения. Если он в самом деле думает сделать их орудием революционной борьбы, то с ним и со всеми ими не придется церемониться”».
Клэйтон — американец, и поэтому, рассуждая о патриотизме и гражданском долге, он обращает внимание и на практическую сто¬рону дела — ведь Микулин совершил не простое открытие, он изо¬брел способ легко и дешево получать золото. Когда Клэйтон пы¬тается выяснить, как ученый собирается использовать открытие, Микулин с увлечением рассказывает, что благодаря его изобрете¬нию будет быстро “развиваться хозяйство страны, увеличиваться благосостояние масс”: “Мы наденем ярмо на золотого тельца и за¬ставим его пахать наше поле! В древнеиндийских книгах — Атава- Веда — золото называется жизненным эликсиром. Смотрите на этот край. Природные богатства его неисчислимы. Красота неопи¬суема. Климат прекрасный. А кто здесь живет? Дикий зверь, пти¬ца да горсточка людей. Что можно сделать с этим диким краем? Тысячи водопадов и горных речек будут вращать колеса турбин. По красивым долинам заснуют новенькие трамвайные вагончики, задымят заводские трубы, вырастут дворцы-санатории, оживут го¬ры и леса. И не только здесь, на Алтае, золото станет эликсиром жизни”. Впрочем, Клэйтона мало интересует “употребление золо¬та для мирных целей”. Разговор переходит в область политики. Микулин не скрывает, что легкий и простой способ получения зо¬лота подорвет самые основы капиталистического строя, уничто¬жит власть капитала:
«- В Атава-Веда золото названо средством против колдовства. Против какого же колдовства вы собираетесь использовать золото?
— Против колдовства самого же золота. Против колдовства ка¬питала, поработившего рабочих, ослепившего разум людей.
“Додд был прав. Вот когда Микулин показал свое настоящее ли¬цо!” — подумал Клэйтон.
— Но ведь это причинит большие несчастья людям. И хочу ска¬зать, пока вам не удастся осуществить ваш новый строй...
— А скажите, положа руку на сердце, разве строй любезной ва¬шему сердцу Америки обеспечивает счастье большинству населе¬ния? И даже те немногие, кто наслаждается счастьем за счет несча¬стья других, разве богачи счастливы по-настоящему? Разве их не беспокоит мысль о крушении капитализма? Спокоен только тот, за кем будущее.
Микулин еще долго говорил о грядущем, но Клэйтон думал только об одной фразе: спокойным может быть только тот, за кем будущее. Черт возьми, выходит, что будущее за большевиками! Ну, он убьет Микулина, убьет Лор и Грачева, а дальше что? Всех боль¬шевиков он перебить не сможет. Счастливая Россия! Ей не грозят революции, не грозит страшный призрак, который не дает спокой¬но спать европейским и американским капиталистам.
“Лучший способ перестать бояться черта — самому стать чер¬том”, — подумал Клэйтон».
Кульминацией повести становится эпизод, когда во время гро¬зы ломается металлический стержень на крыше дома, и опасность нависает над всем лабораторным комплексом. Грачев, рискуя соб¬ственной жизнью, пытается спасти положение, но ему не удается ничего сделать — он погибает. И роль спасителя берет на себя Клэй¬тон, хотя еще за день до этого он думал, как уничтожить то, что те¬перь спасал: «Микулин с благодарностью взглянул на Клэйтона. И этот взгляд обрадовал Клэйтона гораздо больше, чем он сам ожидал. Нет, решительно Микулин обладает тайной привлекать к себе сердца людей! (...) И Клэйтон, который явился сюда для того, чтобы убить страшного Микулина, с готовностью побежал испол¬нять его приказания. Этот “холодный огонь”, скрытый энтузиазм начал заражать Клэйтона». Чтобы показать, как меняется Клэй¬тон, А.Р. Беляев описывает впечатления американца от опытов Микулина. На смену чувству страха, охватившего его, когда он пер¬вый раз увидел лабораторию, приходит искреннее восхищение. Окончательно “исправляется” Клэйтон после того, как Аленка признается ему в любви:
“Да и вообще за это время он во многом изменился. Общение с Микулиным не проходило даром. Незаметно для себя Клэйтон начи¬нал все больше увлекаться мыслью о строительстве новых, неведо¬мых в истории человечества форм жизни. Микулин умел рисоват] грандиозные перспективы будущего, превосходившие своими мае штабами даже американский размах. И если Клэйтон еще не совсем освоился с мыслью, что будущее за Советской Россией, а не за ег< Штатами, то от былой его национальной гордости не осталось и еле да. Теперь он был не в силах убить Микулина, не говоря уже о Лор
Но что делать? Что сказать Додду, который не знает его сомне¬ний и колебаний? У Додда все ясно и непоколебимо: интересы Шта¬тов выше всего”.
Появление Додда, требующего, чтобы Клэйтон взорвал лабора¬торию вместе с ее обитателями, приближает развязку. Как раз в это время Микулину, наконец, удается решающий эксперимент. Клэйтон “разрывается” между прежней жизнью — жизнью американского жур¬налиста — и жизнью новой, с которой он соприкоснулся в лаборатории советских ученых. Ему хочется во всем признаться, но он не желает предавать недавнего товарища и к тому же соотечественника. Не ре¬шается Клэйтон и признаться Додду в том, что он не хочет выполнять его поручение: “Додд сочтет его трусом и, может быть, даже предате¬лем. Тогда Клэйтону несдобровать...” И все же, когда Додд под дулом револьвера пытается увести Клэйтона с собой, тот бежит, чтобы пре¬дупредить о готовящемся нападении на лагерь ученых. Он попадает в трясину, чуть не погибает, а спасший его Данилыч, подслушавший разговор с Доддом, разоблачает Клэйтона как шпиона. Но повесть за¬канчивается хорошо: построенная Микулиным система защиты унич¬тожает “головорезов”, напавших на лабораторию, а Микулин и его товарищи призйают, что Клэйтон действительно изменился и понял правоту советских ученых и советского строя.
Хотя основная сюжетная линия в повести связана с собственно “осуществлением изобретения”, с противоборством человеческой воли и человеческого разума с силами природы (в широком смысле), одним из ключевых конфликтов является конфликт “двух систем” — общества советского и общества буржуазного. В современном об¬ществе империалисты изо всех сил пытаются помешать советским людям строить новое общество. У них достаточно большие возмож¬ности — тому же Клэйтону без особого труда удается проникнуть в секретнейшую лабораторию, а затем в глухом районе Алтая невесть откуда появляется десяток хорошо вооруженных и на все готовых “головорезов”. Но в конечном итоге они обречены на поражение.
В романе “Подводные земледельцы”, опубликованном на следу¬ющий год в журнале “Вокруг света” , А.Р. Беляев использует мно¬гое из того, что впервые в его творчестве появилось в повести “Зо¬лотая гора”. При этом он окончательно отказывается от авантюр¬ной схемы построения сюжета и от характера главного героя — аван¬тюриста, которые лежали в основе большинства его крупных произ¬ведений в 1920-е годы. В типологическом отношении роман “Под¬водные земледельцы” представляет большой интерес, так как имен¬но в нем окончательно складывается та модель построения совет-ского фантастического романа, которую вслед за А.Р. Беляевым станут использовать и другие писатели метрополии.
Действие романа разворачивается на тихоокеанском побережье Советского Союза. Автор описывает события, невозможные в на¬стоящем, но не переносит действие в будущее: он старается обой¬тись без жесткой увязки событий с конкретным временном отрез¬ком, изображая “современность” в широком смысле слова: не как момент, но как эпоху. Основой романа становится развернутая фан¬тастическая идея освоения океанских просторов. Герои романа при¬ступают к “промышленному” использованию тихоокеанских глу¬бин, создавая плантации морской капусты, строят подводные дома, возводят целый подводный городок — Гидрополис, и т.д.
Сама идея — выращивание морской капусты — могла бы пока¬заться читателю пригодной скорее не для научно-фантастического, а для юмористического произведения, и поэтому в уста одного из главных героев, Волкова, автор вкладывает подробный рассказ о том, что из себя представляет морская капуста, какова ее ценность и насколько велики могут быть выгоды от ее промышленного про¬изводства: «Химические исследования, произведенные не так давно, показали, что морская капуста действительно содержит много пита¬тельных веществ и годна и для питания человека, и для корма скота. В ней содержится от шести до тридцати процентов белка и немного жира — примерно процента полтора — два. Таким образом, в капусте есть все необходимые для питания вещества. Японская капуста “аманори” богата протеином и является очень хорошим питатель¬ным веществом. Японцы большие мастера приготовлять из аманори различные кушанья. (...) Мы могли бы отправлять капусту и на вну¬тренний, и на внешний рынки. Но морская капуста, — продолжал Волков, — может быть использована не только как питательное ве¬щество. Из золы ее получаются очень ценные удобрения, так как в ней имеются калиевые соли. Америка добывает этих солей из водо¬рослей на много миллионов долларов ежегодно. Наконец, в водо¬рослях много солей, йода, брома и даже мышьяка. В 1916-1917 го¬дах здесь был завод, который давал до тысячи килограммов йода в год. “Ляминариадигитата” содержит три процента йода и до двадца¬ти пяти процентов углекислого калия. В пищу наиболее часто упо¬требляются “ульва” из зеленых водорослей, “порфира” и “редимениа” — из красных “аляриа” и “ляминария”» .
Фантастическая идея возникает не случайно — писатель напоминает, что в настоящее время используются далеко не все возможно сти, связанные с добычей и переработкой морской капусты. Еще до революции Россия продавала капусту в Китай “в качестве пищево¬го продукта”, теперь же СССР уступил добычу капусты японцам, которые безнаказанно браконьерствуют на наших территориях. «Один американец высчитал, что в Тихом океане один только вид водорослей — “макроцистис” — может дать тысяч шестьдесят тонн ежегодной жатвы. А запасы всех видов водорослей невозможно сейчас даже учесть, — сообщает Волков. — Из того, что мы плохо ис¬пользуем свои природные богатства, вовсе не следует, что мы и не должны их использовать. Наоборот, надо использовать то, что сам океан на берег выбрасывает, что еще хранится в его водах, и то, что можно создать своими руками. Я навел кое-какие справки. Сейчас нами добывается водорослей свыше восьми тысяч тонн, а в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году добывалось больше десяти ты¬сяч!» (С. 291).
А.Р. Беляев показывает, как возникает идея подводного совхо¬за, подчеркивает, что в основе ее лежит не стремление к обогаще¬нию, не жажда приключений, а желание принести пользу людям, со¬ветскому отечеству. Увидев двух японцев, собирающих недалеко от берега морскую капусту, Конобеев объясняет Волкову, что делают японцы: “Огород, значит, разводят, вроде как подводные земледель¬цы. Однако к нам лезут! Тесно у них на островах, податься некуда, вот и лезут. Да нешто одни японцы нас обирают? А американцы что делают? Глаза бы не видали! Одних котов тыщами изводят” (С. 286). Комсомолец Ванюшка Топорков, присоединившийся к разговору, возмущается происходящей на их глазах “контрабандной реквизици¬ей общественного достояния”: “Да ведь кто грабит? Подручные Та- ямы Риокицы, промышленника толстопузого. Он же бедняку-япон¬цу и продаст эту капусту за четыре дорога, а бедняк опять голодный будет. Гнать их отсюда без всяких дипломатических нот” (С. 286).
Герои не просто возмущаются поведением браконьеров-япон¬цев, они сразу же принимают решение противопоставить хищничес¬кой буржуазной эксплуатации труда и природных ресурсов совет¬ское производство. Волков, Топорков и Конобеев задумывают по¬ставить добычу капусты на промышленный лад, создать подводный совхоз:
Да, а если бы нам самим взяться за разведение морской капу¬сты, как это японцы делают, — задумчиво сказал Волков, — мы мог¬ли бы удесятерить сбор и сбыт капусты. А если все это механизиро¬вать, машинизировать...
— Совхоз! О! — воскликнул Ванюшка. — Это... это, фут возьми, что такое? Экспортный товар. Валютный! А? Что ты скажешь, дед Макар?
— Однако хорошо было бы, — подумав, ответил Макар Иванович.
Вашошка вдруг вскочил, как с горячей плиты. Он ударил кула¬ком правой руки по ладони левой и заговорил, как на собрании:
— Граждане, кто за подводный совхоз? Единогласно! Ах, фут возьми! Вот это будет номер! — И он размечтался, захваченный не¬обычайностью идеи.
-Мы будем работать под водой в водолазных костюмах. Мы вы¬строим на дне настоящие города. Проведем дороги. Наставим элек¬трических фонарей. И по этой подводной дороге будем ездить на подводных автомобилях к подводным знакомым! Вот так, фут возь¬ми! Работать мы будем на подводных тракторах... (...) Будут у нас те-лефоны, и радио, и уха каждый день, потому что с рыбами в одной квартире. Прямо воду нагревай и уху ешь!” (С. 287).
Смелая идея сталкивается с множеством нерешенных “практи¬ческих вопросов”. Волков объясняет товарищам, какие трудности придется преодолевать, если они решатся воплотить в жизнь свои планы, какие технические проблемы потребуют немедленного ре¬шения. Для реализации фантастической идеи необходим комплекс фантастических изобретений — вот схема, предложенная А.Р. Беля¬евым: “Прежде чем думать о том, чтобы жить под водой, надо поду¬мать об усовершенствовании водолазных костюмов, — сказал Вол¬ков. — В современных водолазных костюмах долго не проработа-ешь, да и слишком это сложно и дорого. Ведь наша задача должна сводиться к тому, чтобы завести правильное хозяйство — садить мор¬скую капусту японским способом на новых участках земли. Японцы могут втыкать свои бамбуковые ветки лишь на очень небольшой глубине, там, где вода над плантацией при отливе не превышает од¬ного — полутора метров. Работать на большой глубине не позволя¬ют их несовершенные орудия. (...) Если же сконструировать хоро¬ший, удобный водолазный костюм, не связанный с определенной ба¬зой, то площадь подводных плантаций можно увеличить во много- много раз. Можно, конечно, механизировать и копание ямок, хотя о подводных тракторах и автомобилях нам мечтать пока не приходит¬ся. Трактор без горючего не двинется, а горение под водой...” (С. 288).
Организаторы подводного совхоза — главные герои романа. Схема построения системы персонажей здесь отчасти заимствован: из повести “Золотая гора”. Энтузиазм воплощается в образе комсомольца Ивана Ивановича Топоркова или, как все его называют, — Ванюшки. Именно Ванюшке приходят в голову самые смелы» идеи, именно он стремится как можно быстрее их осуществить. Ме стных жителей представляет старик Макар Иванович Конобеев «Конобеев родился и вырос в Приморье. Отец его был зверолов И Макар Иванович еще десятилетним мальчишкой уже ходил с от цом на медведя. Сколько он их потом уложил на своем веку, выхо
дя на зверя “один на один”! Но не в пример отцу, который был на¬стоящим “лесным человеком”, у Макара Ивановича была общест¬венная жилка. Еще в старое время, до революции, он пытался орга¬низовать артель охотников и рыболовов. Но из этого ничего не вы¬шло. Конобеев доверчиво роздал членам артели деньги, которые скопил, продавая пушнину; его обманули, ушли с деньгами и не вер¬нулись» (С. 284). Роль главного организатора и будущего руководи¬теля подводного совхоза принадлежит Волкову: “Волков не так давно поселился в Приморье. Раньше он работал в Белоруссии по колхозному строительству. Но у него была беспокойная натура. Наскучив работой землемера, он пристроился к одной научной экс¬педиции, которая отправлялась на Дальний Восток. Красота и свое¬образие этого края так пленили Волкова, что он остался там жить” (С. 285). Встреча этих трех людей кладет начало фантастическому проекту: “На этот раз не было принято никакого практического ре¬шения. Однако начало было положено. (...) Друзья (они были уже друзьями, связанными общей идеей) решили встретиться через не¬сколько дней” (С. 288, 289).
После того, как идея возникла, на помощь приходит наука — во¬ля и разум помогают осуществить самые смелые, самые фантасти¬ческие планы. Ванюшка решает написать своему приятелю в Ленин¬град: “Он электротехник и изобретатель. Он работает в лаборато¬рии самого академика Иоффе. Слыхали про такого? Он нам — не Иоффе, а приятель мой, Микола Гузик, — и водолазные костюмы придумает, и подводные тракторы. А может, и сам Иоффе поможет. Башковитый малый!” (С. 288). Создавая образ Миколы Гузика, при¬ятеля Ванюшки, посланного “из ударной бригады” учится в вуз в Ле¬нинград, А.Р. Беляев также опирается на стереотип: «Густые, каш¬тановые, немного вьющиеся волосы над высоким лбом и большие очень прозрачные светло-серые глаза, всегда задумчивые, смотря¬щие куда-то вдаль, как бы пронизывающие вещественные предме-ты, — “рентгеновские”, как выразился однажды Волков. Эти глаза невольно обращали на себя внимание. Молодой инженер-электрик, ученый изобретатель Микола Гузик был прост, как ребенок, и фе¬номенально рассеян. Но эта рассеянность относилась лишь к внеш¬нему миру и внешним вещам, и происходила она оттого, что Гузик умел так глубоко внутренне сосредоточиваться, что забывал обо всем окружающем».
Получив ответ от Миколы Гузика, Ванюшка созывает новое экстренное собрание. В письме Гузика излагаются основополагаю¬щие принципы работы водолазных костюмов — как тех, что имеют¬ся в действительности, так и фантастических, только лишь “создан-ных” советскими учеными: “Ты, Ванюшка, спрашиваешь меня о во¬долазных костюмах. Наилучшие из них — японские. Это аппарат, ко¬торый закрывает нос и глаза (очки). В японских костюмах можно погружаться до 80 м. Глубже опускаться в таких аппаратах затруд¬нительно (давление воды: погружение на каждые 10 м увеличивает давление примерно на одну атмосферу). Для более глубокого погру¬жения существуют жесткие аппараты, в которых можно опускаться на глубину 200 м. В таком аппарате давление воды поглощается стенками. Среднее погружение в мягком аппарате — 40 м. Но и при жестком и при мягком аппарате водолаз связан со своей базой (подача воздуха). Освобождение водолаза от базы (относительное) может быть достигнуто снабжением аппарата сжатым воздухом. Но это “освобождение”, как я сказал, относительное. Полную неза¬висимость от базы водолаз не может получить уже потому, что в во¬де трудно ориентироваться (на глубине 8 м в самое светлое время можно видеть по горизонтальному направлению не далее 2-4 м). Так обстоит дело с существующими аппаратами. Но (...) изобрете¬ние нашей лабораторией нового компактного аккумулятора откры¬вает большие горизонты в самых многочисленных областях приме¬нения электрической энергии, в том числе и в водолазном деле. Представь себе маленькую коробочку — вроде спичечной. И вот в этой коробочке, которую ты легко можешь положить в жилетный карман (если ты уже обзавелся жилетом), содержится запас элект¬ричества, достаточный для того, чтобы в продолжение нескольких суток двигать автомобиль с предельной скоростью. В твоем жилет¬ном кармане спрятана “электростанция” в несколько сот лошади¬ных сил. Этой энергией ты можешь неделю освещаться, отапли¬ваться, можешь вращать ею мельничные жернова, приводить в дви-жение станки, тракторы. Я решил применить аккумулятор к водо¬лазному делу. Ты дал мне идею! Я создам совершенно новый вид во¬долазного аппарата” (С. 291-292).
А.Р. Беляев в своих произведениях чаще всего знакомит читате¬ля с техническими принципами, с научной основой фантастических изобретений не непосредственно, “от автора”, а, используя высказы¬вания или записи персонажей. Он старается “не вмешиваться” в ткань повествования, чтобы не разрушать создаваемую иллюзию реальности происходящего. Фантастическое “вплетается” в обыден¬ное, а информация, полученная из уст героев, как правило, весьма привлекательных, легче воспринимается и “усваивается” читателем. А.Р. Беляев рисует героев, которым читатель верит, и таким обра¬зом заставляет поверить и в осуществимость фантастического. Текст “от автора” и прежде всего описания служат как бы под¬тверждением сказанному героями, “иллюстрацией” их слов.
Ученый в романе “Подводные земледельцы” совершает изобре¬тения “по заказу”. Возникает потребность, перед ученым ставится задача, и он в кратчайшие сроки решает ее — вот, собственно, схема “исследовательского процесса”. В качестве “заказчика” в романе, как правило, выступает Ванюшка, в качестве “изобретателя” — Гузик. А.Р. Беляев показывает науку, которая находится “на служ¬бе” у советских людей, решающих важные производственные зада¬чи. Изобретения — не плод досужих размышлений далеких от прак¬тической жизни ученых. Ученые прилагают все силы, чтобы как можно скорее удовлетворить появившиеся потребности. Рассказ о развитии подводных плантаций, о строительстве подводного горо¬да — рассказ о том, как шаг за шагом ученый помогает “производст¬венникам” улучшить производство.
Сначала перед Гузиком ставится задача “механизировать” про¬цесс сортировки и обработки собранных водорослей. Затем, когда этот вопрос решен, на повестку дня выносится следующий. До сих пор водоросли добывались на мелководье “почти исключительно старым японским способом”: рабочие на лодках около берега под-цепляли их при помощи специальных шестов с крючьями. Ванюшка же мечтает перенести работу на дно, “пустить в ход подводные сель¬скохозяйственные машины: тракторы, косилки...” Но работать под водой — этого мало, необходимо построить подводный дом, чтобы можно было следить за плантациями, не выходя на берег.
Герои “не забывали и о земле” (С. 333). Там Гузик руководит ра¬ботами по постройке химического завода, необходимого, чтобы до¬бывать из водорослей йод, калийные соли, бром и мышьяк. Даль¬ше — больше. Освоив “плодородные” земли подводного царства, лю¬ди собираются засеять и “бесплодные равнины”. Для этого Гузик, “присяжный изобретатель подводного совхоза”, должен был приду¬мать машину для пробивания в гранитном дне небольших дыр, “ме¬ханический заступ”. Ванюшке кажется нерациональным, что, как и много лет назад, водоросли собираются вручную, он хочет, чтобы Гузик создал подводные косилки. И Гузик обещает ему спроектиро¬вать их, как только наладит производство на химическом заводе:
“Ванюшка хотел бы механизировать все, что только можно. Поймав Гузика, который возился в химической лаборатории над ус¬тановкой перегонного куба, Ванюшка начал упрашивать его, чтобы тот поторопился с косилкой.
— Будь другом, поспеши! И еще я просил тебя сделать заступ, ко¬торый мог бы в граните ямки делать. Динамитом, чем хочешь, толь¬ко чтобы скоро и хорошо. И еще... подожди, куда же ты? И еще на¬до придумать машину ветви рубить и вязать. Вручную мы далеко не уедем” (С. 335).
Естественно, Гузик вскоре изобретает подводный комбайн, но и на этом “поток” изобретений не иссякает: «Ванюшка был “болен темпами”. Медлительность мучила его, причиняла почти физичес¬кую боль. — Много времени на переходы теряем, — говорил он. — Ка¬кие же это темпы! Надо бы заказать Гузику изобрести подводный автомобиль, что ли» (С. 338).
Впрочем, дело упирается не только в отсутствие необходимого оборудования, но и в деньги. Появление в советской научной фанта¬стике мотива “финансирования” достаточно неожиданно. В отличие от “Золотой горы”, где конфликт развивался как противоборство идеологий, в “Подводных земледельцах” А.Р. Беляев показывает и то, с какими трудностями приходится сталкиваться ученым-энтузиа¬стам, отстаивая свою идею, какие препятствия возникают на их пу¬ти в СССР. Правда, А.Р. Беляев старается не заострять внимание на этом конфликте и “убирает” его в предысторию, изложение кото¬рой, впрочем, занимает довольно много места в романе. Писатель словно хочет убедить чиновников, что не стоит жалеть денег на ре¬ализацию самых неожиданных идей, ведь если их осуществить, то все вложенное окупится сторицей. Он отстаивает “экономическую целесообразность” новых исследований и показывает, что движу¬щей силой науки являются практические цели.
Фантастическое в “Подводных земледельцах” связано не толь¬ко с техническими достижениями. Автор ставит перед собой задачу описать деятельность “фантастического совхоза”. Самое присталь¬ное внимание А.Р. Беляев уделяет рассказу об организации “произ¬водства” морской капусты. Центральное место в романе занимает собственно рассказ о жизни подводных земледельцев. В водные глубины переносится “земная модель” — дома, города, дороги, транспорт, связь, пашни, добыча полезных ископаемых и т.д. При этом, скажем, “высшим проявлением электрификации в домаш¬нем быту” являются используемые для отопления электрические “пластинки”.
Важнейшую роль в фантастической прозе А.Р. Беляева играют описания. Именно они часто несут основную нагрузку создания соб¬ственно “научно-фантастического”. Вот, например, подробное опи¬сание подводного жилища в романе “Подводные земледельцы”:
«Под средним, самым большим, куполом находилось “общест¬венное здание” из четырех комнат. В одной помещалась общая сто¬ловая, в другой — кухня с кладовой, в третьей — библиотека-читаль¬ня и в четвертой — машинное отделение.
Вокруг этого большого центрального купола с маяком были расположены четыре меньших. Купол с выходною дверью, направ¬ленный к берегу, назывался западным. Он прикрывал собою избуш¬ку в две комнаты, в которой помещались Топорков и Волков. Затем следовали: северный купол — там жили стряпуха Пунь и ее муж Цзи Цзы; западный — в двух комнатах этой избушки помещались Коно- беев и Гузик; и, наконец, южный — в этом куполе было две комнаты: одна — лаборатория-мастерская Тузика, а другая — запасная — для ‘приезжающих”, где иногда ночевали приходившие с берега по де- ам к Волкову и Гузику» (С. 279-280).
А.Р. Беляев показывает, как наука меняет “масштаб” кон- ликта человека и природы. Раньше человек выходил “один на дин” против зверя или рыбы и одерживал победу прежде всего за чет своей силы и ловкости. Теперь же, благодаря новейшим изоб- етениям, благодаря достижениям ума человеческого, несколько мельчаков отваживаются вступать в борьбу с самим “океаном” — выходят победителями. Конфликт используется А.Р. Беляевым ля того, чтобы “раскрыть характеры” каждой из противоборству- щих сторон. В случаях, когда речь идет о столкновении человека “природы”, А.Р. Беляев “раскрывает характер” природного явле- яя, подробно описывая его свойства. Таким образом, просвети- ельская или популяризаторская задача решается при помощи ка- ого-либо частного конфликта: в романе “Подводные земледель- ы” А.Р. Беляев заставляет своего героя попасть в смерч, и это озволяет писателю подробно рассказать о необычном явлении рироды. Столкновение человека с природными силами чаще все- о заканчивается победой человека. Но писатель подчеркивает, то преодолеть сопротивление природы по силу лишь немногим. 1екоторые герои погибают, например, Грачев в повести “Золотая ора”. Тех же, кому удается выжить, сам автор зачастую показыва¬ет как людей “особенных”. “Если бы не разорвался смерч, подняло бы меня выше туч, грохнулся бы я оттуда — и капут. Выходит, что на смерче я покатался, на самом тайфуне. Не шутите со мной, те¬перь я человек особенный”, — говорит Ванюшка (С. 313). Для того, чтобы подчеркнуть силу советского человека, А.Р. Беляев тут же противопоставляет его и акулам, и животным, и — правда, лишь на¬меком, — англичанам: «Рядом с Ванюшкой рыбаки нашли мертвую акулу, жительницу южных морей, с распоротым на скалах брюхом. Тут же валялось содержимое ее желудка: задняя часть свиньи, пе¬редняя часть барана, голова породистого бульдога, корабельный скребок, карман клетчатого пальто с газетой “Таймс”, целая кла¬довая трески, две эмалированные кружки и молодая акула» (С. 313).
В романе “Подводные земледельцы” А.Р. Беляев остается ве¬рен излюбленной манере построения произведения, сохраняя два основных конфликта — любовный и социальный, которые служат своего рода дополнением к главной теме — покорению человеком природы. Как и в “Золотой горе”, противостояние общественных моделей в “Подводных земледельцах” проецируется прежде всего на “межгосударственное” соревнование СССР и США. “Думаю, что через год — два мы обгоним американцев. Могу поручиться за то, что будем получать несколько миллионов долларов дохода в год. Но об этом мы еще успеем помечтать”, — говорит Волков Ва¬нюшке (С. 337). Но непосредственное столкновение происходит не с американцами, а с японцами. Советские люди вступают в ожесто¬ченную борьбу с японскими капиталистами, готовыми на все, лишь бы сохранить свои доходы, получаемые за счет хищнической экс¬плуатации простых японцев, океанских глубин и т.д., и, разумеется, одерживают верх. Вражескую сторону в социальном конфликте представляет господин ТаямаРиокици. Портрет его рисует Ва¬нюшка: “Важный, пузатый, как следует купчишке”. Ванюшка дает достойный отпор пытающемуся задобрить его Таяме: “Так вот что, гражданин Таяма, — сказал Ванюшка. — О вашей тесноте мы сами очень даже хорошо знаем. Но только мы знаем еще, что и в Японии не всем тесно живется. Есть там худые, а есть даже и очень толстые. Вы о себе заботитесь, а не о бедноте. А вот когда япон¬ский пролетариат свернет вам шею, тогда мы с ним поговорим осо¬бо, у нас с ним будет отдельный разговор. С ними, с бедняками, мы всегда сговоримся и, может быть, эти земли им отдадим, потому что наш Союз — родина всех пролетариев. А пока вы в Японии хо¬зяева, мы вас не допустим у наших берегов хозяйничать” (С. 345-346).
Герои не должны забывать, что они живут во вражеском окру¬жении. Сначала японцы просто пытаются добывать морскую ка¬пусту на советской территории, затем, убедившись, что в СССР разработан новый, прогрессивный способ промышленного произ¬водства капусты, пытаются узнать его технологию. Когда же им не удается завладеть секретами советских ученых, они начинают заниматься вредительством. В романе важную роль играет мотив опасности, позволяющий поддерживать напряжение, и связан он как с природными катаклизмами, так и с злым умыслом врагов со¬ветского государства. Герои всегда находятся начеку, ожидают на¬падения и готовы встретиться с врагом. И в “Золотой горе”, и в “Подводных земледельцах” развивается тема шпионажа. В “Золо¬той горе” в лабораторию под видом “бродяги” проникал амери¬канский журналист Клейтон, в “Подводных земледельцах” на сто¬рону врага переходит кореец Цзи Цзы. Его не устраивают те пе¬ремены в отношениях в семье, которые связаны с установлением советской власти. С точки зрения Цзи Цзы, жена должна рабо¬тать, кормить его и вообще всячески ему угождать, когда же Пунь, работающая у подводных земледельцев, отказывается вы¬полнять прихоти мужа, тот приходит в ярость: “Цзи Цзы так оз¬лился, что его желтоватое лицо стало лиловым. Жена, рабыня, смеет ему указывать! Нет, решительно ее надо скорее убрать от¬сюда. Иначе она забудет все корейские обычаи и станет настоя¬щей большевичкой...”
Столкновение с японцами носит не “национальный”, а исключи¬тельно “классовый” характер. На помощь Ванюшке, попавшему в плен, приходят японские рабочие. Слово “товарищ” становится своеобразным паролем:
“- Комрэйд! — тихо прошептал шофер. Ванюшка не понял его. Японец постоял, задумавшись, потом, пошарив, нашел на полу кусо¬чек мелу, нарисовал на стене серп и молот и, указав Ванюшке на эту эмблему, ткнул пальцем себе в грудь.
— Товарищ! — тихо прошептал Ванюшка, и японец так же тихо ответил:
— Товарищ!
Теперь для Ванюшки все было ясно. Здесь, в чужой стране, у не¬го есть друзья, как и во всем мире. Эти друзья спасут его” (С. 380-381).
Японские империалисты не просто истребляют плантации мор¬ской капусты, они стремятся уничтожить подводное поселение, ис¬пользуя для этого новейшие технические разработки. Задачей под¬водных земледельцев является не только уберечь свои секреты, но и завладеть секретами врага. Друзьям удается захватить японскую подводную лодку и, что особенно важно, сами японцы, простые ма¬тросы и рабочие помогают советским товарищам победить общего классового врага.
Любовный конфликт в романе связан с появлением профессора- химика Бориса Григорьевича Масютина и аспирантки Елены Пет¬ровны Пулковой. Знакомство с Аленкой сначала пробуждает в Ванюшке чувство любви, а затем и чувство ревности. Впрочем, лю¬бовный конфликт тоже разрешается благополучно. В самом конце романа, буквально в последних строчках Ванюшка сообщает друзь¬ям о предстоящей свадьбе:
В такой торфественный день о такой мелочи не стоило бы и говорить. Дело маленькое, личное, так сказать. Ну, уф, если вы хо¬тите, скафу...
Ванюшка ткнул себя указательным пальцем в грудь, потом по¬казал тем же пальцем на сидящую против него Пулкову и сказал кратко:
-Фенюсь”(С. 398).
В тридцатые годы А.Р. Беляев, несмотря на серьезные пробле¬мы со здоровьем, продолжает работать над новыми научно-фанта¬стическими произведениями. В 1931 г. журнал “Вокруг света” печа¬тает повесть “Земля горит” , в 1934 г. в издательстве “Молодая гвардия” выходит роман “Прыжок в ничто” (в 1935 г. переиздан предисловием К.Э. Циолковского), тогда же начинается публика¬ция романа “Воздушный корабль” (завершена в 1935 г. ). На про тяжении 1936 г. “Вокруг света” знакомит читателей с новым науч но-фантастическим романом А.Р. Беляева — “Звезда КЭЦ” (от¬дельное издание — в 1940 г.) . В 1937 г. появляется переработанны “ вариант “Головы профессора Доуэля”, а в конце года Ленинград ская газета “Ленинские искры” печатает первые главы романа “Не бесный гость” , публикация которого завершилась в июле 1938 г. В 1938 г. “Вокруг света” представляет роман “Лаборатория Дубль- вэ” , в 1938-1939 гг. журнал “В бой за технику” печатает рома “Под небом Арктики” , в 1939 г. журнал “Молодой колхозник” повесть “Замок ведьм” , Наконец, в 1940 г. издается роман “Чело век, нашедший свое лицо” .
Роман А.Р. Беляева “Прыжок в ничто” выходит с посвящением: “Константину Эдуардовичу Циолковскому в знак глубокого уважения. Автор”. В предисловии ко второму изданию романа, вышедшему в год смерти ученого, К.Э. Циолковский писал: “Из всех известных мне рассказов, оригинальных и переводных, на тему о межпла¬нетных сообщениях роман А.Р. Беляева мне кажется наиболее содер¬жательным и научным. Конечно, возможно лучшее, но однако пок его нет. Поэтому я сердечно и искренно приветствую появление вто¬рого издания, которое, несомненно, будет способствовать распрост ранению в массах интереса к заатмосферным полетам. Вероятно, и ожидает великое будущее” . А.Ф. Критиков отмечал ту роль, кото¬рую сыграл К.Э. Циолковский в деле становления русской научно¬фантастической прозы: “В творчестве Циолковского новая отрасл русской литературы обеими ногами стала на строго научную почву. Тяготение русской фантастики с первых шагов к положительном знанию было сродни исследовательской устремленности русского классического реализма. Впоследствии это поможет ей сравнитель- о легко преодолевать авантюрно-детективные поветрия” . По нению исследователя, под влиянием К.Э. Циолковского или при го непосредственном участии были написаны романы и повести о ежпланетных полетах: “Путешествие на Луну” (1926) С. Граве, ‘Планета КИМ” (1930) А.Р. Палея, “Прыжок в ничто” (1933) .Р. Беляева, рассказ С.Т. Григорьева “За метеором” (1932). Чтобы оказать, “насколько всеобъемлющим было воздействие Циолков- кого на советскую научную фантастику”, А.Ф. Бритиков приводит рагменты письма Циолковскому из издательства “Молодая гвар- ия”: «Константин Эдуардович. Издательство “Молодая гвардия” риступает к созданию фантастического романа, построенного на ринципе сотрудничества ряда специалистов с авторами. В качестве ервого опыта Издательство предполагает выпустить агро-фантас- ический роман... К Вам Издательство обращается с просьбой не от- азать в консультации по вопросам техники междупланетных и зем- ых сообщений, использования различных видов энергии и богатств селенной» .
К фантастической прозе сам К.Э. Циолковский обратился еще девятнадцатом веке, попытавшись “беллетризировать” свои на- чные идеи. В 1895 г. московское издательство А.Н. Гончарова -ыпустило его книгу “Грезы о земле и небе и эффекты всемирно- о тяготения”. Сокращенный вариант книги был выпущен в СССР в 1934 г. с предисловием и под редакцией профессора Н. Моисее¬ва под названием “Тяжесть исчезла” . В 1918 г. журнал “Природа и люди” печатал повесть К.Э. Циолковского “Вне земли” . Жур¬нальная публикация осталась незаконченной, но в 1920 г. ученому удалось выпустить повесть полностью отдельным изданием в Ка¬луге . В советское время К.Э. Циолковский вновь собирался на¬писать фантастический роман, рассчитывая таким образом пре¬одолеть возникшие на пути издания его научных трудов издатель¬ские препоны. «Очень трудно издавать чисто научные работы, — писал он Я. Перельману. — Поэтому я подумываю написать нечто вроде “Вне Земли”, только более занимательное, без трудных мест, в разговорной форме. Под видом фантастики можно сказать много правды”. “Фантазию же, — повторял он, — пропустят гораз¬до легче» .
Преклонение перед гением К.Э. Циолковского отразилось в творчестве А.Р. Беляева не только в романе “Прыжок в ничто”. В советской литературе в 1930-х годах в “роман будущего” транс¬формируется утопический роман. Торжество в грядущем социаль¬ной и человеческой гармонии теперь рассматривается не как утопи¬ческая картина, а как закономерный итог исторического процесса. Одним из первых опытов такого рода является роман А.Р. Беляева “Звезда КЭЦ” (1936), в котором показывается мир, где осуществи¬лись все прогнозы великого ученого.
В романе “Звезда КЭЦ” любовный конфликт разворачивается на фоне фантастических картин будущего, воплощенного торжест¬ва человеческого разума и высшей нравственности. В книге А.Р. Бе¬ляева нет отрицательных типов, нет антагонистических противоре¬чий, намеченный любовный треугольник оказывается мнимым, и счастливая развязка знаменует собой уверенность в счастливом бу¬дущем. Как и роман Е.И. Замятина “Мы”, роман А.Р. Беляева напи¬сан в форме записок главного героя, и может рассматриваться в ка¬честве ответа Е.И. Замятину. Торжество коммунистической психи¬ки и общественных интересов сочетается здесь с сохранением собст¬венно человеческого, личного — любви, семьи, творчества, даже та¬ких эмоций и чувств, как ревность, сомнение, неуверенность и т.д.
Посвященный памяти Константина Эдуардовича Циолковского роман А.Р. Беляева есть художественное воплощение мечты вели¬кого русского ученого, а авантюрная схема, использованная в нача¬ле произведения (отраженная даже в названиях глав: “Встреча с чер¬нобородым”, “Демон неукротимости”, “Я становлюсь сыщиком”, “Неудавшаяся погоня”, “Кандидат в небожители” и т.д.), сочетается с подробным описанием устройства и работы “звезды КЭЦ” — “пер¬вой небесной базы”, названной в честь К.Э. Циолковского. Приме¬чательно, что роман А.В. Беляева, как и книги В.А. Обручева, в це¬лом подчеркнуто аполитичен. В будущем автор видит торжество на¬уки, а не политической программы, небесная база названа по имени ученого, а не государственного деятеля. То, что будущее стало воз¬можным лишь благодаря мировому социализму подразумевается, но — именно подразумевается, общественный конфликт исключен не только из “будущего”, но и из “настоящего”, так как главный ге¬рой, рассказывающий о своей жизни, — человек будущего, и кон¬фликты конца 1930-х годов ему неведомы.
Произведения А.Р. Беляева о будущем, естественно, прежде все- о строились на противопоставлении описанной в романах идеаль- ой модели, построенной в будущем, и того, с чем сталкивались лю¬и в прошлом, а подчас и в настоящем. Но А.Р. Беляев не писал соб- твенно утопий, основанных на “материализации” идеала. Его рома- ы — сюжетные произведения, а, значит, в основе их лежит кон¬фликт — конфликт, зарождающийся, развивающийся и решаемый в будущем. Задачей писателя является предугадать, «в каких сюжет¬но-конкретных формах будут проявляться “борьба противополож¬ностей”, “отрицание отрицания” при коммунизме» , — утверждал А.Р. Беляев в опубликованной в 1934 г. статье “Создадим советскую научную фантастику”.
А.Р. Беляев одним из первых столкнулся с ситуацией, когда надо было не просто дать научно-технический прогноз, но и предполо¬жить, какие проблемы будут волновать людей будущего. Ведь буду¬щее, описанное в его романах, — коммунистическое будущее. Соци¬альные проблемы, нравственные проблемы, которые рассматрива¬лись во многом как порождение несовершенного общественного строя не могли служить основой столкновения персонажей. Сам писатель признавался, что в романе “Лаборатория Дубльвэ” ему при¬шлось уделять больше внимания описанию городов будущего, неже¬ли характеристикам людей, поскольку для построения психологиче¬ских конфликтов было “недостаточно материала” . Но, тем не ме¬нее, и в повествовании о коммунистическом обществе А.Р. Беляев находит возможность поставить проблемы, равно актуальные и для людей будущего, и для людей настоящего. Решение их в будущем служит примером читателям в настоящем, — вот модель, которой сле¬дуют А.Р. Беляев и его последователи. Ради дела иногда приходится на время расстаться с другом, с домом, с любимым человеком — раз¬лука одинаково остро переживается во все времена. Но долг перед людьми, перед обществом, перед человечеством — превыше всего.
А.Р. Беляев выработал основные принципы создания советско¬го научно-фантастического романа, сочетающего фантастический вымысел и научное предвидение с художественными установками социалистического реализма. “Трудно назвать произведение, где Бе¬ляев упустил бы случай подчеркнуть силу материалистического ми¬ровоззрения и превосходство социалистической системы. Он делал это убежденно и ненавязчиво” , — замечает А.Ф. Бритиков. Но в фантастических произведениях А.Р. Беляева нравственная проблематика играет не меньшую, а подчас и большую роль, чем проблематика социальная. “Цель научной фантастики — служить гуманизму в большом, всеобъемлющем смысле этого слова”, — утвержда сам А.Р. Беляев — и его слова охотно цитируются исследователям беляевского творчества .
Сочетание нравственной и социальной проблематики с попытками научного предвидения можно назвать отличительной особенностью творческой манеры А.Р. Беляева. Он сумел в научно-фанта этических произведениях соединить откровенную тенденциозность постановкой и решением “общечеловеческих” проблем, избега свойственной многим произведениям по разные стороны грани практики “двойных стандартов”. Было бы преувеличением утверж дать, что А.Р. Беляеву удалось полностью отказаться от “двойно" бухгалтерии”, но, во всяком случае, его произведения показывают что у писателя были совершенно иные ориентиры.
Восставая против тех, кто игнорировал в фантастике элемен научного предвидения, А.Р. Беляев в то же время изо всех сил боролся с попытками вытеснить фантастическую прозу из сферы художественного в область научно-популярной литературы. Подробное изложение научных теорий, детальное описание изобретений собственно “научный” элемент теряли, с его точки зрения, свою значимость, если в произведении не ставились никакие иные проблемы кроме научных. И здесь писателю приходилось подчас с трудом пре одолевать сопротивление работников издательств. «В моем роман “Прыжок в ничто”, в первоначальной редакции, характеристике ге роев и реалистическому элементу в фантастике было отведено до вольно много места, — писал А.Р. Беляев в рецензии на книгу Влади мира Владко “Аргонавты вселенной”. — Но как только в романе по являлась живая сцена, выходящая как будто за пределы “служеб ной” роли героев — объяснять науку и технику, на полях рукопис уже красовалась надпись редактора: “К чему это? Лучше бы описат атомный двигатель” . Персонажи “должны были неукоснительн исполнять свои прямые служебные обязанности руководителей лекторов в мире науки и техники. Всякая личная черта, всякий личный поступок казался ненужным и даже вредным, какотвлекающи" от основной задачи» .
В 1928 г. в предисловии ко второму изданию романа А.Р. Беляева “Человек-амфибия” В.В. Потемкин писал, что научно-фантастические произведения необходимо рассматривать с двух точек зре¬ния: научно-популярной и литературно-художественной, что они лишь тогда представляют культурную ценность, когда “фантастика не превращается в бесплодное фантазерство и когда их литератур¬но-художественное качество сохраняется на определенном уровне, не спадая до пошлой бульварщины” . Автор предисловия отмечал не только научную основательность, но и художественный уровень книги, которая “выгодно отличается тем, что приключенческий эле¬мент ее выдержан на социальной основе и совершенно не сбивается поэтому на пошлую бульварщину, столь распространенную в запад¬ноевропейском авантюрном романе” .
О сочетании научного и художественного говорил и автор очер¬ка “Наука и фантастика”, опубликованного в сборнике А.Р. Беляе¬ва “Борьба в эфире”. Он подчеркивал, что всякое научно-фантасти¬ческое произведение держится на “двух крыльях — научности и фан¬тастике”. Фантастическое понимается им как эквивалент художест¬венного, — и ни одной из двух составляющих не отдается приоритет: задача писателя видится в том, чтобы “дать равновесие этим крыль¬ям” . В научно-фантастическом произведении писатель опирается на научные данные, “как бы строит “перспективные планы” на бо¬лее или менее отдаленное будущее технического и социального про¬гресса”, но построение литературных художественных произведе¬ний “имеет свои законы, свои требования, ради которых иногда не¬обходимо поступаться научной точностью” . Правда, в открываю¬щем книгу обращении “От редакции” о художественных достоинст¬вах произведений А.Р. Беляева ничего не говорилось, более того — утверждалось, что “автор не ставит себе специальных художествен¬ных задач”, а “берет одно за другим современные достижения теоре¬тической и практической науки и, “продолжая” их в будущее, вскры¬вает некоторые из содержащихся в них возможностей” . Издатель¬ство стремилось обратить внимание читателей главным образом на научную составляющую. “Предлагаемый сборник рассказов А. Бе¬ляева затрагивает в живой и занимательной форме ряд проблем, позволяющих читателю, с одной стороны, свести воедино известные ему, но разбросанные, случайно и бессистемно воспринятые факты современной научной действительности, с другой — уловить в каж¬дом из этих фактов ту “проекцию в будущее”, которая определяет их общественную ценность, — пояснялось в редакционном предисло¬вии. — Если книга хоть сколько-нибудь захватила читателя, после прочтения ее остается всегда маленькое чувство неудовлетворенно¬сти тем, что интересная книга окончилась, инстинктивное желание найти “еще что-нибудь”, что так или иначе продолжало бы нарисо¬ванные книгой образы. Этот психологический момент является чрезвычайно удобным трамплином, помогающим заряженной ак¬тивностью мысли читателя перескочить из мира художественных образов в мир окружающей реальной действительности. (...) Исходя из этого, мы даем в этой книге (то же будет сделано и в других кни¬гах данной серии) заключительный научно-популярный очерк, сжа¬то расшифровывающий научно-теоретическую и исследовательско- практическую основу содержащегося в книге материала, помогаю¬щий установить правильное отношение к содержанию и задачам книги, перекинуть мостик от книги к жизни” .
В предисловиях и послесловиях к научно-фантастическим произ¬ведениям, написанным зачастую серьезными учеными, фантастичес¬кое в книгах сравнивалось с современными научными воззрениями, давался подробный разбор использованных в тексте гипотез. «Все герои этого романа (в особенности, “американцы”) — большеголо-вые, безволосые, слабосильные люди, почти с одинаковым у мужчин и женщин сложением тела, — писал автор заключительного очерка о романе “Борьба в эфире”. — Такое описание людей будущего вполне согласуется с научными данными» . В предисловии ко второму изда¬нию романа “Человек-амфибия” В.В. Потемкин отмечал, что “осно¬вание” фантастики А.Р. Беляева носит научный характер: предметом ее является “пересадка органов и тканей тела и искусственное усиле¬ние их приспособляемости в профессионально-бытовом направле¬нии”. «Более того, это основание с каждым днем расширяется, и фан¬тастика мало-помалу превращается в действительность, — подчерки-вал В.В. Потемкин. — Фантастика А. Беляева целиком вырастает на почве научных проблем и завоеваний в области изучения пережива¬ния тканей и органов вне организма и их пересадки от одного живот¬ного к другому. Как в естествознании, так и в медицине опыты пере¬садки тканей и органов, так называемая трансплантация, а также “оживление” их за последние два десятилетия получили мощный тол¬чок к развитию изумительными и блестящими исследованиями Кар¬реля, Кракова, Штейнаха, Воронова, Пршибама, их сотрудников и учеников. Исследования упомянутых ученых возбудили всеобщий интерес как своими успешными результатами, так и жизненной ост¬ротой данной научной темы и, конечно, должны были найти свое от¬ражение в беллетристике того рода, к которому относится настоя¬щий роман» . О том, что ученые производили многочисленные и удачные опыты “рассечения и сшивания различных частей живот-ных”, создавая новые, не встречающиеся в природе виды, подробно рассказывалась в послесловии: «В описании “сада чудес” фантастика проявилась скорее в количестве, чем в качестве изображаемых “мон¬стров”. Элемент чистой фантастики, — считая фантастикой то, чего еще нет в настоящий момент, — введен автором лишь в отношении центральной фигуры романа — “человека-амфибии” Ихтиандра. Но и здесь фантастика не лишена известной научной основы или, по край¬ней мере, переплетена с этой основой” .
В 1930-е годы стремление акцентировать внимание на знании, положенном в основу творчества, делается еще более заметным. Популяризаторские задачи объявляются в научной фантастике при¬оритетными. Сюжет, характеры, система персонажей, даже пробле¬матика отставляются в сторону как нечто ненаучное и малосущест¬венное. В предисловии ко второму изданию романа В.А. Обручева “Плутония”, вышедшему в 1931 г., подчеркивается, что “задача” книги — “рассказать читателю о животном и растительном мире до¬исторических времен”, обратить «сухую науку, которая имеет дело только с разрозненными костями и странными отпечатками на кам¬нях и носит трудное имя “палеонтология”, в увлекательный роман». Издательство обращает особое внимание на то, что в современной науке гипотеза о существовании открытой полости внутри земного шара, на которую опирается герой романа Труханов, не принята, и предлагает тем читателям, кто не интересуется прежними взглядами на строение внутренности земли, “страницы, посвященные оправда¬нию этой гипотезы, занимающие, надо отметить, только одну главу книги, (...) пропустить” .
Роман А.Р. Беляева “Прыжок в ничто” является, по мнению профессора Н.А. Рынина, автора научно-популярных книг о поко¬рении стратосферы и межпланетных сообщениях, “как бы заверше¬нием работы романистов на тему космических полетов” . В после¬словии к роману “Прыжок в ничто” ученый отмечает, что трудно найти проблему, более поражающую “своей широтой, глубиной, ин¬тересом и грандиозностью”, чем вопрос о межпланетных сообщени¬ях, и трудно найти науку, которая “не нашла бы себе применение при изучении этого вопроса” . Н.А. Рынин предлагает вниманию читателей краткий очерк истории развития в науке идеи завоевания человеком космоса и связанной с нею идеи межпланетного ракетно¬го корабля, рассказывает об открытиях и изобретениях Рэнлея, Ру¬та, Поллара и Дюдебу, И.В. Мещерского, К.Э. Циолковского, Эсно- Пельтри, Годдарда, Оберта, Вальера, Ф.А. Цандера и других уче¬ных, комментирует показанные в романе технические достижения будущего: новое оригинальное приспособление, тормозящее пробег стратоплана при спуске на Землю; ракетный двигатель, энергию для которого даст атом; “гидроамортизаторы” и специальные “эфиро- лазные” костюмы; космическую оранжерею и т.п. “Автор, тщатель-но изучив все доступные ему сочинения по теории этого вопроса и обладая широким кругозором в различных вопросах науки и техни¬ки, предлагает читателю в популярном и занимательном изложении идею возможного полета человека в межпланетном пространстве при помощи ракетного двигателя. Он главным образом основывает¬ся на исследованиях К.Э. Циолковского, но, кроме того, использует и новейшие данные, приводимые и другими учеными, например, те¬орию относительности, условия равновесия в мировом пространстве и т.п., — заключает Н. А. Рынин. — В своем романе автор на фоне за¬нимательных приключений и переживаний дает много интересных и верных сведений о технике реактивных двигателей (их работе, воз¬можности применения их в будущих межпланетных сообщениях) и сообщает попутно данные и по другим наукам — астрономии, физи¬ке, механике, медицине и т.п., развивая у читателя научный круго¬зор и заставляя работать его фантазию и делать вместе с автором научно-технический прогноз открывающихся будущих возможнос¬тей в науке, технике и их применения” .
Речь уже не идет о том, что научно-фантастическое произведение должно доставлять эстетическое удовольствие: научность в ущерб ху¬дожественности допускается, художественность в ущерб научности — нет. Для произведения по преимуществу популяризаторского несоот¬ветствие современным взглядам на затронутые научные проблемы является “смертным” приговором. Авторы научно-фантастических произведений становятся заложниками не только собственно науки, но и идеологической политики в области науки. Любая гипотеза мог¬ла быть названа антинаучной, целые направления исследований объ¬являлись лже-наукой. В 1938 г. в послесловии к новому изданию ро¬мана “Человек-амфибия” профессор А. Немилов не вспоминает о су-
ществовании трансплантации, не стремится, как делалось десятью го¬дами раньше, разъяснить читателям, что такое автопластика, гомо¬пластика, гетеропластика. “Читая эту книгу, следует помнить еще о том, что люди, добывающие естественные богатства, скрытые в не¬драх земли и глубинах моря, завоевывая природу, не стремятся прира¬щивать себе ни крыльев птицы, ни жабер рыбы. Люди строят самоле¬ты и на них поднимаются высоко в воздух. А чтобы спускаться и изу¬чать глубины моря, люди сооружают особые аппараты — подводные лодки, батисферы — и в них спускаются на большие глубины, — указы¬вает А. Немилов. — Не стремление превратить людей в земноводных существ, а усовершенствование техники глубоководных исследований поможет нам овладеть богатствами моря” .
В конце 1920-х годов и в 1930-е годы фантастические произведе¬ния в СССР все чаще причисляются к “литературе для юношества”. В марте 1929 г. в журнале “Молодая гвардия” “в порядке постанов¬ки вопроса” была опубликована статья Я. Рыкачева “Наши Майн- Риды и Жюль Верны”, в которой утверждалось, что в СССР “нет ли¬тературы для юношества”. “Вся прежняя “литература для юношест¬ва” — все эти Куперы, Майн-Риды, Жюль Верны, Эмары, Марриэ- ты — за самым малым исключением — вышла в тираж, — утверждал автор. — И не в том только смысле, что несовременен трактуемый ею материал — это бы еще полбеды, — а в том, что ее мораль, ее вос¬приятие мира, ее мышление насквозь буржуазны, созданы на потре¬бу буржуазного юношества и рассчитаны на совершенно определен¬ный социально-педагогический эффект” . То, что новые издания классиков и эпигонов “буржуазной” литературной традиции появля¬ются на советском книжном рынке, Я. Рыкачев считает большим злом, но еще большим злом видится ему то, что советская литерату¬ра вместо того, чтобы предложить принципиально иную литературу для юношества, в целом “недалеко ушла от этих буржуазных шаб¬лонов, установленных более столетия назад и глубоко чуждых на¬шей современности, всему духу советской культуры и педагогики”.
Значительную часть статьи Я. Рыкачева занимает критика со¬ветской фантастической литературы, которую он упрекает в слепой подражательности и несоответствии социальному заказу: «В такой же степени привержена традиции, притом дурно понятой, и другая, “научно-фантастическая”, ветвь советской литературы для юноше¬ства, рассчитанная на более зрелую аудиторию. Здесь мы имеем на¬лицо эпигонство самого дурного стиля; не спасает даже изрядная до¬ля “социальных” элементов. Далеко не всегда занимательная, эта псевдонаучная фантастика лишена основного свойства, от века при¬сущего этому виду литературы: пробуждать в молодом читателе ин¬терес к научному знанию. Более того, она уводит от подлинного зна¬ния, толкает мысль в сторону беспочвенной и невежественной вы¬думки. Фантазия Жюля Верна или Уэллса, отталкиваясь от реаль¬ной научной почвы, не теряет с нею связи и на самых высоких своих взлетах и сохраняет в сущности все признаки смелой научно-техни¬ческой гипотезы. Не то у наших фантастов. Они имеют слишком мало знаний и слишком мало таланта, чтобы не отрываться посто¬янно не только от науки, но и от простого правдоподобия. Это дела¬ет их произведения неубедительными и художественно мертвыми. Таковы романы Беляева (“Борьба в эфире”, “Радио-мозг“ и др.), Ле¬бедева (“В погоне за солнцем”), Волженина и Ломакина (“Сквозь че¬реп”) и им подобных». Критикует Я. Рыкачев и представителей дру¬гих направлений в фантастике — В.И. Язвицкого и А.В. Шишко: «Фантастика Язвицкого (“Остров Тасмир”, “Гора лунного духа”) но¬сит характер так сказать, историко-археологический и идет не от Жюля Верна и Уэллса, а от Эберса и его эпигонов. Это писатель беспросветно пошлый, сентиментальный и художественно беспо¬мощный. Шишко (“Аппетит микробов”, “Конец здравого смысла”), пишущий не специально для юношества, а рассчитывающий на бо-лее широкую аудиторию, избрал особый жанр: социально-сатириче¬скую фантастику. Писатель, не лишенный таланта, но весьма по¬верхностный, почти фельетонный, Шишко в своих экскурсах в буду¬щее столь же безнадежно отрывается от социальной действительно¬сти, как его коллеги от действительности научной. Его повествование не подчинено никаким законам, кроме капризного авторског произвола, а неоригинальность приемов, целиком заимствованны из буржуазной социально-фантастической литературы, отнюдь н искупается сомнительными “революционными” добродетелями Жало его сатиры не ядовито. Советский газетный фельетон рани больнее, ибо отталкивается от злободневного материала. Для социальной сатиры большого стиля у автора нет никаких данных. Социальная сатира должна быть школой ненависти, Шишко снизил это жанр до простого остроумия» .
Тенденция относить фантастическую прозу к числу произведений для юношества наметилась в советской критике уже в начал 1920-х годов. В 1924 году Николай Асеев рассматривал рома Я.М. Окунева “Грядущий мир” как адресованный молодому поколе ник>: «Роман Я. Окунева является чуть ли не единственным произведением для юношества, ведущим его мысль не назад — к пассивном восприятию бывших культур, а в будущее — к критической оценке и проверке положений, даваемых автором. В этом — особая сила и дей¬ственность “Грядущего мира”. Хорошо также, что в романе нет пес-симистической объективизации Уэллса. “Грядущий мир” должно рекомендовать как увлекательное и полезное произведение всем молодым читателям» .
В 1930-е годы именно издания для детей и молодежи главным образом сотрудничают с авторами фантастических произведений. “Роман в 2 сериях” М.К. Розенфельда “Морская тайна” в 1936 г. пуб¬ликует “Комсомольская правда” . В 1937 г. “Арктания (Летающая станция)” Г.Н. Гребнева печаталась в журнале “Пионер” , а научно¬фантастическая повесть Я.Л. Ларри “Необыкновенные приключе¬ния Карика и Вали” в журнале “Костер” . К концу 1930-х годов этот процесс подходит к логическому завершению: достаточно сказать, что такие известные научно-фантастические романы как “Тайна двух океанов” Г.Б. Адамова и “Пылающий остров” А.П. Казанцева (в сокращении) впервые были опубликованы на страницах газеты “Пионерская правда” . Все названные произведения (как и некото¬рые другие) затем выходят в “Детгизе” (“Детиздате”): “Морская тайна” М.К. Розенфельда и “Необыкновенные приключения Кари¬ка и Вали” Я.Л. Ларри — в 1937 г., “Победители недр” и “Тайна двух океанов” Г.Б. Адамова — в 1937 и 1939 гг. соответственно, “Аркта¬ния (Летающая станция)” Г.Н. Гребнева — в 1938 г., “Пылающий ос¬тров” А.П. Казанцева — в 1941 г. В издательстве разрабатывается специальная серия — “Библиотека приключений”, которая потом бу¬дет трансформирована в хорошо известную “Библиотеку приклю¬чений и научной фантастики”. На страницах журнала “Детская ли¬тература” разворачивается в основном и дискуссия о месте фантас¬тической прозы в советской литературе.
Надо отметить, что и в качестве чтения для детей и юношества фантастическая проза вызывала раздражение многих критиков, по¬лагавших, что таким образом новое поколение отдаляется от про¬блем современности, от настоящей жизни. В 1930 г. в журнале “Ре¬волюция и культура” была опубликована статья “Фантастическая литература”. Автор, скрывшийся за псевдонимом И. Злобный, ут¬верждал, что чтение книг Ж. Верна приносило вред, поскольку они “размагничивали молодежь, уводили из текущей действительности в новые, непохожие на окружающие, миры” . К радости любителей фантастики в постановлении ЦК ВКП(б) о детской литературе от 15 сентября 1933 г. прозвучала рекомендация издавать сочинения Жюль Верна. Вопрос был закрыт.
Помимо собственно “молодежных” изданий фантастику в 1930-е годы продолжают печатать научно-популярные журналы, (правда, и они ориентируются в основном на молодежь) — “Вокруг света”, “Всемирный следопыт”, “Знание — сила”, “Техника — молоде-жи”, “В бой за технику”. В “толстых” журналах из произведений, ко¬торые можно отнести к фантастическим, в 1930-е годы были опуб¬ликованы лишь роман С.А. Колдунова “Ремесло героя” и повесть Н.Н. Шпанова “Первый удар’Интересно, что книжные варианты романа С.А. Колдунова и повести Н.Н. Шпанова вышли потом так¬же во вполне “серьезных” издательствах — первый в 1938 г. в Госли¬тиздате, а второй — в 1939 г. в “Советском писателе” и издательстве Наркомата обороны.
Итоги развития советского научно-фантастического романа подводил в 1938 г. в статье “Советский приключенческий и научно¬фантастический роман” Л. Жуков. “Хороший приключенческий и научно-фантастический роман является желанным гостем для со-ветских читателей всех возрастов, — заявлял Л. Жуков. — Мы имее: уже несколько очень неплохих произведений этого рода, позволяю щих сделать важные выводы о том новом, что есть в советском ро мане и чего не было у Жюль Верна или Майн Рида. Этим новым является высокая идейность, прекрасно сочетающаяся с увлекательным сюжетом. По-новому оценивают героизм, задачи смельчаков изобретателей и в особенности связь их с народом” . В качеств примера критик приводил произведения Г.Б. Адамова, А.Н. Тол стого, А.Р. Беляева, В.А. Обручева. Главное достоинство роман Г.Б. Адамова “Победители недр” (1937) Л. Жуков видел в том, чт писатель “очень удачно раскрывает характер советского героизма”, “беря фантастический сюжет, во всем остальном остается верен нашей действительности” . Гениальным изобретателем “н Западе” критик противопоставляет главного героя романа изобретателя Мареева, придумавшего способ утилизовать тепловую энергию земных недр, спустившегося вместе с друзьями в особом сталь ном снаряде на пятнадцать километров вглубь земли и создавшей там подземную электрическую станцию, для того чтобы переда вать тепло на землю. Герои Ж. Верна, Г. Уэллса и пр. оказываются, в отличие от советского молодого ученого, “в трагическом одино¬честве”: “В тайне от общества они вынашивали свои изобретения, одинокими отправлялись в фантастические путешествия и, неу¬знанные, неоплаканные и забытые, погибали” . По мнению Л. Жукова, и А.Н. Толстой в своих произведениях сочетает “увле¬кательность сюжета со значительностью идейного содержания”. Сюжет романа “Гиперболоид инженера Гарина” показывает, что противостоять всемогущему ученому-авантюристу может “только пролетариат, который и выходит из борьбы победителем”. А.Н. Толстой сумел передать советскую действительность, а в об¬разе инженера Гарина “верно изобразил характерные черты фа¬шизма и со всей ненавистью борца против фашизма заклеймил их”. В “Аэлите”, уже в начале романа, описывая жизнь в голодном и пу¬стом Петрограде, А.Н. Толстой через “контраст материальной ни¬щеты и величайших идейных дерзаний правильно показывает твор¬ческую мощь пролетарской революции” . Л. Жуков отмечает, что советский фантастический роман “стоит на высоте последних до¬стижений науки и отличается исключительным научным реализ-мом” . Одно из первых мест здесь критик отводит А.Р. Беляеву, значительно обогатившему литературу: “Научную добросовест¬ность Беляев счастливо сочетает с богатой выдумкой, умением создавать интересный сюжет”. Столь же примечательны и романы В.А. Обручева, который уступает А.Р. Беляеву в мастерстве раз¬вития интриги, но зато превосходит того в “блеске научной фанта¬зии”1011.
Глава седьмая
ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, ИЗОБРЕТАТЕЛЯХ,
СНАХ И НЕЧИСТОЙ СИЛЕ
Особый интерес представляет развитие в 1920-1930-е годы не¬которых тем и мотивов, характерных для фантастической прозы в целом. Имеются в виду прежде всего свойственный еще романтиче¬ской фантастике мотив тайны, а также тема исследования, изобре¬тения и связанный с ней образ ученого-изобретателя, которые нахо¬дятся в центре внимания в рационалистической фантастике второй половины девятнадцатого века.
В научной фантастике мотив тайны используется по-другому, нежели в фантастике мистической. Здесь тайна важна не сама по се¬бе, ключевую роль играет ее раскрытие: тайна стоит на пути героя от завязке к развязке, а “преодоление” ее является одной из основ¬ных движущих сил сюжета. Тайна в произведениях научно-фантас-тических — нечто неведомое, ставшее объектом познания. Фактиче¬ски мотив тайны “перерастает” в тему научного открытия, изобре¬тения (что, впрочем, не мешает в сюжетном построении произведе¬ния использовать и мотив тайны в широком смысле).
Само по себе фантастическое изобретение, открытие есть реа¬лизация столкновения человеческого разума и противостоящих ем тайн природы. Проблема в данном случае всегда первоначально ре шается в пользу человека — об этом свидетельствует само иоявлени изобретения: если изобретение осуществить не удается, то произведение не переходит в разряд “фантастических”. Но решение пробле мы в пользу человека может не быть окончательным. Часто писате ли показывают, что изобретение, научное открытие в конечно! итоге оборачивается против самого изобретателя, против други людей, а то и против всего человечества. Достаточно вспомнить та кие произведения двадцатых годов, как повесть М.А. Булгаков “Собачье сердце” или роман А.Н. Толстого “Гиперболоид инженер Гарина”. В некоторых произведениях показывается, что изобретение может принести пользу или вред, в зависимости от того, в чь руки оно попадет. В романе В.Я. Ирецкого “Похитители огня” про тивопоставление остается в рамках рассуждений персонажей, а в по вести А.Р. Беляева “Человек, который не спит” писатель непосредственно — через сюжет — сталкивает два пути использования фанта этических изобретений.
Изобретение — всегда победа человеческого разума. В зависимо эти от того, “над чем” одерживается победа, мы можем выделить ос новные типы изобретений, соответственно, уточнив формулировку “столкновение человеческого разума и противостоящих ему тайн природы”. Первым номером в предлагаемой классификации идет победа над тайной (незнанием) — раскрытие тайны. В принципе, под данную формулировку можно подвести и все остальные типы изоб¬ретений — но если здесь столкновение остается в рамках собственно “научной” проблематики, то три других типа связаны с проблемами, ранее считавшимися “вненаучными”: теперь они решаются с помо¬щью науки. При помощи изобретения можно одержать победу над смертью и победу над человеческими слабостями, недостатками. С такими изобретениями мы сталкиваемся главным образом в соци¬альной фантастике. Представляется целесообразным рассматривать отдельно изобретения, которые знаменуют победу над временем и победу над пространством, — эти изобретения чаще всего использу¬ются в приключенческой фантастике. И, наконец, особую группу составляют изобретения, помогающие одержать победу над врагом.
Фантастические изобретения типологически схожи с фольклор- ыми “волшебными помощниками”. Если в фольклоре способности ерсонифицировались или превращались в волшебный предмет, то научной фантастике они становятся рукотворным приспособлени- м. Три основных типа приспособлений также соответствуют базо- ым видам “волшебных помощников”. Приспособление может ис- ользоваться для перемещения, путешествия во времени (например, ашина времени) или в пространстве (например, ракета); может ■ озволять “превращаться” (например, воскрешать мертвых, как в омане А.Р. Беляева “Голова профессора Доуэля”), и, наконец, по- огает уничтожить врага. Главным отличием от сказочной фантас- ики является то, что в фантастике научной все развивается в оси оординат время/пространство, причем фантастическое по большей асти строится на преодолении существующих пространственно¬ременных рамок (звездолеты, машины времени и т.д.).
В фантастической прозе вовсе не обязателен мотив фантасти- еского изобретения — без этого часто обходятся писатели в соци- льной фантастике, да и в “естественнонаучных” фантастических роизведениях можно строить сюжет по-другому (см., например, оманы В.А. Обручева). Тем не менее, мотив фантастического изо- ретения является одним из ключевых мотивов в фантастике, и в го использовании в литературе метрополии и в литературе эмигра- ,ии есть общие тенденции.
Фантастичность изобретений сочетается чаще всего с обычнос- ью характеров и даже событий, развивающихся в связи с появлени- м фантастического в реальной жизни. Трансформация собаки в че- овека в “Собачьем сердце” М.А. Булгакова приводит к созданию ипа, начавшего жить по законам существующего мира. Изобрете¬ние инженера Гарина заставляет действовать “реальных” людей (в СССР и за границей) и самого Гарина, чьи претензии на мировое владычество кажутся после появления изобретения более “оправ¬данными”, хотя в конечном итоге с ним непосредственно не связаны.
Фантастическое здесь словно сталкивается с реальностью, изо¬бретение — с теми, кто им пользуется, кого оно так или иначе за¬трагивает. В определенной степени сам прием схож с введением в план реального идеального для создания контрастной картины, выявляющей несоответствия реального и идеального. Фигуры изо¬бретателей, использующих фантастическое, — будь то персонаж скорее отрицательный (Гарин) или скорее положительный (про¬фессор Преображенский) — связаны с изобретением конфликтной ситуацией. Используя изобретение, герои приходят к мысли о том, что ни они, ни мир не готовы еще или не готовы вообще к подоб¬ным открытиям. Гарин в результате оказывается “у разбитого ко¬рыта” (сюжетная схема вообще напоминает “Сказку о рыбаке и рыбке”, где лазер выполняет функцию фольклорного “волшебно¬го помощника”), профессор Преображенский обращает ситуацию “вспять”.
Не менее распространенным является и другой тип построения сюжета: изобретение несет людям благо. Так используется мотив изобретения в большинстве советских научно-фантастических произ¬ведений в 1930-е годы. В эмиграции мотив изобретения встречаете нечасто, но и там есть пример произведения, в котором научные изо бретения приносят пользу человечеству. Вернемся еще раз к повеет П.П. Тутковского “Перст Божий. (Гибель российской коммуны)” “Этот маленький прибор даже на значительном расстоянии и на значительной площади мог в минуту испепелить все! Ученый припомнил, как долго он работал над световыми волнами грандиозной мощности и напряжения, излучаемыми этим аппаратом, как путем долги опытов он добился того, что они излучались узкой, компактной вол ной, прорезывавшей воздух по известным строго определенным на правлениям и испепелявшей все на известной, пораженной его пло щади. Изменения дальности и площади поражения были возможны известных, конечно, пределах, но в них — аппарат был ужасным ору днем уничтожения” . С точки зрения повествователя, изобретени русского ученого используется во благо, но то, что несет благо одни (врагам большевизма), уничтожает других (большевиков). По схоже модели, только с “обратным знаком”, создаются произведения СССР. Здесь орудия уничтожения помогают победить врагов комму низма, отразить попытки нападения капиталистических агрессоров или устроить мировую революцию. Таким образом, благо и вред в литературе 1920-1930-х годов чаще оцениваются не с позиций обще-человеческих, а с позиций идеологических, хотя каждая из сторон, вовлеченных в идеологическое противостояние, считает, что ее пози¬ция и позиция общечеловеческая суть одно и то же.
Необходимо отметить, что в фантастических произведениях пер¬вой половины двадцатых годов изобретение вообще чаще всего ис¬пользуется как орудие уничтожения, в крайнем случае, как инстру¬мент подавления воли тех, кто попадает под категорию “врагов”. Проблематика фантастических произведений на данном этапе все еще определяется установками сознания, существующего в условиях войны. Почти десять лет военных действий (сначала — Первая миро¬вая война, затем — гражданская), естественно, проецируются и на фан¬тастическую прозу. Это касается и эмигрантской фантастики, и фан¬тастики метрополии. Так, в повести П.П. Тутковского ученый ис-пользует свои изобретения для свержения большевиков и уничтоже¬ния большевистских лидеров: “И вот, однажды ночью, когда он горя¬чо молился, странная мысль пронеслась в его голове... Ведь он, толь¬ко он мог спасти Россию! В его руках могущественный “1§пзошшатсшбеШз”, который в минуту может уничтожить всех большевист¬ских главарей, все их застенки, все ГПУ и ЧОН! В его руках семи¬гранный 1ПУ181Ы118, который может сделать человека невидимым! — его руках 5етеп Уйае — концентрация всех питательных веществ — дной такой пилюли достаточно для поддержки правильного питания рганизма взрослого человека в течение дня! В его руках еще много абски послушных ему, сказочно мощных сил и возможностей! Уче- ый поднялся с колен и вне себя оглянулся кругом... Да он, только он, ожет невидимо проникнуть в самое сердце интернациональной шай- и, захватившей Кремль, только он в минуту может уничтожить их и сех их присных, только для него нет стен, нет преград...”
Рассказывая об изобретениях, одни писатели подробно их опи- ывают, уделяют пристальное внимание собственно техническим арактеристикам, другие — ограничиваются констатацией факта на- ичия самого изобретения, подчеркивая его необычность. Первое арактерно для научной фантастики, второе — для фантастики соци- пьной. В произведениях А.Р. Беляева важное место занимают де- альные описания придуманных автором фантастических приспо- облений. Вот, например, как выглядит новейшее водолазное снаря- :ение, которым пользуются герои романа “Подводные земледель- ы”: “Ванюшка открыл шкаф и начал вынимать оттуда странные предметы: две полумаски, состоящие из большого черного резино¬вого носа и прикрепленных к нему очков. От очков шла резина, при¬держивающая их, а от носа (снизу — от ноздрей) — две резиновые трубки. Затем Ванюшка извлек пару электрических фонарей с рези¬новыми лентами и проводами, ранец, наушники, кортик и, наконец, тяжеленные сандалии со свинцовыми подошвами. Волков и Ванюш¬ка начали быстро надевать на себя все эти доспехи. Прежде всего надели ранцы, сделанные из черного металла, затем черные носы и очки. Длинные трубки, свисавшие с носов, они, помогая друг другу, прикрепили к особым отверстиям в ранцах за спиной. Потом надели на голову аппараты, напоминающие радионаушники. Эти аппараты держались гибкой металлической пластинкой, надеваемой на голо ву. К ушам плотно прикреплялись круглые наушники, а от наушни ков шли две трубки, падавшие немного ниже плеч и оканчивавшие ся небольшими раструбами, как в трубке телефона. При помощи ре зиновой ленты на голове были прикреплены фонари. Затем путники застегнули пояса, на которых были привешены длинные кор тики. Наконец, на ноги надели тяжелые сандалии, прикрепив и ремнями” .
Описание дополняется пояснениями самого изобретателя, в дан ном случае — Миколы Гузика, которые он дает другим персонажам а одновременно — и читателям: “Тут, впрочем, есть еще одно маленькое усовершенствование, — скромно заявил он. — В материи подкладке костюма — имеются металлические нити, которыесоеди йены с аккумулятором. Нити могут нагреваться и давать тепло В таком костюме можно, не боясь схватить насморк, опускаться ледяные волны Ледовитого океана или подниматься на высоту в де сять тысяч километров над поверхностью земли” . Как видим, ученые, изобретатели, создатели фантастических приборов и маши словно вступают в диалог с читателем, в диалог “на равных”, объяняя суть изобретений. Сам повествователь в произведениях А.Р. Б ляева выступает в качестве человека, прекрасно разбирающегося том, о чем ведется повествование. В повести П.П. Тутковског “Перст Божий. (Гибель российской коммуны)” автор, наоборо подчеркивает, что ни он сам, ни люди, окружающие изобретател ничего не понимают в его изобретениях, подчеркивает необыность, исключительность своего героя. То, что для А.Р. Беляева я ляется понятным и простым, для П.П. Тутковского — необычны: странным и удивительным: “В палаццо непрерывно привозили ц лые подводы книг, ящики с какими-то странными инструментами машинами, целые мастерские и лаборатории” . Более того, даже сам ученый с неподдельным интересом рассматривает собственные изобретения, силясь вспомнить их предназначение: “Но в эту ночь, проснувшись против обыкновения задолго до рассвета, он почему- то совершенно другими глазами оглянулся кругом, почему-то впер¬вые только рассмотрел свой тускло освещенный кабинет и стояв¬шие в нем предметы. Все показалось ему новым, чужим и бесконеч¬но любопытным. Прибавив света, он стал подробно рассматривать комнату, искренне удивляясь наполнявшим ее им же созданным при¬борам, машинам и различного рода аппаратам” .
Произведения, в которых звучит тема фантастического изоб¬ретения, можно, как уже было сказано, разделить на две группы — в первой изобретения приносят пользу, во второй — несут опас¬ность. Одни писатели отстаивают идею технократической цивили-зации, машин-помощников, способных освободить человека, помо¬гают преодолеть возникший в начале двадцатого века страх перед машиной, поэтизировать ее; другие видят в грядущем торжестве машин, в изобретениях угрозу человечеству. И речь чаще всего идет не о изобретениях “со знаком минус”, изначально “запрограм- мированых” на вред, а о изобретениях в принципе полезных. Столкновение природы и человека, мотив тайны и ее преодоления, которые являлись сюжетной основой научной фантастики в девят¬надцатом веке, фантастики “жюльверновского типа”, уступают место нравственным проблемам, столкновению людей и их нравст¬венных позиций, той линии, становление которой в научной фанта¬стике двадцатого века связано с именем Герберта Уэллса. Если изобретение не несет зла или добра “в себе”, то все зависит от то¬го, кто создает или кто использует его. Правильность или непра- -ильность использования изобретения определяется, как правило, равственной позицией героя, а нравственная позиция, в свою оче- едь, может быть связана или не связана с его социальным стату- ом. В том случае, когда поведение героя подчеркнуто определяется го принадлежностью к той или иной социальной группе (классу), ы имеем дело с социальной фантастикой. Если же конфликт ос- ается в области несоциального (столкновение психологических ипов, столкновение земного и внеземного, столкновение челове- а и природы и т.п.), то мы имеем дело с фантастикой “техничес- ой” или психологической. Утопию мы можем с полным правом тнести к научной фантастике, уточнив лишь, что в подобных слу- аях изобретение относится не к области естественных и техниче- ких наук, а к области наук гуманитарных. Таким образом, утопия представляется специфической жанровой формой социальной на¬учной фантастики.
В большинстве произведений 1920-х годов собственно тема изо¬бретения отходит на второй план; в центре внимания оказывается образ ученого, образ изобретателя. Даже в тех случаях, когда изоб¬ретение используется “во вред” не самим изобретателем, а людьми, завладевшими открытием, все равно ставится вопрос о нравствен¬ной и социальной ответственности ученого. В научно-фантастичес¬ких произведениях, несмотря на то, что авторы их часто преследуют и просветительские, популяризаторские задачи, внимание скорее со¬средоточено не на изобретении, а либо на характеристике ученого, совершающего открытие, либо на разработке образа того, кто это открытие использует. В волшебной сказке, по мнению В.Я. Проппа, появление волшебного средства являлось “вершиной” повествова¬ния, в литературе же гораздо чаще факт изобретения носит второ¬степенный характер, служит лишь завязкой сюжета, основное же действие связано с тем, как изобретение используется. В волшебной сказке умение или неумение правильно распорядиться волшебным помощником (волшебным предметом) являлось существенным, но не главным. В научной фантастике эта проблема может находиться в центре всего произведения или, если речь идет о сложной эпичес¬кой структуре, например, о романе, быть одной из центральных.
Главными героями большинства фантастических произведений, созданных в 1920-1930-е годы, являются ученые. Тип ученого мо¬жет быть как положительным, так и отрицательным, сама по себе способность совершать великие открытия вовсе не определяет нравственное превосходство героя. Чаще всего центральными пер¬сонажами становятся ученые-изобретатели, химики, физики, мате¬матики и т.д., но это не является правилом. Так, одним из главных героев повести И.Ф. Наживина “Искушение в пустыне” является социолог и философ профессор Богданов. Образ ученого в фанта¬стических, прежде всего научно-фантастических, произведениях за¬нимает ключевое место, естественно, не случайно. Значимость его определяется проблематикой. Традиционный тип конфликта, н; котором строились первые научно-фантастические произведения,: том числе большинство произведений Ж. Верна, заключался : столкновении ученого с силами природы, столкновении познающе го разума человека с неизведанными силами природы. Конфликт как правило, разрешался полной победой человеческого разума 1 человеческой воли над стихией. Правда, уже у Ж. Верна возникаю1 сомнения в оправданности вмешательства человека в установлен ный природой порядок. Роман “Таинственный остров”, вроде бь воспевающий способности людей, превративших необитаемый ост ров в островок цивилизации, по сути дела противопоставлен “При-ключениям Робинзона Крузо” Д. Дефо. У Дефо человек, оказав¬шись “наедине с природой”, приспосабливается к естественному ми¬ропорядку, постепенно начинает жить той жизнью, что живет при¬рода. Ж. Верн, высадив на необитаемый остров группу людей, за¬ставляет их заняться кардинальным переустройством небольшой части суши, затерянной в океане, и деятельность их приводит к ка¬тастрофе. Развязка далеко не столь благополучна, как кажется. Люди, осваивающие остров, пробудили дремлющий вулкан. Остров гибнет. Правда, Ж. Верн далек от пессимистических романов-пре-дупреждений двадцатого века. Людям удается выжить и вернуться в лоно цивилизации.
Противоборство человека и “природы” остается одним из клю¬чевых конфликтов и в литературе двадцатого века. Природа пыта¬ется уберечь свои тайны, сопротивляется человеку, дерзающему по¬корить ее, человек стремится все познать и подчинить себе. Но на¬ряду с этим столкновением большое значение приобретает кон¬фликт “ученый — общество”, намеченный, как говорилось выше, еще в творчестве романтиков. Столкновение “ученый-общество” в изучаемый период обычно рассматривается как конфликт, обуслов¬ленный характером конкретных участников конфликта, т.е. являет¬ся результатом противоречия не абстрактно взятых “ученого” и “об¬щества”, а конкретного общества с конкретным человеком, облада¬ющим определенной системой взглядов, не совпадающих с взгляда¬ми, господствующими в обществе. В случае, если конфликт рассма¬тривается как столкновение “положительного” и “отрицательного”, и человек, и общество могут выступать и в качестве “положитель¬ного”, и в качестве “отрицательного”. Разрабатывая данный кон¬фликт, писатели выбирают один из возможных типов героя: дейст¬вующими лицами могут быть ученый, стремящийся покорить мир; ученый, чье изобретение хотят присвоить или использовать в зло¬дейских целях; ученый, не сознающий, насколько велика опасность для человечества, таящаяся в его изобретении; и, наконец, ученый, для которого научные исследования важнее нравственных принци¬пов. Зачастую все или несколько моделей сливаются в одну: инже-нер Гарин из романа А.Н. Толстого ставит свой гений выше морали, стремится к абсолютной власти, не задумывается над тем, что его эксперименты могут оказаться губительными для всей планеты, а гиперболоидом пытаются завладеть химический король Роллинг и его подручные.
Образ Паганеля — рассеянного чудака-ученого из романа Ж. Верна “Пятнадцатилетний капитан” — кладет начало целой гале¬рее образов ученых в фантастической, да и не только в фантасти¬ческой литературе. Рассеянностью ученого, его отрешенностью от проблем современности в обществе, раздираемом социальными противоречиями, стремятся воспользоваться “злые силы”. В слу¬чае, если социальные противоречия преодолены, эта черта харак¬тера ученого может быть использована для создания комических ситуаций. Есть и еще один вариант. В советской литературе неуча-стие ученого в жизни общества хотя и не грозит никакими катаст¬рофическими последствиями обществу, но приносит вред самому ученому, лишающему себя возможности наслаждаться успехами коллектива и т.д.
После 1917 г., одним из конфликтов, связанных с разработкой образов ученых, становится конфликт между учеными — “нашим” ученым и ученым “не нашим”. Положительный ученый противопо¬ставляется ученому отрицательному или “колеблющемуся” (напри¬мер, считающему, что наука не может быть связана с той или иной политической партией, тем или иным государственным строем, а за¬тем и “национально-территориальным образованием”). Строго го¬воря, мы имеем дело с обычным нравственным конфликтом, ще нравственная позиция обусловлена социальным происхождением или общественно-политическими взглядами героя.
Нравственные и социальные конфликты в фантастической про¬зе 1920-1930-х годов двадцатого века, как правило, тесно переплете¬ны. Собственно “нравственных” коллизий, взятых отвлеченно от со¬циальной проблематики, мы в данный период практически не встре¬чаем. Нравственная позиция безусловно определяется социальным или заключается в преодолении враждебного социального (что, хо¬тя и кажется видимым уходом от общественной проблематики, на самом деле является одним из вариантов разрешения конкретного социального конфликта, т.к. герой уходит не от социального вооб¬ще, а от социально-конкретного, отказывается либо от “советско-го”, либо от “капиталистического”).
В фантастической прозе существует два основных типа ученых. Условно их можно определить как “ученый-исследователь” и “уче¬ный-изобретатель” (или “ученый, создающий” и “ученый, создав¬ший”). Выбранный тип ученого достаточно жестко связан с моде¬лью построения сюжета. Тип ученого-исследователя используется в произведениях, сюжет которых связан с конфликтом “человек — природа”. Развитие сюжета определяется ходом проводящегося ис¬следования; коллизии связаны с возникновением на пути ученого трудностей и с их преодолением. Окончательное преодоление всех трудностей, завершение исследования, создание изобретения и т.п. является развязкой. В произведениях, где мы встречаем тип учено¬го-изобретателя, создание изобретения является не развязкой, а за¬вязкой. Собственно научное исследование, ход работы над изобре¬тением либо не описывается вообще, либо “убирается” в пролог или предысторию. Соответственно, в основе сюжета здесь лежит и иной конфликт — общественный, иногда в сочетании с нравственным. Связан он, как правило, с использованием изобретения либо с борь¬бой за обладание изобретением.
Ученые — чаще всего люди, всецело поглощенные своим делом, люди, для которых наука является смыслом жизни. Эта черта рас¬крывается, например, в одном из монологов персонажа романа А.Р. Беляева “Подводные земледельцы” члена Академии наук, про¬фессора-химика Бориса Григорьевича Масютина, способного в лю¬бой момент “оседлать любимого конька” — завести “нескончаемый разговор о химии” : “Химики — народ особенный. Вы думаете, химия наука? Нет, химия — это миросозерцание. Я вижу все совсем иначе, чем вы. Вы видите, например, охру и говорите, что это желтая кра¬ска, та самая, которой натирают паркетные полы. А для меня это железо, сгоревшее в огне кислородного горения. Вы не замечаете, что весь мир объят страшным пожаром кислородного горения, — а я вижу этот страшный неугасимый пожар. Вы ходите по глине, и для вас она только глина. А для меня это алюминий, сгоревший в огне кислородного горения, окислившийся, что одно и то же. Если бы не кислород, вы ходили бы не по глине, а по горам алюминия. И нам пришлось бы и горшки, и печки делать из чистейшего алюминия. Да, все металлы, все почти элементы мира сгорают в огне кислоро¬да. И мы также сгораем. Вы говорите — старость, а я говорю — горе¬ние. Вы говорите — человек умер, я говорю — сгорел” . Как видим, и жизнь, и смерть химики воспринимают по-своему. То же можно ска¬зать и о других персонажах: биологах, математиках и т.д. Их науч¬ная специализация используется для индивидуализации характера, общие же черты определяются тем, что все они ученые.
Увлеченность является характерной чертой ученого и в эмиг¬рантской фантастике, и в фантастике метрополии. Главный герой повести П.П. Тутковского “Перст Божий. (Гибель российской ком¬муны)” сорок лет провел в своей лаборатории, не зная и не желая знать, что происходит вокруг, и общаясь лишь со своей старухой- экономкой: “Бьянка объяснила соседям, что ее господин так занят, что не может ни на час отвлекаться от дела и считает достаточным опубликовывать результаты своих исследований” . Всецело погло¬щенный работой, он трудится, не отрываясь, с утра до поздней ночи: “Старая Бьянка приносила кофе, обед, ужин, открывала и закрыва¬ла ставни окон, что-то прибирала и чистила, но все это скользило как-то мимо сознания ученого. Одна гипотеза рождала другую и на¬до было спешить проследить, охватить ее сущность и природу, вы¬вести следствия. И когда он видел, как сухие математические вы¬кладки претворялись в живую материю, как могучие неведомые си¬лы покорно отдавали себя на служение установленным им, ученым, целям, как поднимались завесы над тайнами природы, — ученый чув¬ствовал величайшее доступное человеку наслаждение — наслажде¬ние торжествующего духа. И с утроенной энергией он вновь прини¬мался за работу, снова погружался в необъятный океан мысли, кар¬тины, одна другой грандиознее и сказочнее, разворачивались перед его духовными очами. Прошлое и будущее сливалось в одно, земля и небо раскрывали ему свои величественные тайны...” . В метропо¬лии схожую схему создания образа использует в начале повести “Че¬ловек, который не спит” А.Р. Беляев. Его профессор Вагнер также проводит все время, занимаясь научными исследованиями, а быто¬вые проблемы решает экономка Фима.
Для обычных людей ученый часто — “сумасшедший”, человек “со странностями”. В повести “Человек, который не спит” председа¬тель жилищного товарищества Жуков и секретарь правления Кро¬тов обсуждают поведение подозрительного жильца:
“ — Странный человек! Подозрительный человек!
— Профессор!
— Что из того, что профессор? Может быть, он фальшивые деньги делает.
— Из собак?
— Ты не смейся. Бывали случаи! Собаки — особая статья. Ты об¬рати внимание: у него в комнате всю ночь свет. На оконной занаве¬ске его тень часто видна. Шатается по комнате... Полуночник!
— Да, со странностями человек... На днях я еду домой в трамвае. Гляжу, напротив сидит профессор Вагнер. В каждой руке по книж¬ке держит и обе сразу читает. Я в книжки заглянул. Одна — русская, все цифры разные, а другая — немецкая. И вот что удивительно: каж¬дый глаз у него отдельно по строчкам бегает: одним глазом одну книгу читает, другим — другую. Кондукторша подошла к нему. “Би¬лет, — говорит, — возьмите!” Он на нее один глаз поднял, а другим в книжку смотрит. Она так и ахнула. И публика вся на него устави¬лась. Смотрят, рты открыли от удивления, а он хоть бы что...
— Может быть, он с ума сошел?
-Все возможно...”
Подозрения Жукова и Кротова подтверждает экономка профес¬сора, которую расспрашивают в домкоме:
“ — И сам он не спит. Он никогда не спит!
— Как же так не спит? Человек не может не спать.
— Уж не знаю как, а только совсем не спит. И кровать давно вы¬бросил. “Чтоб ее, — говорит, — и звания не было! Кровать, — гово¬рит, — только больным нужна”.
Жуков и Кротов с недоумением посмотрели друг на друга.
— Вот сумасшедший!
— Не иначе, как сумасшедший, — охотно согласилась Фима. — Только привычка моя: пятнадцать годов живу я у него, а то давно бы от него ушла... Был человек как человек, а вот уже с год совсем на себя не похож. Прямо как бы не в себе” .
После разговора с экономкой герои решают сообщить о подо¬зрительном профессоре соответствующим органам: “Придется со¬общить милиции. Этот сумасшедший еще дом подожжет или укоко¬шит кого!”. Участковый милиционер Ситников также полагает, что профессор “чудной какой-то” -
“Странность” ученых подчеркивается тем, что в сюжете произ¬ведения они связаны с мотивом тайны — ведь именно ученым пред¬стоит разгадать ее. В повести П.П. Тутковскогопоявление ученого на улице 5аШа Шала после сорокалетнего добровольного заточения в полуразрушенном палаццо кажется ее обитателям предвестием значительных событий: “...встревоженная старуха 8ап1а Вдапа уже готова была прийти к заключению, что наступил последний день вселенной, как вдруг, взглянув вперед, с ужасом поняла причину пе¬реполоха... Случилось действительно нечто странное, загадочное, роковое... Таинственный обитатель палаццо Ручио, старик-ученый, сорок лет не выходивший из своего дома и ставший для соседей и ок¬руги уже совершенно легендарным существом, — вдруг среди бела дня появился на улице! Сорок лет он не переступал порога своего дома! Сорок лет старый, полуразрушенный палаццо Ручио был ок¬ружен непроницаемой тайной, и старая Бьянка, единственное живое существо, жившее вместе с ученым, свято хранила ее! Сорок лет по- луразвалившийся палаццо был достопримечательностью и гордос¬тью квартала и, когда ночью старый дом вдруг освещался всеми цве¬тами радуги, когда страшные звуки, стоны, вопли, лязг и стук про¬рывались сквозь его наглухо закупоренные окна — с ужасом и гордо¬стью показывали на него друг другу взволнованные соседи: это ра¬ботал “их” ученый! (...) И вдруг сегодня неожиданное вышеописан¬ное происшествие потрясло и взволновало квартал — ученый вышел из дому. Это было знамением каких-то грозных событий, какой-то роковой перемены, какой-то новой жизни!”
Наряду с образами ученых немного “не от мира сего”, встреча¬ются и иные персонажи: ученые на службе советского государст¬ва, ученые, готовые выполнить “заказ” времени, “заказ” эпохи. Естественно, нравственная оценка поведения героев различается в зависимости от того, где создается произведение, — в метрополии или в эмиграции. В романе В.Я. Ирецкого “Похитители огня” док¬тор Беляев, проводящий исследования по “заказу” большевист¬ской верхушки и готовый ради продолжения своих экспериментов превратить людей в послушных рабов, не жалеющий даже собст¬венного сына, — персонаж безусловно отрицательный. В произве¬дениях А.Р. Беляева — однофамильца персонажа В.Я. Ирецкого — именно способность изобрести “необходимое” отличает таких персонажей, как Гузик (речь о нем шла выше, в главе о научной фантастике).
Крайне важной проблемой, связанной с разработкой в фанта¬стических произведениях образов ученых, является проблема “на¬уки и религии”. Большинство советских фантастов подчеркивает, что знание приходит на смену религии. Новым людям религия чужда в принципе, но, когда речь заходит о персонажах с “дорево-люционным прошлым”, писатели показывают, что те отказыва¬ются от религии во имя науки. В романе А.Р. Беляева “Подводные земледельцы” Ванюшка, узнав от Конобеева, что его жена “ста¬роверка”, спрашивает: “А ты тоже старовер?” “Был, да весь вы¬шел, однако! — отвечает Конобеев. — Темность” . Но подобный подход все же не является единственным в литературе метропо¬лии. В “Собачьем сердце” М.А. Булгакова нет непосредственного столкновения науки и Веры, но оно явно прослеживается в “под-тексте” произведения. В эмиграции так же, на уровне “подтекста”, Вера и наука противопоставляются в романе В.Я. Ирецкого “По¬хитители огня”. В повести П.П. Тутковского “Перст Божий. (Ги¬бель российской коммуны)” наука приходит на помощь церкви, ученый становится орудием борьбы за Веру: “Ученый не спал в эту ночь... он думал... он колебался... он молился... но когца в окна глянул первый отблеск рассвета, в душе ученого уже созрело твердое, бесповоротное решение: он не сомневался больше в сво¬ей миссии, в своем призвании; он понял смысл своих достижений, всей упорной, сорокалетней работы, он понял, что призван к вели¬кому славному подвигу — спасению России и всего мира от больше¬вистской чумы!”
В повести П.П. Тутковского сохраняется та сложная система “соотношения” высших сил в православном сознании, которая отра¬зилась еще в знаменитом стихотворении М.Ю. Лермонтова “Смерть Поэта”: рок — как сила безусловно враждебная человеку (“заброшен к нам по воле рока”), судьба — как предопределение, не несущее за-ведомо в себе ни положительного, ни отрицательного (“судьбы свершился приговор”), и Бог — сила Всеблагая (“Но есть и Божий суд, наперсники разврата”). Несмотря на то, что действия ученого рассматриваются как промысел Божий, сам герой не ведает, сужде¬но ли ему судьбой выполнить задуманное: “Надо было спешить — кто знает, сколько дней жизни ему назначила еще судьба” . Повесть П.П. Тутковского — единственное произведение, где главный герой — ученый — встречается с Патриархом: “Патриарх с изумлением огля¬дел пустую келью, затем перекрестился и тихо спросил:
— Кто ты, невидимый, вещающий такие отрадные вести? Кто ты? Скажи, да не смущалась бы душа моя...
— Я — человек, последовал быстрый ответ, — но Господь, по ми¬лости своей, просветил меня особенным знанием и особенным могу¬ществом” .
Наряду с мотивом тайны в романтической фантастике сущест¬венную роль играли мотивы сна и “нечистой силы”. Одним из наи¬более часто встречающихся в фантастической прозе 1920-1930-х го¬дов приемов трансформации реального в ирреальное является ис¬пользование мотива сна, видения. В романтизме мир сна выступал либо как некий иной мир, противоположный миру реального, либо как мир параллельный, вскрывающий тайны реального, недоступ¬ные человеку в обычной жизни, жизни наяву. В сновидениях чело¬век сталкивался с таинственными силами, враждебными ему, пыта¬ющимися завладеть его душой (“Светлана” В.А. Жуковского), во сне герой переносился в удивительный мир счастья, довольства и благоденствия, прозревал утопические картины будущего (“Сон” А.Д. Улыбышева). И в дальнейшем, в реалистической литературе, встречаются фантастические сны — достаточно назвать роман Н.Г. Чернышевского “Что делать?”. В эмигрантской литературе в фантастике заметную роль играло мистическое направление. Фан¬тасмагорическое преломление действительности, где сон смешива¬ется с явью, использование мотивов сна, видения, галлюцинации ха¬рактерно для произведений подобного рода. “По моему убеждению, ты видел не сон: ты видел сквозь сон какую-то древнюю быль” , — утверждает один из персонажей С.Р. Минцлова. В литературе мет¬рополии также есть примеры произведений, формальной основой которых становится “параллелизм” сна и яви. В частности, выше уже разбирался рассказ В.П. Катаева “Сэр Генри и черт”.
И все же в советской литературе сон в качестве основной сю¬жетной мотивировки использовался крайне редко. Исключением яв¬ляются несколько фантастических произведений, созданных в пер¬вые годы советской власти, например, “Похождения Чичикова” М.А. Булгакова. Традиция связывала художественный прием с мис¬тикой, с суеверием. Своеобразное “объяснение” этого мы можем найти в первых строках рассказа А.Д. Улыбышева “Сон”: “Из всех видов суеверия мне кажется наиболее простительным то, которое берется толковать сны. В них, действительно, есть что-то мистичес¬кое, что заставляет нас признать в их фантастических видениях пре-достережение неба или прообразы нашего будущего” .
Сон теперь не нужен для мотивировки фантастического изобра¬жения; указывая на схожесть действительности и сна, писатели под¬черкивают удивительность существующего. Если романтикам сны помогали уйти от мира реального, то в литературе метрополии 1920-1930-х годов мы встречаем иное звучание мотива сна, которое можно определить формулой: “Сон становится явью”.
Гораздо чаще в советской литературе мотив сна используется в качестве вспомогательного. А.Р. Беляев в своем творчестве изоб¬ражает реальность, кажущуюся сном — настолько она необычна, удивительна, странна. Можно сказать, что А.Р. Беляев намеренно показывает действительность, похожую на сон, а затем заставляет героев и читателей удивляться тому, что все существует наяву. “Впоследствии, когда Ванюшка вспоминал о том, что с ним произо¬шло дальше, ему казалось, что он видит сумбурный сон” , — так ха¬рактеризуется происшедшее с главным героем романа “Подводные земледельцы”. Схожие интонации звучат в диалоге из романа “Прыжок в ничто”:
“ — Сэр, не можете ли вы ущипнуть меня за руку? — первым на¬рушил молчание Пинч, пользуясь своим телефоном. — Скажите мне: это сон или действительность?
— Забавная действительность! — сказал Генри.
— А мне кажется, что это неостроумный сон. Я не знаю, кто при¬думывает наши сны или они сами придумываются, но только эта вы¬думка неудачна” .
Существующая устойчивая классификация снов — кошмарный сон, волшебный сон, вещий сон и т.д. — помогает писателю передать психологическое состояние героев; эти определения выступают как своего рода “ярлыки”, иногда серьезно, иногда иронически характе¬ризующие происходящее:
— - О, сколько бы я сейчас дала, чтобы быть на курорте! — тра¬гически воскликнула Делькро. — Ницца. Ментона. Биарриц, Лидо... Рай! Волшебный сон...
— Потерянный ррай... — меланхолически вставил барон.
— Машины рай съели! — крикнул Шнирер” .
В рассказе В.П. Катаева “Сэр Генри и черт” мы сталкиваемся еще с одним мотивом, характерным для фантастической прозы. Этот мотив можно условно назвать мотивом “нечистой силы”. Ю.В. Манн в книге “Поэтика Гоголя” отмечает, что “ключевой мотив фантасти¬ки — о договоре человека с дьяволом...” . В главе “Завуалированная (неявная) фантастика у Гоголя” указывается, что в той группе гого¬левских фантастических произведений, которые Ю.В. Манн называет произведениями о “прошлом”, высшие силы открыто вмешиваются в сюжет: «Во всех случаях — это образы, в которых персонифициро¬вано ирреальное злое начало: черт или люди, вступившие с ним в преступный сговор. Фантастические события сообщаются или авто¬ром-повествователем или персонажем, выступающим основным по¬вествователем (но иногда с опорой на легенду или на свидетельства предков-”очевидцев”: деда, “тетки моего деда” и т.д.)» . По мнению Ю.В. Манна, гоголевская фантастика — “в основном фантастика зло¬го”: “Божественное в концепции Гоголя — это естественное, это мир, развивающийся закономерно. Наоборот, демоническое — это сверхъ¬естественное, мир, выходящий из колеи. Гоголь — особенно явствен¬но к середине 30-х годов — воспринимает демоническое не как зло во¬обще, но как алогизм, как “беспорядок природы”» . Столкновение Божественного как естественного и демонического как сверхъесте-ственного характерно и для творчества Гофмана.
Еще одной причиной появления мотива “нечистой силы” было принципиальное для романтизма противоположение языческого и христианского начал, нашедшее свое отражение прежде всего в по¬этике баллады. В.Ю. Троицкий в статье «“Сказочные”, “ужасные” и “фантастические” рассказы, романы, повести”» связывал использо¬вание “нечистой силы” в сюжете повести Н.В. Гоголя “Вечер нака¬нуне Ивана Купала” с влиянием фольклора: “Романтизм повести рождается из характерного для фольклорной стихии обнаженного сопоставления добра и зла, мечты и суровой жизни, из особенной, свойственной народному сознанию бескомпромиссности идеала, из контрастно очерченных характеров, проявляющихся в столкновении контрастных страстей” . По-другому используется фантастическая основа фольклора в “Русских сказках” В.И. Даля: “В отличие от по¬вестей Гоголя “Русские сказки” Вл. Даля представляли собою просто освоение сказочного материала фольклора путем домысливания фантастических сюжетов, имеющихся в арсенале народного творче¬ства. Здесь Даль выступал как собиратель и стилизатор народной сказки” . У В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, А.Ф. Вельтмана “фантастические силы выступают скорее выражением общих зако-номерностей жизни, скрытых от глаз непросвещенного читателя” . «Ярко романтическим был роман Загоскина “Искуситель” (1838), ос¬нову которого составляло фантастическое вмешательство в дела лю¬дей нечистой силы» , — отмечает В.Ю. Троицкий.
В литературе 1920-1930-х годов гофмановские традиции нашли отражение в творчестве группы “Московский Парнас” и “Серапио- новы братья”, столкновение языческого и христианского начал мы находим, например, в нескольких рассказах А.С. Грина. Но в целом традиционное для фантастики использование мотива “нечистой си¬лы” претерпевает существенные изменения. Как и в случае с моти¬вом сна, мотив “нечистой силы” превращается из основного, служа¬щего “мотивировкой”, во вспомогательный, из “текста от автора” все чаще и чаще уходит в реплики персонажей. Важнейшую роль на-чинает играть материализация грубых выражений “Пошел к чер¬ту!”, “Черт побери!”, “Черти вы этакие!” ит.д. Персонажи, даже не вспоминающие о существовании Бога, к месту и не к месту помина¬ют черта. Создается впечатление, что в мире, где торжествуют ате¬истические идеи, резко возрастает роль дьявола. Цензурные ограни¬чения, связанные с упоминанием в тексте Бога, не распространялись на нечистую силу. Если до революции в тексте крайне редко встре¬чались разговорные выражения и ругательства “черт возьми”, “черт его знает” и т.д., то теперь они употребляются сплошь и рядом.
Показательно, что отождествление большевиков с нечистой си¬лой мы находим и в литературе метрополии, и в литературе русско¬го зарубежья. В произведениях советских писателей, правда, этой точки зрения придерживаются в основном персонажи “извне”. Одна из глав повести А.Р. Беляева “Золотая гора” называется “Удовольствие быть чертом”. Как нечистую силу здесь восприни¬мает большевиков американский журналист Клейтон. Когда он по¬нимает, что Микулин вот-вот сможет в неограниченных количест¬вах производить дешевое золото, то начинает задумываться, не пе¬рейти ли ему на сторону врагов: «“Лучший способ перестать бояться черта — самому стать чертом”, — подумал Клэйтон»; “А если этот черт будет обладать золотыми горами, то быть одним из чертей совсем не плохо!”
В эмигрантских произведениях признание дьявольской сущнос¬ти коммунизма может объединять людей “по обе стороны грани¬цы”. С этим не согласны атеисты, но для них просто нет предмета спора. В повести П.П. Тутковского “Перст Божий. (Гибель россий¬ской коммуны)” русского ученого, совершившего множество удиви¬тельных открытий, в СССР принимают за посланца преисподней. Мы же знаем, что на самом деле старик-ученый выступает как ору¬дие провидения; на это указывает даже название повести. Свою мис¬сию он видит в том, чтобы уничтожить захвативших власть больше-виков и передать право вершить судьбу России Патриарху Всея Ру¬си. “Будь готов, святой отец, к тебе одному только ринется за сове¬том и указанием освобожденный от диавола, устрашенный событи¬ями московский народ” , — обращается ученый к Патриарху. Капи¬тан корабля, доставившего старика в Одессу, не обнаружив своего пассажира, открывшего способ оставаться невидимым, говорит: “Ведь если он не сам дьявол, то сродни ему!” Схожим образом от¬зываются о таинственном исчезновении и другие: “Не иначе как ста¬рикашка твой уплыл отсюда верхом на самом дьяволе, привязавши свои чемоданы ему на хвост...” Черта поминает и комиссар, ругая часовых, охранявших его вагон в поезде Одесса — Москва: “Не смотрят даже, кто идет, ничего не видят, а вопят, будто их чер¬ти за уши тянут! Хороши, дьявол вас съешь, часовые!” . Те, оправ¬дываясь, говорят о нечистой силе уже как о реальности: “Мы, зна-чится, с товарищем очень испугались, потому в вагон вашей милос¬ти какатака нечиста сила полезла. И чудесно, ей Богу, слыхать ле¬зет, аж сопит, а глядишь — ничего и не видно” .
Загадочность, таинственность происходящего, с точки зрения персонажей, имеет одно объяснение — в дело вмешались потусто¬ронние силы. Большевики и их подручные видят в этом проявление чертовщины, противники большевиков — провидение Господне. Раз¬деление такое не случайно, и объясняется не только тем, чью сторо¬ну занимает мнимая потусторонняя сила. Деление на большевиков и их противников в повести П.П. Тутковского- это прежде всего де¬ление на тех, кто попрал веру, и праведников. Первые, соответст¬венно, ждут наказания, вторые ожидают Господней милости. Да, с точки зрения большевиков, появляется черт, но даже черт здесь вы¬ступает как орудие кары Господней. Именно поэтому исчезновение комиссара из поезда с легкостью объясняется тем, что его прибрал нечистый: "... все это было так загадочно, так непонятно и так странно, что и заместитель комиссара, и охрана, и сопровождавшие поезд два агента ГПУ единогласно пришли к выводу, что это штуки нечистого, утащившего комиссара к себе в преисподнюю” .
Появление черта — пусть и мнимого — заставляет персонажей, в том числе и агента ГПУ, вспомнить о Боге, к молитве и иконе обра¬титься за спасением: “...двое красноармейцев, Сенька и Ванька, клятвенно уверяли, что они еще утром видели, как в вагон комисса¬ра лезла нечистая сила и что об этом они докладывали самому ко¬миссару; последнее подтвердил также и агент ГПУ, Петренко, доба¬вив, что за этот доклад комиссар приказал арестовать их обоих. Таким образом, после долгого, довольно бурного обсуждения, было с точностью установлено присутствие в поезде какой-то дьяволь¬ской силы, а также не менее точно установлено, что сила эта гнез¬дится в недавно севшей в поезд заложнице. Ведь это она напустила сатану на комиссара! И собрание, с осторожностью поглядывая в сторону вагона своей опасной соседки, вполголоса перешло к об¬суждению того, как застраховать себя от возможных козней со сто¬роны дьяволицы. Предложение Сеньки и Ваньки вытащить ее за во¬лосы из купе и выбросить в окно — не встретило сочувствия, так как она, защищаясь, могла напустить сатану на всю охрану. С гораздо большим вниманием отнеслось собрание к речи помощника комис¬сара. Он долго говорил о том, что хотя по мнению Карла Маркса и товарища Ленина, Бога нет и по правилам коммунистической пар¬тии верить в Бога и ходить в церковь — не полагается и что хотя все правильно, по-советски, по-революционному, но что, с другой сто¬роны, Бог, конечно, есть, ходить в церковь необходимо почаще и все церковные правила исполняя неукоснительно, ибо это по-настояще¬му, по-старому, по-православному” .
Выясняется, что у помощника комиссара в потайном отделении сундука хранится икона Николая Чудотворца. Герои решают, что необходимо хорошенько, как в старину, помолиться перед ней, а по¬том, с иконой и крестом в руках отправиться в купе к “дьяволице” и спросить, что ей нужно: “Потому, святой Никола, — закончил по¬мощник комиссара свою длинную речь, — оченно всегда подсобляет. Как вышел я, это значится, в четырнадцатом году на войну с нем¬цем, так знакомый поп благословил меня и дал мне эту икону, на прощанье, что ли. Храни, грит, Вавилыч, потому Никола — первый на войне защитник. И, вправду, всю войну фельдфебелем прохо¬дил — и хоть бы тебе что! Так-то, ребята” .
В повести П.П. Тутковского существует как бы две нечистых си¬лы. Одна — та, что искушает человека, вводит его во грех, побужда¬ет отказаться от Веры, Церкви, от праведной жизни — жестко ассо¬циируется с большевизмом, в том числе и у тех, кто состоит на со¬ветской службе. Другая — та, что забирает души грешников в преис¬поднюю. Она связана в романе (пусть только в воображении персо¬нажей) с ученым, пришедшим, дабы уничтожить власть большеви¬ков. Это “двуединство” нечистой силы проявляется, например, в реплике помощника комиссара, для которого и белогвардейцы, и большевики — все одна нечисть: “Вот что, собственно, товарищ Белогвардейщина, вы ведь, не будь в обиду вам сказано, немного сродни черту доводитесь; дела нам до этого нет, конечно, никакого, потому сичас — коммунизм, всякой нечисти уважение воздавать должно... Но погибать, одначе, тоже неохота” .
“Двуединство” является отражением мотива “превращения”, проходящего сквозной линией через всю повесть. В сказочной фан¬тастике тема превращения является ведущей, в повести П.П. Тут¬ковского в превращениях нет ничего фантастического — но они должны восприниматься как фантастические. Русский офицер пре¬вращается в большевика, дворяне вступают в комсомол, церковь превращают в клуб... На фоне всеобщего “превращения” и те, кто руководит страной, начинают восприниматься как “оборотни”, как “нечистая сила”.
Если эмигранты обвиняют в чертовщине большевиков, то для советских писателей, наоборот, антибольшевистские силы являются нечистыми. Так, например, в романе Анатолия Шишко “Господин Антихрист” с чертями сравниваются французские буржуа: “Мужчи¬ны семенили лакированными копытами, подергивая хвостиками фраков” .
Разные варианты звучания мотива “нечистой силы” встречаются в метрополии в творчестве М.А. Булгакова, достаточно назвать “Похождения Чичикова”, “Дьяволиаду” или обратиться к тексту “Собачьего сердца”, где постоянно чертыхается даже собака: “По¬хабная квартирка, — думал пес, — но до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак!”
Божественное и дьявольское подчеркнуто смешивается в созна¬нии советских граждан, потерявших какие-либо ориентиры:
“ — Клянусь богом! — говорила дама и живые пятна сквозь искус¬ственные продирались на ее щеках, — я знаю — это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шу¬лер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнус¬ной модистки. Ведь он так дьявольски молод. — Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок.
Пес совершенно затуманился и все в голове у него пошло квер¬ху ногами.
Ну вас к черту, — мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда, — и стараться не буду понять, что это за штука — все равно не пойму”.
В романе “Мастер и Маргарита” (создавался с 1928 по 1940 гг.) М.А. Булгаков развивает схему, схожую с той, что выстраивал П.П. Тутковский; мотив “нечистой силы” у М.А. Булгакова при этом тесно связан с мотивом театральности. В романе не просто ста¬вится вопрос о подвластности человека Богу. У М.А. Булгакова главным героем становится сама потусторонняя сила — не высшая, поскольку и она подчинена Богу, но непостижимая для человеческо¬го разума и неодолимая человеческой волей. Воланд уже не стоит за сценой в качестве неведомого мастера, дергающего за ниточки, как это было в авантюрной прозе (см. первый раздел), он активно втор¬гается в жизнь реальную, и показывает, кто на самом деле Мастер. Смешон и трагичен маленький человек, возомнивший себя Масте¬ром и осмелившийся писать о Боге, когда даже Воланд — казалось бы, “всемогущий” — на самом деле всего лишь исполнитель Высшей воли, напоминающий людям о Господе. Один из ключевых вопросов эпохи — по своей воле или по воле высшей совершает человек по¬ступки — преломляется у М.А. Булгакова из вопроса философского в вопрос религиозный. Равен дьявол Богу или нет? По чьей воле действует он? Ответ М.А. Булгакова очевиден — первое же появле¬ние Воланда ознаменовано тем, что тот начинает утверждать Бытие Божие. Кульминацией разговора с Берлиозом и Бездомным стано¬вится риторический вопрос, заданный Воландом: “...Ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?”
Николаев Д.Д. Русская проза 1920-1930-х годов : авантюрная, фантастическая и историческая проза. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького РАН. — М.: Наука, 2006
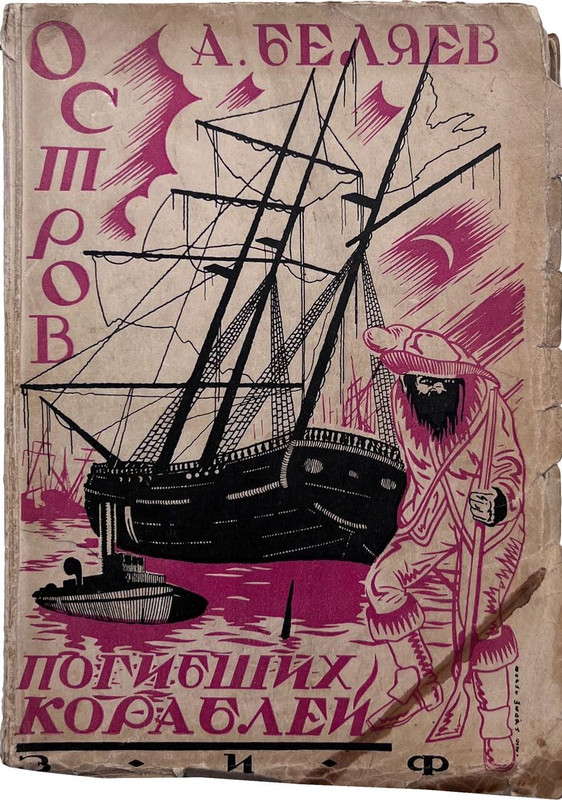


 облако тэгов
облако тэгов