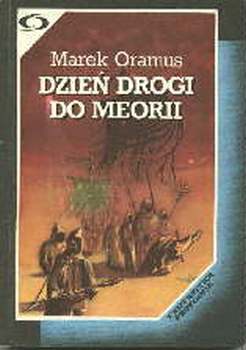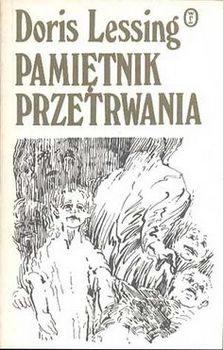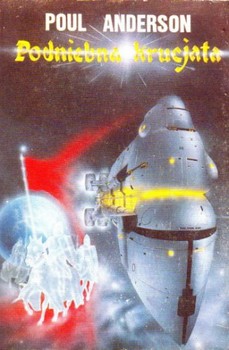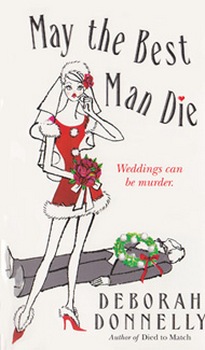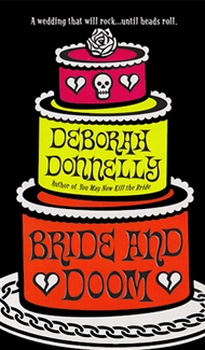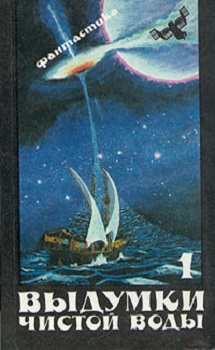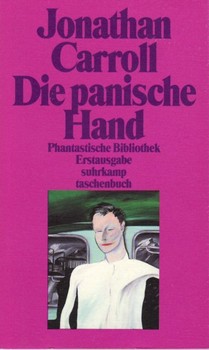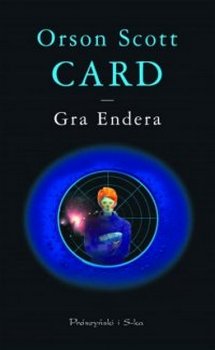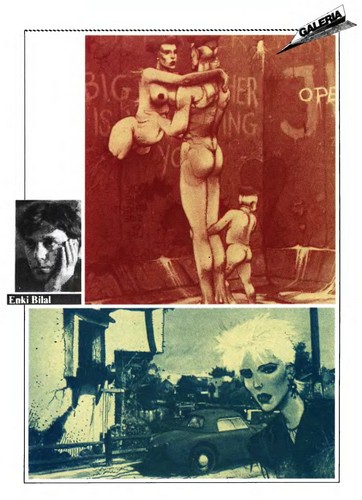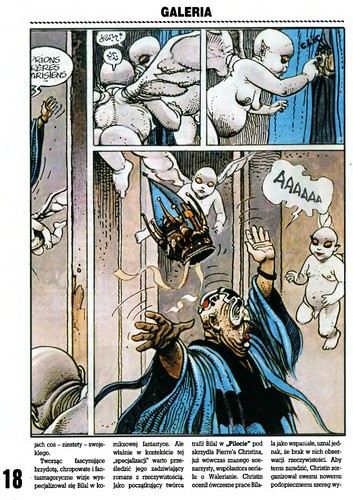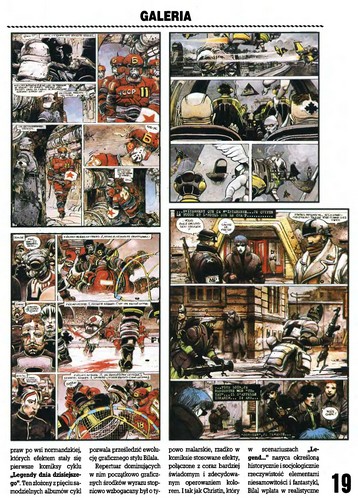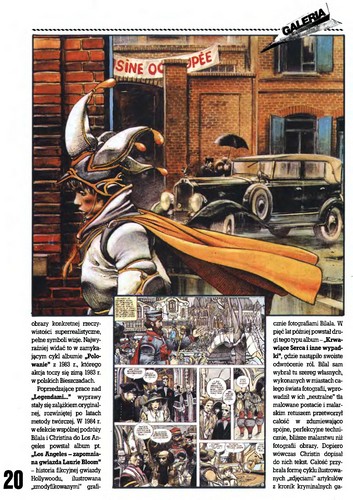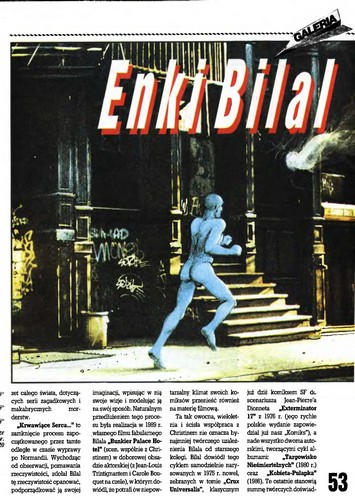13. Пропущенный материал. В этом (стр. 62-65, начало) и следующем (стр. 66-68, окончание) номерах журнала Яцек Инглëт/Jacek Inglot опубликовал эссе о польской научной фантастике первой половины 1950-х годов, которое называется:
SOC FICTION

«Щецинский съезд союза писателей в январе 1949 года впервые открыто поставил задачу борьбы с формализмом и космополитизмом, а также борьбы за творчество, которое, по сути, охватит весь глубокий процесс преобразований нашей страны, а своей целью поставит воспитание нового социалистического человека» (Włodzimierz Sokorski “Literatura i sztuka Polski Ludowej”. “Wiedza i życie”, z. 2/1951).
Так, спустя примерно два года с этого памятного съезда, один из влиятельных функционеров тогдашней культурной жизни комментировал цели и задачи того поворота в искусстве и литературе, который совершился в конце сороковых годов, а в историю вошел как период социалистического реализма или, сокращенно, соцреализма. Набиравший силы сталинизм охватывал все новые и новые сферы культурной жизни, и в январе 1949 года настал черед культуры.
Сам соцреализм – как и все лучшее в те годы – был советским изобретением. Он постепенно формировался там (в СССР) с начала тридцатых годов, после подавления относительного плюрализма, характерного для двадцатых годов, или периода НЭПа. Жертвой чистки пал прежде всего авангардизм, не способный, по мнению партии, удовлетворить потребности пролетарской культуры. На поле боя остались сторонники реалистических направлений, которых подчинили железным канонам социалистического реализма. Окончательное решение было принято на Первом всесоюзном съезде советских писателей (август 1934), на котором выступили с докладами, формулирующими основы нового направления, секретарь ЦК Андрей Жданов и выдающийся писатель Максим Горький.
В чем это новое должно было заключаться? В самых общих чертах – в создании культуры нового типа, противопоставленной прежней элитарной буржуазной культуре, называвшейся марксистами «искусством ради искусства». Социалистическое искусство должно было быть доступным самым широким слоям рабочего класса, то есть должно было создаваться с точки зрения этого класса. А поскольку класс этот находится в революционном движении, искусство должно это движение отражать и показывать, а также участвовать в нем. В теории это должно было основываться на творческом использовании достижений реализма XIX века, предоставлявшего опору для развития эволюционного движения в направлении социалистического реализма. Самое короткое определение новому искусству дал Сталин, заявив, что оно должно быть «пролетарским по сути и народным по форме». Определение это было настолько расплывчатым, что за одно и то же можно было получить как сталинскую премию, так и пожизненный срок в лагере.
На практике новое означало подчинение литературы, а вместе с ней и других отраслей искусства, идеологической линии большевистской партии. Писатель лишался своей автономии, становясь «инженером человеческих душ», а его труд трактовался как производственная деятельность, которой можно управлять путем издания административных директив. Он имел возможность действовать лишь в рамках спущенных сверху норм, таких как партийность, народность, типичность героев и исторических ситуаций и революционный романтизм. Эти критерии были настолько неопределенными, что их применение способствовало бесконечному повторению однажды проверенных и принятых образцов – любое отклонение от схемы могло интерпретироваться как враждебный выпад против единственно правильной идеологии, а тем самым сулило автору трагический исход.
Вот такую модель и было решено навязать польским творцам в рамках дальнейшей централизации и унификации общественной жизни стран восточного блока, проводившейся одновременно во всех захваченных Сталиным странах. В случае Польши это было особенно неблагодарное занятие – само Солнце Народов парой лет ранее обмолвилось, что вводить в Польше социализм это то же самое, что седлать корову. И это хорошо понимали главные местные исполнители: «Принимая идеологические принципы социалистического реализма как историческое и главное задание, мы вместе с тем трактуем этот постулат как исторический процесс, особенно трудный для протекания в области искусства, где не только рассудочные, но и зачастую эмоциональные предпосылки воздействуют на сам творческий процесс возможно даже сильнее, чем в какой-либо другой области жизни» (Włodzimierz Sokorski. “Nowa literatura w procese powstawania”. Referat wygłoszony na Zjeździe Zwięzku Zawodowego Literatów. “Odrodzenie”, 5/1949).
Общие теоретические положения были тут же конкретизованы, так, например, Генрик Маркевич заявляет, что «основная черта социалистического реализма это последовательное диалектическое видение действительности – поэтому (…) негативные явления должны показываться в столкновении с прогрессивными силами, в перспективе своего отступления, поражения и ликвидации» (Henryk Markiewicz. “O typowośći w dziele literackim”. “Nowa Kultura”, 23/1952). Из этого следует, что естественная тема искусства соцреализма это борьба старого с новым, то есть капиталистической формации с надвигающимся социализмом, побеждающим в результате революционного развития действительности. А побеждая, формирующим новые типы поведения и личностей.
Так понимаемая новая литература навязывает свой тип героя, который, в противоположность героям литературы минувших эпох, располагает новым видом, если можно так сказать, чувствительности. Он относится к общественным проблемам и конфликтам, как к своим личным, частным. Самое важное – общественная активность, работа и борьба за социализм. На первый план выдвигаются масса и коллектив, героями произведений становятся даже группы людей (как это и предвидел Виткаций в «Ненасытности»). Коллектив является источником силы и двигателем развития, если его нет – пиши пропало.
Соцреалистический герой это личность, сосредотачивающая в себе наилучшие черты: «социалистический патриотизм, жертвенную преданность народному делу, героизм в работе, благородство и моральную чистоту в межчеловеческих отношениях» (Henryk Markiewicz. “O marksistowskiej teorii literatury”. “Ossollineum”, Wrocław, 1952, s. 81). Так понимаемому положительному герою в каждой стандартной соцреалистической книге, разумеется, сопутствует отрицательный герой, характеризующийся диаметрально противоположными чертами – очень часто физически отталкивающий, как, допустим, буржуй.
Приключения этих индивидуумов должны были разворачиваться в конкретном месте и на протяжении конкретного времени. И здесь были определенные предпочтения. «Современная тематика и в ее границах производственная тематика являются наиважнейшим и наисрочнейшим нашим заданием» -- заявлял Ежи Путрамент (Jerzy Putrament “Zadania literаtury polskiej w okresie planu 6-letniego i walka o pokój”. “Nowa Kultura”, 32/1952). Все это вместе дает нам идейный эталон столь популярного в те годы «производственного романа».
Как себя чувствовала в такой ситуации возрождавшаяся после войны, а точнее, рождавшаяся заново польская фантастика? Так же, как и все другие отрасли художественного творчества – чтобы существовать, фантастика должна была доказывать, что она является частью соцреализма. Вопреки установившемуся мнению, сам термин «фантастика» не подвергался осуждению, хотя понимали его весьма своеобразно. «Сегодня, кажется, ни у кого уже не подлежит сомнению то, что фантастика – если не необходимый, то весьма желательный элемент в литературе для детей и юношества. В сущности говоря, эта фантастика должна соответствовать принципам социалистического реализма, черпаться из богатых источников творчества, народной сказки и народного фольклора. Речь идет о том, чтобы в фантазии, в мечте не протаскивать элементов реакционной идеологии, идеализма, чтобы мечту связать с действительностью, чтобы поставить ее на службу творческой деятельности» -- констатирует Ганна Кирхнер, уничтожая своим «позитивным» определением саму суть фантастики (Hanna Kirchner. “Marzenie – organizator dziecięcego bohaterstwa”. “Nowa Kultura”, 32/1952).
Доказательством же связей фантастики, а точнее научной фантастики с реализмом, занялся Станислав Лем в статье «Империализм на Марсе». Он там прямо утверждает, что «научно-фантастическая литература по сути дела является своеобразно формирующимся ответвлением реализма. Если даже (…) это не реализм в полном смысле этого слова, то, однако, вопреки намерениям творцов <нечто такое, что> свидетельствует о своей эпохе и выражает весьма реальные смыслы» (Stanisław Lem. “Imperializm na Marsie”. “Życie Literackie”, 46/1953). Далее он объясняет, что писатель-фантаст видит проблемы лучше, чем писатель-реалист, потому что, перенося в будущее зародыши современных проблем, может полнее и как бы в увеличении их рассмотреть.
В те времена каждая из областей делилась на правильную и неправильную части. Так, например, правильным мировоззрением был материализм, а неправильным – идеализм. Правильным государством был СССР, а неправильным – США. В литературе правильным направлением был соцреализм, а совершенно неправильным -- формализм и авангардизм (а также натурализм, психологизм, экзистенциализм, в общем около 90% современной мировой литературы было лишено освящающего нимба правильности). Каждый, кто хотел что-то сделать, должен был сначала доказать правильность своего намерения, а также неправильность подобных, но идейно враждебных нам замыслов и работ. В сфере фантастики абсолютно неправильной была американская научная фантастика, что Станислав Лем доказывает следующим образом:
«Американские авторы научной фантастики трактуют элементы окружающей их капиталистической действительности как данные на веки веков, постоянные и неизменные. Одним из таких святых, нерушимых табу является частная собственность, и они возводят ее в ранг абсолюта и проецируют на самое далекое будущее, пытаясь построить на этом свои вымышленные утопии. Результат этого эксперимента уже не зависит от них, и он абсолютно однозначен: именно так мы получаем безумные, ужасающие, чудовищные видения, а происходит это потому, что у агонизирующего ныне империализма нет путей развития, и продление в будущее его общественных отношений ведет в никуда» (Stanisław Lem. “Imperializm na Marsie”. “Życie Literackie”, 46/1953).
Далее Станислав Лем в соответствии с соцреалистической логикой делает вывод, что возросшая на капиталистической почве научно-фантастическая литература не может создать какой-либо «достойной человека» перспективы будущего – поскольку, как было показано выше, у самого капитализма нет будущего. «Совершенно иначе дело обстоит в обществе, строящем социализм. Из него все дороги ведут в будущее, и поэтому перед писателем, создающим научно-фантастические произведения, открываются потрясающие своим богатством горизонты. Однако, когда писатель пытается быть глухим к голосу исторической необходимости и отождествляет судьбу правящего класса империалистического государства с судьбой человечества, появляются картины воюющих друг с другом планет — мертвых, изрытых бомбовыми воронками, половых извращений во всех возможных мирах, картины общества, которым правят террор и продажность, от ужаса которого может избавить только бегство в безумие или смерть… Но ведь это вовсе не фантазия, ведь это снова — в очередной раз — сегодняшняя Америка… и разве я не прав, говоря о реальном содержании научной фантастики?» (Stanisław Lem. “Imperializm na Marsie”. “Życie Literackie”, 46/1953).
Воистину он был прав, сообщая читательской публике столько волнующих сведений об американской научной фантастике. И сделал он это довольно-таки коварным образом, используя обязательное в сталинских временах правило: об Америке, конечно, можно писать сколько угодно, но при одном небольшом условии — только плохое. В тогдашней рецензентской практике комментировали западные издательские новинки, обливая их потоками идеологических помоев, но втискивая между строк существенные и весьма привлекательные для читателей сведения. Впрочем, Лем тут настолько честен, что его неприязненное и холодное отношение к американской научной фантастике сохранялось и позже, лучшим доказательством чего служит «Фантастика и футурология».
И вот так вот, отделив правильные зерна от неправильных плевел, уже можно было сесть за письменный стол и приступить к написанию фантастики, соответствующей соцреалистическому канону. Много ее не было, едва несколько книжек, рассеянных на протяжении нескольких лет. Несмотря на отсутствие официального запрета, тематика такого вида поддержки не имела, а это в тех условиях означало, что с публикацией могут возникнуть проблемы. Это отсутствие поддержки или игнорирование научной фантастики перешло из эпохи сталинизма и в дальнейшие «этапы развития» ПНР.
(Продолжение следует)


 облако тэгов
облако тэгов