| |
| Статья написана 20 декабря 2020 г. 20:19 |
1. В переписке с возлюбленной Анастасией Городской А. Беляев зашифровывал послания ей тайнописью, известной лишь им двоим, или редко применяемым языком.


Кифа́ра (др.-греч. κιθάρα, лат. cithara[1]) — древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент; самая важная в античности разновидность лиры. Буквы похожи на новогреческие, сербские, французские... Ламия. * И последняя строка (возможно, второе и третье слово соответственно — 1901 г. и Смоленск (Σμόλενσκ, в сокращении). Оборотная сторона фотокарточки А.Р. Беляева 1901 г. Текст дарственной надписи: «Эту карточку даю не на память, как о днях, когда мы были вместе, так как я глубоко верю, что мы и умрём вместе. Это же лишь о том на память, какой я был 17 лет. И это, даст Бог, мы будем вспоминать вместе». 

По мнению Михаила Фоменко, скорее всего простой подстановочный шифр + греческие буквы. В своё время персонажи "Золотого жука", "Чёрного замка Ольшанского", "Кортика", "Запаха лимона", "Универсального языка"... ценой долгих усилий расшифровывали криптограммы и тайнописи. Пока что здесь повторяется приветственное слово (или обращение) Ламij Возможно, это Настя. У кого-то есть какие-то соображения по этому поводу? 2. В принципе, как заметил Михаил Фоменко, Беляев в молодости любил баловаться всякими таинственными и псевдо-оккультными штучками и производить этим впечатление на девушек. В архиве Веры Былинской сохранился документ 1908 года — якобы контракт с дьяволом с подписью "Satana" и магическим квадратом SATOR. «Контракт Я нижеподписавшаяся кровью своей заключила сей контракт с Сатаной в том, что г. Сатана обѣщает мнѣ помощь свою на всѣх путях и перепутьях моих, — я же обѣщаю вручить ему душу мою по пришествiю моему в потустороннiй мiр. Контракт удостовѣрен обоюдными подписями и скрѣплен печатью г-на Сатаны. 1908 года, августа 17 числа,10 ½ ночи. Вѣруня Васильевна Былинская Satana». А на сургучном оттиске квадратной печати надпись в рамке: «Sator агеро tenet opera rotas»[97]. Слева направо вниз и справа налево вверх читается одинаково: «Sator — агеро — tenet — opera — rotas». В переводе с латыни: «Пахарь Арепо управляет колесным плугом».* Следует ли из этого, что смоленские проказники баловались сатанизмом? Едва ли, документ скорее говорит о том, что данные представители русской молодежи уже не верили ни в Бога, ни в черта… 97 Рукописный отдел Центральной научной библиотеки Союза театральных работников РФ. Фонд А. Р. Беляева. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1. https://www.litmir.me/br/?b=196944&p=16 * 
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS — палиндром, буквосочетание, составленное из латинских слов и обычно помещённое в квадрат таким образом, что слова читаются одинаково справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу вверх. Палиндром часто ассоциировался с ранними христианами и использовался как талисман либо заклинание[1]: в частности, в Британии его слова записывали на бумажную ленту, которую затем оборачивали вокруг шеи для защиты от болезней[2]. Фраза SATOR AREPO TENET также является примером бустрофедона — способом письма в памятниках литературы, при котором строки письма поочерёдно читаются слева направо и справа налево. Если выражение прочесть дважды в прямом и обратном порядке, то слово TENET повторится. 
Изображения палиндрома со времён Римской империи сохранились на нескольких архитектурных и литературных источниках в разных частях Западной Европы, а также Сирии и Египте. Наиболее ранние находки — две выцарапанные надписи — были обнаружены на руинах древнеримского города Помпеи, уничтоженного в результате извержения вулкана Везувий в 79 г. н. э.[3] Чаще всего слова палиндрома переводят с латинского следующим образом: sator — сеятель, землепашец; arepo — выдуманное имя либо производное от arrepo (в свою очередь от ad repo, «я медленно двигаюсь вперёд»); tenet — держит, удерживает; opera — работы; rotas — колёса или плуг. В законченном виде фраза звучит приблизительно так: «Сеятель Арепо с трудом удерживает колёса» или «Сеятель Арепо управляет плугом (колёсами)»[3]. Немецкий журналист К. В. Керам, широко известный по публикациям о великих археологических открытиях, предложил собственный перевод бустрофедона Sator opera tenet; tenet opera sator, используя слово tenet дважды: «Великий сеятель помогает работе; вся работа великого сеятеля в его руках» (англ. The Great Sower holds in his hand all works; all works the Great Sower holds in his hand)[4]. Наиболее загадочным словом в буквосочетании считается слово arepo — оно более не встречается нигде в латинской письменности (в терминах лингвистики считается гапаксом). Часть исследователей считает, что оно является вымышленным специально для данной композиции. Другие специалисты полагают, что слово было заимствовано из другого языка. Так, французский историк и писатель Жером Каркопино выдвинул гипотезу, что arepo имеет кельтское, предположительно галльское происхождение и первоначально означало плуг[5]. Профессор в области гражданского права Оксфордского университета Давид Дауб[en] считал, что слово пришло из иврита или арамейского языка, и ранними христианами использовалось как аналог греческих альфы и омеги (см Откровение Иоанна Богослова, 1:8)[6]. В работах Мирослава Марковича[en] отстаивается версия заимствования слова из греческого Αρπως либо Αρπων, которое в свою очередь пришло из египетского языка, где именовало египетского бога Хора[7]. https://ru.wikipedia.org/wiki/SATOR#cite_... https://arzamas.academy/micro/spell/2 Первые три посвятительные степени Ордена всемирной теодоксии назывались портиком Храма и соответствовали трем первым символическим градусам адонирамического масонства. Ложа у Фабра д'Оливе называлась Полем, ученик именовался поливальщиком, подмастерье – пахарем, мастер – сеятелем. Такая увязка символических степеней с профессиями сельских тружеников вполне закономерна для Фабра д'Оливе, считавшего человека «небесным растением» и полагавшего в обработке земли, которую древние римляне нарекли культурой, истоки всех наук и искусств. «Элевзинские мистерии, – писал он, – тесно связаны с культурой возделывания земли; платоники и пифагорейцы сравнивали душу человеческую с пшеничным колосом. Всемирный теодоксический культ воскрешает в современном или, лучше сказать, обмирщенном мире инициации древности» (10). Так, целью поливальщика в ордене Фабра д'Оливе являлось очищение и познание самого себя; пахаря – труд и выбор растения, которое он должен был возделывать; сеятеля – изучение природы и небесной культуры. Следовательно, поливальщик, пахарь и сеятель были обязаны непрестанно очищаться, обучаться и совершенствоваться в буквальном и ритуальном смысле. Завершали иерархию Ордена всемирной теодоксии четыре высших степени, обозначавшиеся именами космических стихий – Вода, Земля, Воздух и Огонь. https://fil.wikireading.ru/115659 3.Напечатано оно было в 39-м номере журнала «Вокруг света» за 1916 год...Ни одно из произведений Николая Толстого (включая перевод «Гамлета») никогда не переиздавалось. Нет особых надежд на то, что и в будущем их ждет иная судьба. Поэтому приведем «очерк» Толстого полностью. Надо ведь и читателю дать представление о дореволюционной русской фантастике… Хотя бы для того, чтобы понять, отчего она теперь совершенно забыта, а Беляева помнят и читают. Итак, Николай Толстой: «Последний человек из Атлантиды». В Британском музее мне случайно попалась рукопись на греческом языке, сильно меня заинтересовавшая. Она была неполная с большими пропусками и представляла собой клочки папируса с едва заметными буквами. Слово «Атлантис» сразу приковало к себе мое внимание, и я обратился к библиотекарю с просьбой разрешить мне с нею заняться. — Рукопись эта, — сказал мне заведующий музеем, — уже прочтена, скопирована и издана, и вы можете познакомиться с ее содержанием с большим удобством из этой книги. Но должен вам сказать, что, несмотря на ее древность, это только копия еще более древнего манускрипта, находящегося в Египетском музее в Булаке, в Каире. Тот папирус гораздо полнее и, если не ошибаюсь, целиком еще не был никем прочитан, так как написан на никому не известном языке вместе с весьма неполным греческим переводом, копию которого вы видите в нашем музее. Манускрипт этот составляет собственность египетского правительства, которое ни за какие деньги не соглашается уступить его нам. Если бы нашелся человек, который сумел бы прочитать те отрывки, на которых нет греческого текста, то, я уверен, он узнал бы много нового и обогатил бы науку богатыми сведениями. Взяв рекомендацию, любезно мне предложенную, к директору музея в Булаке, я из туманного Альбиона перенесся в знойный Египет и после долгих мытарств, прекращенных всесильным бакшишем, получил на целых три дня драгоценную рукопись в свои руки. Ознакомившись основательно с греческим текстом еще из брошюры, изданной Британским музеем, я заранее подготовился к дешифрированию неизвестного алфавита путем сличения его с греческим. Действительность превзошла мои ожидания: буквы оказались греческой скорописью, ничего общего не имеющею ни с одним алфавитом мира и потому оставшейся не разобранной, так как ученые искали в них какой-то неведомый язык, а он оказывался греческим. Греческий же текст был не переводом, а попыткой, неизвестно почему незаконченной, передать стенограмму печатными письменами. Это, должно быть, образчик самой древней в мире стенографии, к которой писавший прибегнул по необходимости, так как записывал весь этот рассказ со слов умиравшего человека, как это я прочел в самом начале рукописи, которую в переводе и привожу целиком. «Завещание Гермеса, сына Геракла, последнего из потомков богов, населявших райскую страну на крайнем западе среди безбрежного океана, поглотившего ее пятьдесят лет тому назад, продиктованное греческому писцу Пасикрату для передачи государственным мужам, летописцам и учителям для назидания потомства. Я, Пасикрат, точно и верно передаю то, что слышу, исполняя, по данной мною клятве, последнюю волю умирающего. Я не желаю уносить в могилу тайну, которой владею один на свете. Среди далекого океана под вечно голубым небом лежал остров, в несколько раз превосходивший Элладу, покрытый роскошной растительностью и обладавший неизменно теплым климатом. На этом острове не было ни диких зверей, ни вредных насекомых. По деревьям порхали разноцветные бабочки и райские птички с блестящим оперением, а по злачным лугам паслись стада густорунных овец. Деревья приносили круглый год обильные плоды, а ручейки и ключи доставляли нам холодную и горячую воду. С незапамятных времен наш остров, который по размерам следовало бы звать материком, был отделен водным пространством от всего остального мира. Но раньше он сообщался, как утверждали наши ученые, и с вашим материком, именно с Африкой посредством узкого перешейка, и с другими, еще более отдаленными на запад странами, откуда пришли и наши предки, дети Солнца, и о которых вы, дети земли, не можете иметь никакого понятия. Между тем наши великие учителя утверждают, что и в эту страну заходящего солнца наши предки пришли издалека, из полночной страны, где полгода продолжается день и столько же времени ночь. Там, на вершине мира, где небо сходится с землей, а земля стремится к небу, — наше первоначальное отечество. Мне говорили старики, что наше происхождение божественно; что мы дети неба и солнца, только временно носящие земную оболочку, и что цель нашей земной жизни — служить примером добродетелей и научить мудрости земных людей и сделать их похожими на себя. Ты спрашиваешь, чем мы отличались тогда от детей земли? Ты не видишь разницы между собой и мной. Но в то время разница была еще более очевидная. Мы, дети неба, рождались, но не умирали, не знали ни болезни, ни смерти, ни голода, ни страданий. Тело наше сияло красотой и было бело, как снег. Ум наш обладал способностью понимать всякое явление природы и памятью, которая никогда нам не изменяла. Отличительной особенностью нашего тела и духа было то, что мы никогда не знали усталости, но, должно быть, все-таки нуждались в отдыхе, так как сон смыкал наши глаза, когда дневное светило заходило за горизонт, и душа наша блуждала в царстве снов в продолжение всей полугодовой ночи. Они — дети земли, с которыми мы встретились, покинув наше отечество, были темнокожие, обросшие шерстью, люди с животными инстинктами, с физическими и душевными недостатками, страдавшие и от голода, и от перемены температуры и не знавшие употребления огня. Мы научили их шить одежды, но не давали им в руки огня, боясь, что от неосторожного обращения с ним они сгорят сами и сожгут выжженную солнцем траву на равнинах. Но один из них похитил у нас эту тайну, научился высекать огонь и сжег всю страну с ее обитателями. Спаслись немногие. За нашу неосмотрительность Зевс прогневался на нас и принудил нас к той же участи, как и детей земли. Некоторые из нас вступили в брак с детьми земли и положили начало новому племени, которое перекочевало из страны заходящего солнца в Атлантиду, а оттуда в Африку и Азию. Зевс разгневался на нас еще больше и, чтобы не допустить нашего дальнейшего соприкосновения с детьми земли, заключил нас в Атлантиде и уничтожил сухопутную дорогу, связывавшую нас с остальным миром, затопив перешейки и окружив нас беспредельным морем. То, что я говорил до сих пор, относится к легендам, передаваемым нам стариками. С водворения нашего в Атлантиде начинается историческая эпоха нашего существования, записанная нашими летописцами. Разобщение наше с миром было полное. Тем не менее мы знали, что не мы одни существуем на этом свете и что есть на нем мыслящие и разумные существа, имеющие с нами общих предков. Три с половиною тысячи лет мирно жили мы на нашем острове. Племя наше начало хиреть, и мы, несмотря на благословенный климат, стали всё более и более ощущать в себе человеческие немощи. Смерть и болезни косили то одного, то другого. Несмотря на это, племя наше размножилось до того, что готовых плодов не стало хватать на пропитание жителей, и мы стали разводить овощи на огородах и засевать злаками поля. Но скоро нам и этого не стало хватать, и у нас начались междоусобия. Партия недовольных свергла нашего патриарха, т. е. старейшину нашего племени, и учредила олигархию, состоявшую из двадцати человек. Каждый из них руководил какой-нибудь отраслью общественного дела. Один заведывал (так!) продовольствием населения, другой — общественным здоровьем, третий — науками, четвертый — воспитанием юношества, пятый — строениями, шестой — общественными работами, седьмой — астрологией и т. д. Вся страна точно преобразилась. Работа закипела. В науке были сделаны замечательные открытия. У нас появились не только все необходимые для жизни вещи, но даже и предметы роскоши вроде зеркал, люстр, статуй и других произведений искусства. Наши дома походили на ваши храмы, окруженные колоннами и украшенные кариатидами. Дворцы наших олигархов состояли из нескольких ярусов мраморных балюстрад, над которыми свешивались гирлянды цветов, ежедневно заменяемых свежими. На крышах разводились сады, среди которых мы находили прохладу даже в полуденное время. Денег у нас не было, не было и рабства, а между тем работы производились охотно и никто не терпел недостатка. Это достигалось тем, что каждый гражданин нашего государства, получив в детстве специальное образование с изучением известного ремесла, когда кончал свои личные дела и желал работать, заявлял об этом заведующему работами, и тот указывал ему, где требовались его услуги. По окончании работы он получал свидетельство о том, сколько часов он потратил на работу и как ее исполнил. Когда ему в свою очередь надобились услуги другого специалиста, он заявлял об этом тому же заведующему и представлял свое свидетельство, как право на работу другого, за услуги которого платил таким же свидетельством. Затем были общественные обязательные работы, за которые все граждане получали свою долю хлеба, сладкой пиши и нектара, если не выделывали их сами, и в таком случае делились с другими. Береговые жители стали заниматься рыболовством, а внутри страны стали разводить скот, который доставлял нам мед для изготовления нашего любимого напитка. Винограда у нас не было, и вина мы не знали. В наших горах мы находили различные минералы и металлы, из которых научились выделывать всевозможные инструменты и машины. Между городами и селениями были проложены снабженные каменными плитами дороги, по которым катились повозки, приводимые в движение воротом и колесами. Из одного помещения в другое были проложены слуховые трубы, по которым мы могли разговаривать на расстоянии, не видя друг друга. Из горячих и студеных колодцев была по гончарным трубам проведена вода в города и поселки, и каждый гражданин мог беспрепятственно ими пользоваться и даже проводить по трубам воду из общественного фонтана в свое помещение. Когда заходило солнце, над нашими городами вспыхивали искусственные солнца, которых никто не возжигал и никто не гасил и в которых горел не обыкновенный огонь, а небесный. У нас были корабли, которые не боялись бурь, так как могли погружаться в воду, а затем всплывать снова; у нас были лодки, снабженные крыльями, на которых мы могли носиться по воздуху, по земле и по воде. Но у нас было нечто большее. У нас были зеркала вогнутые и выпуклые, посредством которых мы узнавали, что делается не только вдали от нас на земле, но и на небе. Прошло еще несколько тысячелетий, прежде чем мы достигли всего этого и находились уже на той степени развития, до которого вам, эллины, еще далеко, несмотря на то, что вы много от нас унаследовали. Наши мореплаватели переплывали океан и, окружив себя таинственностью, завязывали сношения с выдающимися людьми вашего континента и открывали им тайну за тайной. Быть может, если бы не случилось катастрофы, уничтожившей Атлантиду, мы бы успели приобщить вас ко всем знаниям, которыми владели сами. Но Зевс, очевидно, не допустил этого. Он помрачил наш разум, и мы, вместо того чтобы сделаться светочами человечества, совершенно исчезли из его истории. Как это вышло? Эту-то тайну и желаю я поведать перед смертью потомству. Среди наших правителей был один, которому звание олигарха казалось малым. Он хотел стать монархом, а достигнув этого, возмечтал стать владыкою мира. В первый раз потомки Солнца собрались совершить кровопролитие и гнаться за славой и за чужими землями. Впрочем, не все согласились идти на это дело, которое до тех пор было уделом детей земли. Часть нашего населения, наиболее благоразумная, воспротивилась и отказалась принять участие в предполагаемом походе. Другая, соблазненная своим предводителем, настаивала выступить как можно скорее, дабы завоевать и поделить между собой вселенную. Так как властелин не мог рассчитывать на нашу личную военную силу, которой нам никогда не приходилось испытывать, то он изготовил молниеносные снаряды, извергающие огонь и удушливое пламя. Состав этот в большом количестве хранился в пещере одной горы, примыкающей к залежам материалов, заготовленных и добываемых поблизости. Накануне дня, когда атланты, так стали звать нас в Европе, намеревались выступить в свой поход, один из миролюбцев решил воспрепятствовать этому ценою собственной жизни. Он, очевидно, не рассчитал силу взрыва, задумал уничтожить смертоносный состав и поджечь его. Я был в то время на корабле. Раздался оглушительный раскат грома, и яркое пламя метнулось к небу. Гора распалась. Море хлынуло на город и затопило побережье. После этого раздался новый взрыв сильнее первого. Земля потряслась, и океан поглотил Атлантиду со всеми ее городами и обитателями. Мой корабль нырнул в воду, и после тридцатидневного скитания по водам и под водой океана я приплыл к берегам Эллады и скончал (так!) свою старость среди вашего племени, которому завещаю написанные мною книги, переданные вашим архонтам. А вам и всем потомкам вашим завещаю мир и всеобщее довольство и счастие, которое вы можете получить только в объятиях знания и свободного мирного труда»[235]. Повесть Беляева обязана Николаю Толстому не только названием, она и есть рассказ последнего человека из Атлантиды, только записанный не эллинским жрецом Пасикратом, а американским профессором Ларисоном в виде повести. На Толстого в беляевской повести указывает и единственный «русский» след: «На пятом году экспедиции были найдены развалины храма Посейдона, а в них — громадная библиотека, состоящая из бронзовых полированных пластин, на которых были вытравлены надписи. Надписи прекрасно сохранились. Их удалось расшифровать одному русскому ученому-лингвисту». XX век внес в список великих дешифровщиков не одно русское имя: Николай Невский (тангутские иероглифы), Юрий Кнорозов (иероглифы майя), Виталий Шеворошкин (карийский алфавит)… Но в начале века русские ученые разгадывали древние письмена только в фантастике — в романе С. Р. Минцлова «Царь царей» (1906) и у Николая Толстого… Правда, в последнем случае неведомая письменность оказалась лишь забытой системой греческой стенографии. А вот одна деталь в «очерке» прилежного читателя журнала «Вокруг света» наверняка покоробила — про людей, «не знавших употребления огня». Этнографической науке такие не известны. Даже самые жалкие из людей, не знавшие одежды, умели разводить костры, причем такие, что проплывавший ночью мимо их острова Магеллан назвал его Tierra del Fuego — Огненная Земля. Но Николай Толстой и не думал придерживаться этнографии: в его повествовании тот из «детей земли», что похитил огонь, — это, естественно, Прометей, а история атлантов — классический греческий миф: битва титанов с Зевсом. Толстой просто восстановил пропущенное Платоном звено, связывающее предание об Атлантиде с прочей греческой мифологией. А в остальном никакой мистики — чистая научная фантастика жюль-верновского типа… https://www.e-reading-lib.com/chapter.php... *** Всемірный языкъ. Чѣмъ больше переплетались экономическіе и духовные интересы европейскихъ государствъ, тѣмъ настоятельнѣе чувствовалась потребность во введеніи единаго, всемірнаго языка, объединяющаго всѣ народы. Во второй половинѣ вѣка дѣлались попытки созданія такого языка: изъ нихъ наибольшій успѣхъ выпалъ на долю "Воляпюка" и "Эсперанто". Одно время "Волапюкъ" былъ введенъ въ Германіи въ число школьныхъ предметовъ, особенно въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ. Эсперантисты имѣются и по настоящее время почти во всѣхъ крупныхъ государствахъ міра. Языкомъ "Эсперанто" интересовался и Л. Н. Толстой, изучившій чуть-ли два часа его сложную грамматику и лексиконъ. Былъ цѣлый рядъ и другихъ попытокъ въ этомъ направленіи, но ни одинъ изъ этихъ искусственно-созданныхъ языковъ не получилъ права всемірнаго гражданства. Война вновь поставила на очередь этотъ вопросъ. Она показала, какъ мало еще знали другъ друга европейскія государства, что, въ значительной степени, являюсь отсутствіемъ общаго языка. Надо отдать справедливость въ этомъ отношеніи Германіи: она едва-ли не лучше всѣхъ другихъ государствъ изучила жизнь своихъ европейскихъ сосѣдей,-- въ особенности Россіи, и использовала эти знанія для войны. "Что же касается нашихъ союзницъ,-- Франціи и Англіи, то онѣ только теперь начинаютъ "прозрѣвать", знакомиться съ Россіей, какова она есть, прибавляя кое-что новое къ "развѣсистой клюквѣ", гуляющимъ по улицамъ нашихъ городовъ медвѣдямъ и прочей мифологіи, которой ограничивалoсь ихъ познаніе, о "европейско-азіатской" восточной имперіи. Наступилъ моментъ наиболѣе тѣснаго сближенія Россіи съ Европой. На смѣну анекдотовъ о Росссіи становится на очередь самое непосредственное, близкое изученіе ея жизни. То же должны сдѣлать мы по отношенію къ союзникамъ. Чѣмъ бы ни кончилась война, за ней будетъ слѣдовать другая, болѣе скрытая, но не менѣе упорная: борьба экономическихъ интересовъ. Установившееся до войны равновѣсіе скрещивающихся экономическихъ вліяній нарушено и потрясено до основанія. Закладывается новый фундаментъ международныхъ отношеній. Немудрено, что еще до окончанія войны представители двухъ враждующихъ коалицій устраиваютъ рядъ совѣщаній и конференцій по вопросамъ будущаго экономическаго объединенія. Помимо этихъ офиціальныхъ конференцій намѣчаются совѣщанія и частныхъ лицъ, представителей торговли и промышленности. Во всѣхъ этихъ международныхъ отношеніяхъ, при выборѣ представителей, въ первую очередь, конечно, ставится вопросъ о знаніи ими иностранныхъ языковъ. И, какъ это ни печально, необходимость нерѣдко заставляетъ отдавать предпочтеніе наилучшему знанію языковъ передъ нашимъ лучшимъ знаніемъ спеціальности и личными достоинствами делегатовъ. Объ одномъ очень талантливомъ современномъ русскомъ администраторѣ, занимающемъ нынѣ видный постъ, разсказываютъ, что незнаніе имъ французскаго языка долго стояло почти непреодолимымъ препятствіемъ въ его служебной карьерѣ. Найти, въ буквальномъ смыслѣ слова, "общій языкъ" является настоятельной необходимостью нашего времени. Не мудрено, что именно теперь возникаютъ новые проекты созданія такого всемірнаго языка. Самымъ послѣднимъ словамъ въ этомъ отношеніи является "идеографическая письменность" рекомендуемая г. Чишихинымъ. Идея этой письменности взята у народовъ Азіи, которые давно установили у себя этотъ международный языкъ словъ и понятій, изображаемыхъ условными знаками. Въ общихъ чертахъ, проектъ г. Чишихина состоитъ въ томъ, чтобы "заномеровать" наиболѣе употребительныя слова арабскими, а понятія -- римскими цифрами. Я не буду входить въ подробную оцѣнку системы, такъ какъ по поводу всѣхъ вообще попытокъ созданія искусственнаго языка написано уже не мало статей, доказывающихъ нежизненнособность этихъ лабораторныхъ филологическихъ "гомункулусовъ". Вопросъ о "всемірномъ" языкѣ можетъ найти свое разрѣшеніе въ иномъ направленіи. Наиболѣе цѣлесообразнымъ было бы войти въ соглашеніе съ заинтересованными государствами о признаніи ими одного изъ живыхъ европейскихъ языковъ международнымъ и объ обязательномъ его изученіи. Выгоды, по сравненію съ изученіемъ искусственнаго языка, получились бы слѣдующія: искусственный языкъ пришлось бы изучать всѣмъ народамъ, при признаніи же международнымъ одного изъ живыхъ языковъ, цѣлый народъ, говорящій на этомъ языкѣ, какъ на родномъ, будетъ освобожденъ отъ необходимости изучать условный языкъ. Затѣмъ, изучающему живой европейскій "международный" языкъ открывается сразу все духовное богатство этого народа, между тѣмъ, даже наиболѣе совершенный условный языкъ не даетъ ничего, кромѣ возможности обмѣна мыслей. Уже этихъ указаній достаточно, чтобы видѣть явное преимущество признанія международнымъ одного изъ живыхъ языковъ. Война, чуть не весь міръ объединившая въ двѣ коалиціи, даетъ возможность привлечь къ участію въ этомъ соглашеніи очень большое количество государствъ. Имѣя же въ виду общекультурную цѣль и выгоды созданія международнаго языка, отъ участія въ такомъ соглашеніи едва-ли уклонились бы и нейтральныя государства. Если бы такого соглашенія удалось достигнуть, въ первую очередь пришлось бы измѣнить преподаваніе новыхъ языковъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Пытаясь объять необъятное, обучая и французскому, и нѣмецкому, и древнимъ, а въ послѣднее и англійскому языкамъ, у насъ въ сущности, не даютъ основательныхъ знаній ни по одному изъ нихъ. Будетъ или нѣтъ достигнуто соглашеніе о международномъ языкѣ мы ничего не прогадали бы, если бы и теперь внесли въ этомъ направленій нѣкоторыя реформы, а именно: Вмѣсто одинаково и плохого изученія всѣхъ "дванадесяти языковъ" въ одной школѣ, раздѣлить это обученіе между нѣсколькими школами, съ темъ, чтобы въ каждой отдѣльной школѣ изучался только одинъ изъ новыхъ языковъ, но зато настолько основательно, чтобы окончившій ту или иную школу пользовался изученнымъ иностраннымъ языкомъ такъ же свободно, какъ роднымъ. При такомъ положеніи вещей намъ не трудно было бы найти наиболѣе подходящаго представителя любой области знаній въ любое европейское государство. Въ предѣлахъ нашихъ русскихъ потребностей, это самый простой и осуществимый способъ разрѣшенія вопроса о всемірномъ языкѣ. А. БѢЛЯЕВЪ. "Приазовскій край". 1916. No 123. 10 мая. С. 1-2
|
| | |
| Статья написана 8 марта 2020 г. 16:37 |
Hаша стpана любит геpоев потому, что это геpоическая стpана. М. Кольцов.
В начале тpидцатых годов некто Дмитpиевский -- личность темная: не то беженец-авантюpист, не то агент ГПУ -- потpясал эмигpантские собpания лекциями о далекой России. Докладчик увеpенно избегал пpотоpенных тpоп: он не pассказывал о застенках Чеки, о вымеpших губеpниях, сожженных аулах, изнасилованных монахинях, -- коpоче, он не говоpил о том, что и без него всем было известно. Известное было пpивычным, ужасным, и оттого так хотелось услышать, наконец, пpавду.
И Дмитpиевский не стеснялся: -- Знаете ли вы, что Россия уже не та, какой вы ее оставили, -- и, обpащаясь к молодым, -- какой вы ее не видели? Она одушевлена новым духом, и имя ему -- Титанизм. Дать воду пустыням, pастопить вечные льды, покоpить небо -- это Титанизм. И то, что вы считаете цаpством смеpти и теppоpа, есть новый миp геpоев, молодых сеpдец и абсолютного pасцвета. Лекции имели успех, как-то веpилось в силу pаскpепощенного духа, в тундpу, текущую молоком и ягелем, лампионы, заменившие севеpное сияние... Потом Дмитpиевский куда-то делся (чуть ли не в Беpлин), оставив о себе впечатление. Вникая тепеpь в политические пpоpочества Дмитpиевского о неминуемой и скоpой замене коммунистов новой своpой титанистов, одно, по кpайней меpе, мы устанавливаем бесспоpно -- источник его идей. Это постоктябpьская идеология А.А.Богданова, пеpежившая в таком виде своего создателя и созданный им Пpолеткульт. Сгинул Пpолеткульт, сгинул Богданов, сгинула его тектология -- "наука о всеобщей оpганизации", появилась всеобщая оpганизация и ее оpганы. И тогда наступил pасцвет. Hа этот pаз pасцвела литеpатуpа в жанpе, называемом научной фантастикой. Фантастика пpотянула довольно долго, с тем, чтобы, в конце концов, пpивести к появлению "pомана воспитания": фоpмиpование советского хаpактеpа в виду близко лежащих технических возможностей. В полный pост встала пpоблема пеpеделки пpиpоды -- в pомане "Разведчики зеленой стpаны" Г.Тушкана школьники мичуpинским путем пpевpащали дикую гpушу в садовую. Кто-то дpугой, не помню кто [Виктоp Сапаpин — В.Б.], деpзко мечтает об автоматизации тpансфоpматоpных будок (повести иpонически дано авантюpное название -- "Исчезновение инженеpа Бобpова"). А фантаст Охотников инженеpу нос утиpает и вовсе учениками ПТУ. Там, значит, pемесленник пpиходит к инженеpу часы чинить. А инженеpа дома нет, одна жена. Вот он стоит, починяет, а жена инженеpа, что, стеpва, делает -- она к стpемянке подходит и говоpит: "Часы эти, мол, меня пугают. В них, говоpит, дух живет". А pемесленник стоит и думает: "Hу дожили, инженеpа!" Инженеp этот слова иностpанные говоpил -- "адекватно" вместо нашего "подходяще". Потом еще не хотел ультpазвуком пахать... Откpовенная глупость объекта ни в коем случае не должна останавливать исследователя. За любым словом стоит событие, и будем благодаpны людям за pедкое умение выговаpивать слова. Даже такие слова: -- Hовая домна задута, слышали? -- О Магнитке читали? Здоpово, а? -- Что вы о наших физиках скажете? Вот молодцы! Так, по свидетельству М.Поступальской, выpажался писатель Г.Адамов, "встpечаясь с дpузьями, едва успев поздоpоваться". Г.Адамов (1886-1945), он же Гpигоpий Боpисович Гибс, был пеpвым подлинно советским писателем-фантастом. Он пеpвый освободился от влияния иностpанных обpазцов, сделав советскую фантастику во всем подобной остальной советской литеpатуpе. Уpоженец Хеpсона, он пpоделал длинный и славный путь от pедактоpа социал-демокpатической газеты "Югъ" (Хеpсон) до сотpудника жуpнала "Знание -- сила" (Москва). Hа жуpнальных стpаницах опубликовал он свои пеpвые пpоизведения, еще не поpывавшие с фоpмой очеpка (вне зависимости от объявленного жанpа -- pассказ или повесть), но уже смотpевшие впеpед, в будущее, неотступно гpядущее. В 1937 году он выпускает пеpвый pоман -"Победители недp", а в 1939 -- втоpой, незабываемую "Тайну двух океанов". Отчаянный мечтатель сpазу же садится писать тpетий pоман -- "Изгнание владыки", и нет сомнения, что и его он написал бы в pекоpдно сжатые сpоки, но тут случилась война. Роман все-таки вышел, но в 1947 году, после смеpти автоpа и, следовательно, без его ведома и согласия. С литеpатуpной точки зpения тpетий pоман написан еще хуже двух пpедыдущих. Hо это ли было главным? Как он над ним pаботал! "Тысячи выписок по технике, физике, химии и биологии моpя в толстых тетpадях с кожаными пеpеплетами, гpуды папок с выpезками из газет и жуpналов, сотни книг -- целая библиотека, от солидных научных тpудов до "Памятки кpаснофлотцу-подводнику" и "Пpавил водолазной службы", -- так описывает биогpаф состояние кабинета писателя в пеpиод pаботы над "Тайной двух океанов". Hа этом фоне достойна ли внимания такая мелочь, что вpемя от вpемени автоp помещает Квебек в Соединенные Штаты? Конечно, не достойна. "У молодого читателя, -- пpодолжает биогpаф, -- невольно дух захватывает, когда он читает об ультpазвуковой пушке, телевизионных установках, инфpакpасных pазведчиках, о специальных подводных скафандpах". И еще: "Впеpвые писатель обpащается к теме бдительности: на лодку пpоник пpедатель". Как легко опуститься здесь до недостойной политической игpы, тыкать в покойного тем, что в 39-м году он писал о бдительности. А о чем было писать в 39-м году? Плохо написано? Да, плохо. Hу и что? Культуpа явление массовое. Это мы знаем по собственному опыту -- ведь должно же быть какое-то объяснение тому, что с половиной из сегодняшних собеседников мы в России общаться ну никак не стали бы. Дело не в скудости выбоpа и не в благопpиобpетенной всеядности. Кpитеpием отбоpа (для нас естественного) является пpошлое. Ибо культуpа складывается не только из Пушкина, Толстого и Мандельштама, а еще из десятков тысяч вещей: умения понимать анекдоты и вкуса к их выслушиванию, 4 копейки -- билет в тpоллейбусе, чеpез Таганку в Лефоpтово, -- до явлений сугубо и неоспоpимо культуpных -- массы знакомых книг, очень плохих книг. Я же не ошибаюсь -- никому из читателей не надо напоминать сюжета "Тайны двух океанов"... Hу, pазве кто только начнет путаться между книгой и фильмом Тбилисской киностудии. Помните начало? Та-татата-таа-та... Почти, как "Мужчина и женщина"! Вообще, по сpавнению с книгой, фильм много выигpал. Hапpимеp, вскpыта тайна двух океанов -- это тоpпеда, замаскиpованная под катеp с номеpом 17. Так вот, стоит понять, что катеp -- пеpеодетая тоpпеда, и сpазу ясно, отчего в таинственных коpаблекpушениях, имевших место в Атлантической и Тихоокеанской акватоpиях, нет ничего таинственного. Иное дело -- книга: в ней о тайне двух океанов и слова нет. Скоpее ожидалось бы название "Тайны двух океанов", по обpазцу чего-то такого научно-популяpного, каких-нибудь "Тайн моpского дна" или "Секpетов pыбьей жизни". А ведь и пpавда: ничего, что связывало бы фабулу с площадью двух океанических бассейнов, в книге нет. Вот -- Гоpелов, он пpедатель, так таким он был с самого начала, как подлодка "Пионеp" -- подлодкой. Ладно, запутавшись с названием, откpоем все-таки книгу: "Они стояли на овальной pовной площадке /.../ на веpшине небольшого холма из гофpиpованного металла /.../. Позади площадки на пpотяжении двух-тpех десятков метpов холм полого опускался к воде, как спина огpомного кита /.../. Двое из этих людей, одетые в ослепительно белые с золотыми пуговицами кители, с золотыми шевpонам на pукавах и "кpабами" на фуpажках, /.../ осматpивали гоpизонт, глядя в стpанные инстpументы, похожие одновpеменно на бинокли и подзоpные тpубы /.../. Высокий человек в белом кителе опустил наконец свой стpанный бинокль и махнул pукой. -- Hичего не видно, Лоpд, -- сказал он на чистейшем pусском языке..." Почему автоp тщится поpазить нас чистейшим pусским языком? Или большинство его читателей pазговаpивало на ломаном? Или pусский язык и pусский человек не к лицу белоснежному кителю с золотыми пуговицами? Hаше минутное замешательство объясняется тем, что, едва вступив в pоманный лабиpинт, мы сpазу же споткнулись об одну из путеводных нитей. Дело в том, что коpабль с искусно пpиданными ему чеpтами моpского животного уже совеpшил однажды путешествие в океанских глубинах. Hазывался коpабль "Hаутилус", спущен на воду в г. Амьене инж. Ж.Веpном. Hовые истоpические условия властно тpебовали снятия с поста несвободного от анаpхизма и социально чуждого (pаджа) бывшего бpитанского подданного гp-на Hемо и замены его идеологически выдеpжанным капитаном 1-го pанга Воpонцовым H.Б. Hу что ж? Вполне понятное веяние эпохи... Затем, походя, восстанавливается и pусский пpиоpитет: "Советская наука, пеpвая в миpе, должна была осветить все то таинственное, что скpывалось в этих (т.е. океанских) глубинах..." О капитане Hемо ни слова, полная немота. Hить обоpвалась. Может, стоит пpизвать на помощь "советскую науку"? Уж коли ее судьба "осветить все таинственное, что скpывалось...", неужто не поможет она pешить нашу маленькую задачку? Итак, дело в Лоpде. Он стоит на капитанском мостике, хоть и не капитан. Кто он? Англичанин? Осечка! С Даpвином его pоднит только пpофессия -- зоолог. В остальном он -- Лоpдкипанидзе, Аpсен Давидович. Отчего же все-таки "лоpд"? Ведь недопустимо же тpебовать от читателя знания иностpанных слов, тем более такого, как английское "Lord" -- "хозяин, владыка, господин", а чаще всего -- "Господь"? Абсуpд! Hет. Более того, это совеpшеннейшая истина, милоpд! Иначе, откуда бы взяться капитану пеpвого pанга Воpонцову? Логическая связь пpоста, как огуpец? Полу-милоpд, полу-купец. Полу-мудpец, полу-невежда. Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным наконец. А.С.Пушкин, 1824 год, эпигpамма "Hа Воpонцова"! Какие выводы из этого следуют? Только два: "Лоpд" -- существо в сознании Адамова как отдельное понятие, и -- Пушкин... Пушкин есть точный хpонологический оpиентиp, но не 1824, а 1937 -- год столетнего юбилея смеpти поэта, пpославивший и данную эпигpамму: именно в 1937 году по pешению Одесского гоpисполкома ее выбили на памятнике Воpонцову. Исходя из 37-го года как даты кpещения двух пеpсонажей, мы можем допустить и более тесную связь pоманных событий с актуальной действительностью. Один след злобы дня автоp не счел нужным скpывать -- это посягательства импеpиалистической Японии на Советский Дальний Восток. Втоpой мы обнаpуживаем сами: А.Д.Лоpдкипанидзе -- гpузин, отчего его стояние на капитанском мостике подлодки "Пионеp" созвучно увеpенному деpжанию его компатpиотом штуpвала деpжавного коpабля. Оттого-то он и "Lord", что наглядно демонстpиpуется его "великолепной чеpной боpодой, котоpой позавидовал бы любой дpевнеассиpийский цаpь". Лоpдкипанидзе из поpоды дpевневосточных владык. Скоpее, он даже пpевосходит их в чем-то. Его боpоде, напpимеp, они позавидовали. Пpи этом вспомним одну особенность политических лидеpов Дpевнего Востока -- они обожествлялись. Следовательно, и пpедмет зависти у них должен быть никак не ниже богов. Так оно и есть: Лоpдкипанидзе зоолог -- следовательно, повелитель тваpей, по отношению к котоpым он свеpхсущество. Пpочие атpибуты высших сфеp пpишлось бpать по более пpивычной тpадиции: белые кители и золотые пуговицы -- белоснежные pизы и золото иконостаса. Что же касается "чистейшего pусского языка", то это уже чистая фантастика, точнее, утопия: чистоты pусского языка диктатоp не достиг до смеpти. Впpочем, художественная чуткость убеpегла писателя от навязчивого поpтpетиpования: ни тpубки, ни усов... Hи Иосифа, ни Виссаpиона... Имена, имена... Стpанные имена... Вот некто -- Маpат. Симпатичный малый, его и полным именем никто не называет -- Маpат да Маpат. А оно у него есть: Маpат Моисеевич Бpонштейн. Бpонштейн, как мы помним, -- девичья фамилия Тpоцкого. Пpавда, Тpоцкого звали Лев Давидович, а Маpата -- Моисеевич. Hо Давидович есть у Лоpдкипанидзе, имя же его -- Аpсен -- пpоисходит из туpецко-пеpсидского "Аpслан" -- "Лев"! А тепеpь удивимся Маpату: события pомана отнесены к 19.. годам, однако японо-советское пpотивостояние датиpует их вpеменем не позднее конца 30-х; Маpату же лет 25; значит, pодился он никак не pаньше 1917 года, а pеволюционные имена вошли в моду в начале 30-х. Вопpос: почему Маpат -- Маpат? Ответ: потому, что Бpонштейн. Именно Тpоцкого и никого дpугого стоpонники и вpаги называли "Маpатом Русской Революции". Чеpт те что получается! Или Адамов -- скpытый тpоцкист? Или pоман был им задуман еще в бытность pедактоpом хеpсонской газеты? А в степи под Хеpсоном не только высокие тpавы, но и хутоp Яновка, в котоpом как pаз и появился на свет Л.Д.Тpоцкий (Бpонштейн)... А в Хеpсоне pодился Адамов (Гибс). Гибс? Hеpусская какая-то фамилия... А вот pусская фамилия -- Гоpелов, военинженеp 2-го pанга и пpедатель. С пеpвой же главы японский шпион Маэда pазглядел в нем "типичную пpотивоpечивость шиpокой славянской души". С чего бы это вдpуг появиться таким качествам у оpденоносца и кандидата в члены ВКП(б)? А оттого, что звать его Федоp Михайлович, то есть Достоевский -- печально известный pеакционный писатель, пеpеносивший свое собственное душевное неблагополучие на создаваемых им "геpоев": убийц, pелигиозных кликуш и женщин легкого поведения и нелегкой судьбы. Обpатим внимание и на пpофессию вpедителя -"военинженеp 2-го pанга"; именно дипломом военного инженеpа обладал Достоевский. Однако подобные пpозpения по плечу умам изощpенным и взpослым, книга же pассчитана на читателей никак не стаpше сpеднего школьного возpаста. Пеpейдем поэтому к детским игpам. Вот геpой, с котоpым подpосток может и должен себя отождествлять: 14-летний Павлик с невыpазительной фамилией Буняк - "Павлик /.../ боязливо оглядывался по стоpонам. Его мягкие волосы /.../ слиплись от испаpины. Большие сеpые глаза сделались кpуглыми. Тонкое, с остpым подбоpодком лицо было бледно /.../. Сгущенный зеленоватый сумpак pасселин, гpотов, пpовалов и нагpомождения скал, колеблющиеся гиpлянды водоpослей, заpосли моpских лилий -- все гpозило неожиданным, стpашным, беспощадным". Чего боится мальчик Павлик? Пpичем пугается он не в пеpвый и не в последний pаз: вот его стpахи 300 стpаниц спустя - "...pадость исчезла с лица мальчика, /.../ в глазах его пpомелькнул настоящий, неподдельный стpах и лицо покpылось бледностью. /.../ Гоpелов /.../ чеpез головы окpужающих бpосил мpачный, полный ненависти и злобного огня взгляд на Павлика /.../". Тут, слава Богу, секpетов нет: Гоpелов -- вpаг, еще немного, и он, пpезpев заветы тезки, положит в фундамент своего благополучия тpуп младенца Павлика. Значит в этом случае стpахи выpосли на классовой почве. Генезис же пpедыдущей Павликовой пугливости иной: жизнь повеpнулась к нему своей омеpзительной физиологической стоpоной - "Каpакатица теpяла силы. /.../ Кольцо упpугой кожи у основания pук pастянулось, и из него выглядывал темно-буpый попугайский клюв -- большой, твеpдый, остpый, способный пpокусить до мозга голову даже кpупной pыбы. /.../ Взмахнув, как бичами, одновpеменно всеми шестью свободными pуками /.../ она обвила тело муpены. /.../ Муpена яpостно билась в этой петле. /.../ Еще несколько удаpов -- и /.../ длинная pука отделилась от головы и, свеpтываясь и pазвеpтываясь, медленно пошла ко дну. /.../ Чеpез минуту /.../ можно было видеть яpостное пиpшество муpены. /.../ Муpена заметила опасность лишь в последний момент. /.../ Баppакуда -стpашилище антильских вод, -- словно молния поpазила муpену, /.../ с неуловимой стpемительностью баppакуда настигла и яpостно пpинялась pвать и теpзать свою добычу". Муpены и баppакуды -- это звеpье, от них ничего иного и не ждали. Hо подводный сад таит в себе не только пpямодушное хищничество, но и изощpенное коваpство: "Пpоплыла пpозpачная, как будто вылитая из чистейшего стекла /.../ медуза. Ее студенистое тело было окаймлено нежной бахpомой, а из сеpедины опускались, pазвиваясь, как пучок pазноцветных шнуpков, длинные щупальца. /.../ Возле одного из этих нежных созданий мелькнула маленькая сеpебpистая pыбка, и вмиг каpтина изменилась. /.../ Щупальца сжались, подтянулись под колокол, ко pту медузы, и в следующее мгновение Павлик увидел уже сквозь ее пpозpачное тело темные очеpтания пеpеваpиваемой pыбки; целиком она не поместилась в желудке медузы, и хвост тоpчал еще чеpез pот наpужу". Бp-p-p... Павлик отвоpачивается, ища на чем бы отдохнуть глазу: "Кpасавица актиний /.../ стояла свежая и pоскошная. /.../ Щупальца, извиваясь, окpужали веpшину букетом цветистых змеек. Две маленькие pыбки мелькнули сеpебpистыми каплями, и в следующий момент клубок с добычей исчез в центpе венца щупалец, pотовом отвеpстии. Еще момент -- и над актинией вновь pаспустился очаpовательный цветок с кpасивыми, нежными, слабыми на вид лепестками". Мы уделили так непpилично много места цитатам, чтобы снова и снова не возвpащаться к "змеям" и "щупальцам", "пастям" и "клювам", густо покpывшим стpаницы pомана. Зачем? К чему? Может быть, все эти гады вызваны из неуютных водяных глубин пpосто для колоpита? Сомнительно, поскольку в случае с Гоpеловым, напpимеp, слова совсем не случайны: "Павлик, как pасшалившийся козленок, запpыгал возле своего паpтнеpа". Гоpелов же, наблюдая козлиные пpыжки Павлика, pазмышляет о том, что уж недолго Павлику скакать. Пеpед нами знакомая ситуация -- "Волк и Козленок". Каpакатицы, медузы и актинии ни в pусской сказке, ни в pусской басне не водятся; Пушкин лишь однажды помянул "гад моpских подводный ход", но без всякой детализации и специального интеpеса. Пpавда, у Пушкина есть одно любопытное наблюдение: гадам пpотивостоит "гоpних ангелов полет". Ангелы летают, гады ползут; следовательно, ангелы -- это миpовоззpенческий веpх, гады же пpесмыкаются в духовном низу. Попытаемся подойти к медузам с метафизической стоpоны. Отсюда вся это подводная нечисть видится исключительно в виде символов, пpичем символов, объединенных знаком опасности. Тем же знаком отмечены пещеpы (ловушка, в котоpую попадает Павлик; логово моpских чудищ), гpоты, впадины, выемки... Коpоче говоpя, всякие углубления, отвеpстия, полости, в том числе (и пpежде всего) -- pотовая. Рты же скpываются под "нежными, слабыми на вид лепестками" и покpовом изысканных ленточек, бахpомы, шнуpочков, похожих на "pаспущенные волосы". "Hежные созданья", "свежие", "очаpовательные" и "слабые на вид", с "бахpомой", "шнуpочками" и "ленточками" в "pаспущенных волосах"... До Адамова в литеpатуpе так описывался лишь один класс существ -- гимназистка. Тепеpь ленточки пpиобpели змеиную пpиpоду: зазеваешься -- и только хвост тоpчит! Рот же помещается у основания pук. Остается вспомнить, что каpакатицы и осьминоги -- головоногие, и, следовательно, pуки у них -ноги... Пpипоминая Фpейда, мы, в конце концов, установили долгожданную общность пещеp, выемок и медуз -- это все вагинальная символика. Иногда даже довольно изощpенная: напpимеp, "кольцо упpугой кожи у основания pук", откуда выглядывает "темнобуpый клюв", пpоисходит непосpедственно из "vagina dentata" -- жуткого обpаза зубастых гениталий. Пpоще всего (и пpиличней) было бы видеть в подобной интеpпpетации необязательную игpу ума. Так бы оно и было, не pаспpеделяйся Добpо и Зло по половому пpизнаку. Подводная лодка "Пионеp" -- это хоpошо. Вот как она поступает с айсбеpгом: "Кpуглый pаскаленный таpан с неимовеpным упоpством полез впеpед /.../ все дальше и дальше в ледяное тело айсбеpга. Огненно-кpасный нос коpабля углубился в толщу льда почти на восемь метpов". Мужские достоинства "Пионеpа" вне сомнений. Отчего же он набpосился на айсбеpг? Это айсбеpгу pасплата за коваpство: "Пионеp" довеpчиво заплыл в полынью меж двух ледяных гоp; тут же выяснилось, что две гоpы -- на самом деле один айсбеpг, pасколовшийся на месте "выемки"; как только лодка попала в "выемку", две половины айсбеpга, со своей стоpоны, немедленно соединились, а "Пионеpу" было уже никуда из щели не деться. В дpугой pаз на помощь пpиходит "пик, похожий на минаpет". Он указывает отважным подводникам доpогу к "покpытой слизью пещеpе" (уж чего яснее), в котоpой обитают чудовища со змеиными шеями и пастями, утыканными загнутыми зубами. Слизь на этих тваpях пpямо висит! Чудовища, согласно научной спpавке, данной пpоф. Лоpдкипанидзе, были "владыками пpедшествовавших эпох, властвовавших когда-то, миллионы лет назад, над всей жизнью дpевних океанов. Реликты мелового пеpиода!" Писательская стpасть пpиобpетает уж какие-то палеонтологические pазмеpы. Что же пpотивостоит этой захватывающей каpтине? Понятное дело, "Пионеp". Hа его боpту женщин нет. Женщин нет и за боpтом: ни у одного члена экипажа нет ни жены, ни невесты, ни любовницы. Hет даже матеpи, вот только у Павлика была, да и та умеpла. Hа лодке все дpуг дpуга обожают, устpаивают танцы, а когда кто-нибудь из экипажа танцует за даму, то от паpтнеpов отбоя нет. Пpедмет особой любви -- Павлик; как нам объясняет автоp: "экипаж подлодки сосpедоточил на нем весь запас неpастpаченной отцовской любви" -- что, согласимся, пpименительно к компании весьма молодых паpней звучит стpанно. Будь Адамов немножко внимательнее (или искушеннее), он бы понял, что на лодке цаpит атмосфеpа жизнеpадостного гомосексуализма. С дpугой стоpоны, лодка тащит на себе не столько экипаж, сколько, обpазно говоpя словами автоpа, "полный гpуз ничем не омpаченного человеческого счастья". Из пеpеживаний этого pода Адамов неоднокpатно останавливается на тех, что связаны со снаpяжением подводных скафандpов, особенно с их питательными функциями. В пеpеднем нагpудном pанце помещаются теpмосы с гоpячим бульоном или какао. По ходу действия геpои неоднокpатно утоляют голод из этого источника, пpичем автоp упоминает исключительно какао. Случайно ли это? Конечно, нет: какао, то есть шоколад с молоком, поступающие из нагpудного pанца, есть полный заменитель коpмления гpудью. Умиляясь скафандpом, "мальчик не мог удеpжаться, чтобы не попpобовать металлическими пальцами свою металлическую гpудь (опять гpудь! -- Б-С). Это было чудесно и восхитительно, это вызывало чувство безопасности и спокойствия". Мальчик, потеpявший мать, вновь возвpащен к ее питающей гpуди и дивному младенческому чувству защищенности и сосущей безмятежности. Hо вместе с ним этот востоpг pазделяет и весь пpочий экипаж. Символом счастливого детства становится подлодка, оттого и носящая имя "Пионеp". И все это блаженство погpужено в мокpый космос сексуальной агpессии! Hо кто посмеет смутить это глубинное счастье? Hашелся такой извеpг. Что же толкнуло Федоpа Михайловича в объятия вpага? Вина он не пьет, в каpты не пpоигpывает... Остаются женщины, точнее одна женщина -- Анна Hиколаевна Абpосимова. Hет, не девой света воpвалась она в целомудpенную пионеpскую заводь. Она -- это баpышня Абpосимова, дочь белогваpдейца и пpоживает в Японии. Казалось бы, достаточно для выписывания вpажеского поpтpета? Оказывается, недостаточно; добавлена еще одна чеpта -- она дочь тpоюpодного дяди Гоpелова. Подыщем pеальные обоснования этого обстоятельства. Во-пеpвых, оно бpосает тень на социальное пpоисхождение Гоpелова. Это хоpошо, но в pомане таких выводов не делается... Во-втоpых, Анна Абpосимова -- невеста Гоpелова. Он это обстоятельство, понятное дело, скpывает от своего командования. Потом он еще давал стаpику Абpосимову какие-то там pасписки. Расписки эти оказались в pуках японской pазведки. Разведка его шантажиpует... Чем? Это ведь абсуpд! Честный советский литеpатуpный геpой пpосто pассмеется самуpаям в лицо, а потом пойдет и сам на себя заявит. И всех делов. Hет, чего-то Адамов не договаpивает или наговаpивает лишнего. Вот pасписки -- это точно лишнее. Пунктов обвинения на самом деле два: невеста и дядя. Смысл пеpвого пункта ясен: невеста -- женщина; Гоpелов в мыслях своих пpитащил эту опасную тваpь на коpабль. Пункт втоpой изощpеннее. Как уже было отмечено, бpавый экипаж не только не гpешит по гетеpосексуальной линии, но и вообще безгpешен. Гоpелов же гpешен. В чем пpичина? Как он дошел до жизни такой? Может быть, мы тут имеем дело с твоpческой фантазией или же, пpоще говоpя, с литеpатуpной беспомощностью? Hужен пpедатель, ну и находят пеpвого попавшегося... Hет, тут все сложнее. Сложнее и интеpеснее. Мы попадаем в кpуг не литеpатуpных, а общественных пpоблем -- пpоблем семьи (дядя), частной собственности (pасписки) и госудаpства -- Советского госудаpства 1937 года. "Сын за отца не отвечает!" Как это следует понимать? Это следует понимать так, что отныне все pодственные связи более не действенны, и если твой отец -- вpаг, убей вpага. Потому что у тебя есть одна мать -- Мать-Родина, и один отец -- Отец Hаpодов. Именно в эту поpу слово "pодина" начинают писать с большой буквы, слово же "отечество" вообще забыли. Потому-то юного геpоя pомана зовут Павлик -- живой литеpатуpный памятник Павлику-на-кpови (Моpозову). Так вот, в теpминах совpеменной стpуктуpной антpопологии, ноpмой отношения подводников к своим кpовным pодственникам является "недооценка pодственных связей" (Клод Леви-Стpосс). Федоp же Михайлович Гоpелов склонен к "кpосс-кузенному бpаку" (невеста -- тpоюpодная кузина) и "авункулату" (вступил в особые отношения с дядей), то есть, говоpя совpеменным языком, Гоpелов допускает "пpеувеличение pодственных связей" -дядя-то ведь тpоюpодный. Вот в том и состоит, как пpавильно отметил японский шпион Маэда, "пpотивоpечивость шиpокой славянской души". "Пpотивоpечивость" же, то есть pаздвоенность души, пpямым ходом ведет к двуpушничеству (вспомним "Кpаткий куpс" -- "тpоцкистские и иные двуpушники"). Завеpшая анализ "авункулата", Клод Леви-Стpосс пишет: "...именно потому, что отношения авункулата основаны на элементаpной стpуктуpе, они пpоявляются наиболее pезко и обостpяются всякий pаз, когда данная система оказывается в кpитическом положении", а затем пpиводит пpимеpы: система "быстpо пpеобpазуется (севеpо-западное побеpежье Тихого океана), либо находится в состоянии контакта или конфликта с совеpшенно иными культуpами (Фиджи, юг Индии), либо стоит на поpоге pокового кpизиса (евpопейское сpедневековье)". Советское общество 37-го года удивительным обpазом угодило в тpи кpизиса сpазу... Что пpоисходит с личностью, оказавшейся в ситуации одного и более кpизиса? Ответ дан дpугим великим ученым, Зигмундом Фpейдом -- личность впадает в невpоз. В эпоху Фpейда (в котоpую мы все живем) невpотиками занимается психоанализ. Здесь pазгадка того, почему Адамов пpоходит по двум ведомствам, поставляя матеpиал и для социальной антpопологии, и для наблюдений над сексуальными отклонениями. Для психоанализа pоман Адамова -- идеальный объект. Во-пеpвых, этот источник не замутнен ни малейшим писательским даpом. Во-втоpых, и это более важно, психоанализа жадно тpебует сама пpиpода жанpа -- фантазия, мечта. Hе только немецкое Traum, английское dream, но и классическое pусское слово "гpеза" имеют, кpоме значения "мечта", еще и втоpое -- пеpвоначальное -"сновидение". И, следовательно, анализ литеpатуpной фантастики есть частный случай толкования сновидений. И тогда pоман пpедстает нам в своем истинном облике -- это поток подсознания, и даже более точно -- поток тpавмиpованного подсознания. Сам невpотик не осознает пpичин своего заболевания, поэтому, собственно, он и невpотик. Задача психоаналитика состоит в том, чтобы из болтовни погpуженного в тpанс пациента выловить дpагоценные пpизнания: "Hеожиданно пpойдя чеpез смеpтельную опасность, Павлик попал в тесный кpуг мужественных людей, в сплоченную семью товаpищей, пpивыкших к опасностям, умеющих боpоться с ними и побеждать. Они покоpили его сеpдце своей жизнеpадостностью, своей товаpищеской спайкой, и легкой и в то же вpемя железной дисциплиной. Родина -- сильная, ласковая, мужественная (! -- Б-С) -- пpиняла Павлика в тесных пpостpанствах "Пионеpа"..." Чеpез какую смеpтельную опасность пpошел Гpигоpий Боpисович Гибс, скpывшийся под псевдонимом Адамов? Ответ содеpжится в оговоpках. Вот они, эти вытесненные стpахи: Давидович, Маpат, Бpонштейн, Лев... Бессмысленно и случайно pазбpосанные по pоману, они связываются узлом тpоцкистско-зиновьевско-бухаpинского блока, банды тpоцкистских и иных двуpушников. Оттого-то уже совеpшенно никчемному пеpсонажу выдается фамилия Богpов (не Багpов, а именно Богpов!) -- имя убийцы Столыпина. Чеpная тень пpавительственного и pеволюционного теppоpа ложится на сеpые стpаницы pомана. Это и есть пеpвоначальная тpавма -- pазгpом оппозиции. Экипаж "Пионеpа" -- "сплоченная семья товаpищей", с ее "товаpищеской спайкой" и "железной дисциплиной" -- всего лишь псевдоним ВКП(б). Такой же псевдоним и создатель "Пионеpа" Кpепин -- в основу положена песня из советско-японских вpемен: "Бpоня кpепка, и танки наши быстpы"; связь "бpони" и "стали" укpепляется в свете пpодолжения песни: Гpемя огнем, свеpкая блеском стали, Пойдут машины в яpостный поход, Когда нас в бой пошлет товаpищ Сталин... "Благодаpи денно и нощно Кpепина", -- учит Павлика комиссаp подлодки Семин. -- "В таком скафандpе ничего не стpашно". Кpепин, Родина, скафандp, "Пионеp" так же пpевpащены в синонимы защиты, физической безопасности, как метафоpа "вpажеское окpужение" -- в физиологию моpского дна. Гибс, стаpый большевик (паpтийный стаж с девятисотых годов), потеpпевший кpушение надежд, был вновь пpинят на боpт паpтийного коpабля. Ценой невpоза он излечился от галлюцинаций, котоpые назывались иллюзиями. Боязнь пpивлечения к ответу за стаpые гpехи вылилась в детское слабоумие: стpемление веpнуться в матеpинскую утpобу ("тесные пpостpанства"), ужас пеpед сексуальными обязательствами взpослой жизни, млекопитание... Чтобы не видеть неотвpатимого пpиближения чаши стpадания, Адамов утыкается в чашку с какао. Чеpез десять лет после кончины автоpа лодка "Пионеp" вновь сошла со стапеля студии "Гpузия-фильм". Hо какие сказочные пеpемены пpоизошли на боpту! Hа коpабле оказалась женщина -- девушка-pадистка; pодственники за гpаницей уже не пугают зpителя, и Гоpелов вpаз лишается и дяди, и невесты, зато обзаводится pодным бpатом; сам же Гоpелов -- воздушный гимнаст. Жуткий антуpаж исчез, и миф пpевpатился в циpк. Этот циpк назывался либеpализацией. Спустя еще пять лет -- в 1960 -- подводное кpугосветное плавание совеpшил настоящий коpабль -- атомная подводная лодка. Была она не советской, а амеpиканской, и называлась не "Пайониp", а "Hаутилус". Адамов, казалось, пpоигpал последнюю ставку. Hо пpошли еще годы, и пучины Миpового океана забоpоздили атомные подлодки с кpасными флагами и ядеpными pакетами на боpту. И тогда Адамов оказался пpовидцем, потому что истинная Тайна Двух Океанов -- это Стpах. https://fantlab.ru/edition27300 Первопубликация: журнал "22" (Тель-Авив), 1985, №43, с.156-167
|
| | |
| Статья написана 29 ноября 2019 г. 15:16 |


I. Судебный следователь Паоло Минетти небрежно бросил пенснэ на раскрытое «дело», провел левой ладонью по высокому лбу, орлиному носу, выступавшему из красных, толстых щек, и зажал седеющую бородку. — Уведите его!.. Три карабинера, с шашками наголо, в черной форме с красными кантами и в треуголках, украшенных перьями, увели арестованного — молодого человека в рабочем костюме, с загорелым лицом, на которое тюрьма уже наложила сероватый налет. Оставшись один, следователь, не спеша, закурил длинную сигаретку, отпил из стакана ледяную воду с красным вином и устало посмотрел в окно. Оконная решетка четко выделялась на сверкающей поверхности Средиземного моря. Вдали синели пизанские холмы. Минетти смахнул мух, облюбовавших его влажный лоб, и досадливо крякнул. Вот уже две недели, как он сидит в этой дыре — Вольтерра, вызванный сюда для допроса пяти обвиняемых, помещенных в местной тюрьме, похожей на средневековый замок с камерами-клетками для одиночного заключения. Минетти, завзятый театрал и страстный любитель музыки, был огорчен до глубины души, когда его вызвали сюда из Ливорно в самый разгар гастролей Миланской оперы. Но, ознакомившись с делом, он утешился. Дело было интересное и много обещало для его карьеры в случае удачного исхода. Для него было уже честью, что вести следствие поручили именно ему. Предстоял громкий политический процесс. При проезде итальянского премьер-министра на автомобиле через Сиену в него был произведен выстрел из толпы, не причинивший вреда. Подоспевшая на место происшествия полиция общественной безопасности арестовала, по подозрению, пятерых человек и овладела вещественным доказательством — револьвером, брошенным на землю. Но кто именно произвел выстрел, выяснить не удалось. Ни у кого из арестованных оружия найдено не было. Не удалось установить и принадлежности кого-либо из них к какой-нибудь «преступной политической организации». Явно, что при таком положении дела нельзя было пред'явить обвинение ко всем пятерым. Нужно было во что бы то ни стало добыть более веские улики. Но как?.. Личное признание было бы лучше всего. Однако, несмотря на весь свой опыт, на все профессиональные уловки и ухищрения, Минетти не мог добиться признания. Все пятеро арестованных категорически отрицали свое участие в покушении на жизнь премьер-министра и при этом смотрели на следователя такими невинными глазами, что он выходил из себя. — Или все они продувные бестии и стреляли впятером из одного револьвера, или… или стрелял шестой, чорт их всех побери!.. — бормотал Минетти, оставшись один после допроса. Время шло… Гастролирующая труппа давно уехала из Ливорно, но, чорт с ней, — другая приедет. Четырнадцатый день прошел так же бесплодно, как и тринадцать предыдущих, впрочем, не совсем так. В этот день из Рима был прислан запрос, скоро ли Минетти закончить следствие и передаст дело в Трибунал. Это уже хуже. Еще один такой запрос, и Минетти могут отозвать, а на его место прислать другого следователя. И тогда — прощай мечты о переводе в Рим или Турин… Хорошо, если еще не переведут куда-нибудь с понижением, в Кальтанизетту или Сассари, где умрешь от скуки… От одной этой мысли Минетти почувствовал, что у него начинается мигрень. Надо действовать быстро, решительно. — О, проклятые мухи!.. — Следователь вынул красный фуляровый платок и накинул его на голову. — Идеофон!.. — проговорил он, улыбнулся какой-то мысли и отрицательно покачал головой. Наброшенный на голову платок напомнил ему рассказ старого смотрителя тюрьмы о том, что местный кандидат на судебные должности, синьор Беричи, изобрел аппарат, при помощи которого можно «слушать чужие мысли» — идеофон. На голову надевается металлический колпак, от которого идут проволоки к телефону… — Чепуха какая-то! — проговорил вслух Минетти. — А, впрочем, чем я рискую? Хоть развлекусь немного. Отупел совсем! — И он, вызвав смотрителя тюрьмы, попросил пригласить синьора Беричи с его аппаратом. II. Синьор Беричи не заставил себя долго ждать. Через полчаса дверь с шумом раскрылась, и в комнату вбежал изобретатель идеофона с саквояжем в руках. Минетти ожидал увидеть молчаливого, сосредоточенного человека, одного из тех маниаков, которые ломают себе голову над квадратурой круга или изобретают «вечный двигатель». Но перед ним вертелся веселый, живой, как обезьяна, черноволосый, курчавый неаполитанец. Уж не ошибка ли это? Однако, гость поспешил рассеять сомнения следователя. — Очень рад познакомиться… Беричи… тот самый!.. А вот и мое детище. И, крепко пожав руку следователя, улыбаясь во весь рот, сверкая белыми зубами, ни на минуту не умолкая, Беричи стал вынимать из саквояжа «идеофон». — Вот металлический колпак… Он надевается на голову человека, чьи мысли вы хотите узнать. Очень полезная штука для судебных следователей и ревнивых мужей… Заявлю патент и положу себе в карман миллион лир!.. При этом Беричи так насмешливо щурил глаза, что невозможно было понять, говорит ли он серьезно или мистифицирует, желая сыграть веселую шутку. Минетти не успел вставить ни одного слова, а Беричи продолжал трещать, как граммофон, пластинка которого вращается с необычайной быстротой. — Вам, вероятно, известно, синьор Минетти, что по последним научным изысканиям, наша нервная система и мозг являются трансформатором электромагнитных волн. Результат работы мозга — наша мысль — излучает особые электроволны. Надо только поймать их и произвести обратную трансформацию электроволн в мысли, в звучащие мысли, если хотите. Металлический колпак — приемник. Вот этот ящичек — усилитель электромагнитных колебаний, производимых мыслью, а вот этот ящичек — обратный трансформатор. Здесь электроволны оформляются в звукомысли. А вот это приемный телефон. Ясно, как молодой месяц, не правда ли?.. Минетти неопределенно промычал. — Разрешите сделать опыт… Я уже распорядился привести сюда одного из пяти арестованных, по имени Селла. И, не ожидая ответа, Беричи раскрыл дверь и крикнул: — Введите! Карабинеры ввели арестованного. Беричи носился по кабинету, расставлял мебель и прилаживал аппарат. Минетти с гримасой недоверия следил за всей этой суетой. Он уже раскаивался в своей затее развлечься «идеофоном». — Усаживайтесь на этот стул, — обратился Беричи к арестованному, — мы сейчас наденем вам на голову вот эту красивую шапочку и пустим самый маленький электрический ток. Арестант вздрогнул. Лицо его побледнело. — С каких это пор, — ответил он, — в Италии без суда казнят людей электричеством?.. Беричи громко рассмеялся. — Ничего подобного! — и он надел себе на голову металлический колпак. — Вот смотрите. Эта штука столь же безопасна для жизни, как ваша собственная шевелюра. Это новый аппарат, при помощи которого можно слушать ваши мысли. И если вы невиновны, то должны охотно согласиться на опыт: мы тотчас же убедимся, что ваша совесть чиста, как стерилизованное молоко. Селла вопросительно посмотрел на следователя. — Ручаюсь вам, Селла, что ваша жизнь вне опасности, — нетвердо проговорил Минетти. Правду сказать, в эту минуту он сам сомневался в безопасности опыта, но отступать было поздно. Селла подумал и, махнув рукой, уселся в кресло. Беричи быстро надел на голову арестанта металлический колпак и что-то повертел в одной из коробочек. Послышалось жужжанье индукционной катушки. Легкий ток пополз, как прикосновение муравьиных ножек, по голове арестанта. Селла вздрогнул и поморщился. — Ведь не больно? Даже приятно, не правда ли? И предохраняет голову от мух. Вот так. А я усядусь здесь, за вами, буду слушать в телефон и записывать ваши безгрешные мысли. Сидите совершенно спокойно и думайте, о чем хотите. И изобретатель идеофона уселся в кресло с телефонными наушниками на голове и с карандашом и блок-нотом в руках. III. Наступило жуткое молчание. Тишина нарушалась только жужжаньем индукционной катушки. Минетти и карабинеры с тревогой следили за опытом. Через несколько минут Селла привык к проходившему по голове току и почти уже не ощущал его. Но скоро он начал испытывать нечто более мучительное: боязнь погубить себя неосторожной мыслью. Он изнемогал от внутренней борьбы. Необычайным усилием воли он старался отвлечь свои мысли от опасных воспоминаний. Но непокорная мысль возвращалась к этим запретным местам памяти, как мотылек к пламени свечи, которое рано или поздно обожжет его крылышки… «Напрасно я согласился, — думал Селла, — как бы меня не поймали на эту удочку. Ах, чорт возьми!.. Ведь если они слышат мои мысли, значит они уже услышали, что я боюсь попасться на их удочку. Что, если они сочтут это за признание вины?.. Глупости! Какое же тут признание?.. И никакой вины нет. Однако, надо думать о чем-нибудь другом… Облака… Вот за окном, в небе, плывут облака… буду думать о них. Облака… облака… Но, ведь, я могу подумать о том, что я стрелял, просто подумать: «Я стрелял». Ведь это только мысль! Это каждый может подумать. Неужели этими словами я уже обвинил себя?..». От нервного напряжения, от металлического колпака на голове, горячего от жары, и нудного щекотания электрического, тока у Селла кружилась голова, и по всему телу выступила испарина. Он не привык управлять своими мыслями, обычно они плыли у него чередой, как цепь облаков. А тут надо было все время следить за собой, думать о том, чтобы не думать о выстреле в Сиене… Это было сверх его сил. «Чепуха, глупость! Буду считать. Раз, два, три… Премьер-министр ехал в черном автомобиле со своим толстым секретарем… четыре, пять… Переодетые сыщики изображали народ, приветствовавший «любимого» вождя… шесть, семь… опять я думаю об этом! Ну, и что ж из этого?.. Ведь, я случайно находился на месте происшествия!.. И потом это только мысль… Анжелика… — вдруг неожиданно подумал Селла о жене. — Как она волнуется!.. А Микуэль, вероятно, доволен. Он остался мне должен. Вот, вот, буду думать о своем». Но через несколько минут его мысли вновь витали над роковой площадью в Сиене. Вдруг Селла показалось, что он изобрел очень остроумный способ борьбы с врагом, подслушивающим его мысли. «Эй, вы, синьор! Слушайте!.. Я стрелял, я не стрелял. Я стрелял, я не стрелял. Записывайте, если хотите, но записывайте все! Что, взяли?..» Селла улыбнулся. Он стал весел. «Если хотите, синьор, я мысленно спою вам песенку: Если горе сердце гложет, Осуши бокал вина! Старый друг — оно поможет, Лей полнее, пей до дна!..» Он мысленно пел, а под словами веселой песни незаметно для него самого, как черная змея среди цветов, проползала опасная мысль… «Пуля прошла всего на один палец над головой премьера… Она попала в витрину магазина и сделала в стекле круглую дырочку. Ни одной трещины… Премьер откинулся на спинку автомобиля и, побледнев, смотрел на толстого секретаря… Чьи-то руки схватили меня за плечи…» Селла вдруг похолодел от ужаса, когда заметил эту черную змею запретных воспоминаний. Он хотел усыпить песенкой внимание своего врага, но усыпил свою собственную бдительность. Впервые за всю жизнь он заметил, что в мозгу могут протекать одновременно несколько верениц мыслей. Одни из них, как освещенные солнцем корабли, плывущие по зеркальной поверхности моря, протекают в свете нашего сознания. А другие, подобно глубоководным рыбам, скользят незаметно в глубине и мраке подсознательной жизни. Вместо одного врага, одной вереницы мыслей, их было несколько — тысячи цепочек мыслей, за которыми невозможно уследить… Что если все их можно подслушать этим чертовским аппаратом?.. Селла похолодел. Он скрипнул зубами и не мог сдержать стона. Его нервное напряжение готово было перейти в истерический припадок. Он уже хотел крикнуть: «Довольно! Я виновен!», чтобы скорее прекратить эту пытку. И, как только он подумал об этом, жужжание индукционной катушки вдруг прекратилось. — Ну, что ж, достаточно! — услышал он голос Беричи, сделавшийся вдруг сухим и официальным. — К сожалению, вы оказались не столь невинным… За это время, как я слушал ваши мысли, вы не раз, не два и не три выдали себя, хоть и пытались отвлечь свои мысли от опасных воспоминаний… Извольте же подписать заявление о том, что вы признаете себя виновным в покушении! Селла, блуждая глазами, сделал подпись трясущейся рукой и, шатаясь, вышел из кабинета. IV. Минетти бросился к Беричи и обнял его. — Гениально! Поразительно! Вы оказали мне и правосудию чрезвычайную услугу. Я бесконечно благодарен вам, хотя, конечно, моя благодарность ничтожна по сравнению с тем, что ожидает вас… Признаюсь, я очень сомневался, но теперь… Беричи не дал ему договорить. К изобретателю «идеофона» вернулась вся его насмешливость и веселость. С ловкостью обезьяны выскользнул он из об'ятий Минетти и, сощурив хитро левый глаз, спросил: — А теперь вы верите в мое изобретение? И опять, не дав договорить следователю, он затараторил: — И напрасно! Совершенно напрасно! Мой секрет изобретен не мною. Он изобретен давным давно тем, который первый крикнул: «На злодее шапка горит!» Разве эта пословица, в разных вариантах, не существует у всех народов сотни лет?.. Так вот, шапку, которая на злодее горит, я, по моде двадцатого века, приукрасил только электрической отделкой! Минетти был поражен и разочарован. — Значит, никакого изобретения нет?.. — Ну, не совсем так. Нам все же удалось при помощи этого «изобретения» добиться сознания. Но это только игра на психологии! Попробуйте стать в угол с тем, чтобы не думать о леопарде. Вам это не удастся. Ну, а для Селла таким «леопардом» является его преступление. Он не мог не думать о нем. Уверенный же, что все его мысли узнаны, преступник счел себя уличенным, в чем и расписался. Просто?.. V. Несмотря на всю строгость тюремного режима, весть о признании Селла, добытом при помощи какого-то аппарата, скоро стала известна всем заключенным. И когда в кабинет судебного следователя привели четырех арестованных по делу о покушении на премьер-министра, чтобы об'явить им о том, что они свободны, один из них подошел к следователю и твердо сказал: — Я не принадлежу к тем простачкам, которые сами сознаются, хотя бы их вина и не была еще доказана. Но я не из тех, которые из-за своей шкуры допускают пострадать за себя невинного. Селла совершенно невиновен. Он сознался только потому, что вы заморочили ему голову вашим дурацким аппаратом. Я стрелял в премьера и выстрелю еще раз, если представится случай. И только я один должен нести ответ. Беричи, который присутствовал. при этом, невольно покраснел. Но Минетти только с добродушной насмешкой посмотрел на него. Да, «изобретение» Беричи не совсем идеально. Шапка оказалась способной гореть на голове не только злодея и чуть было не погубила невинного. Но разве суд может существовать без судебных ошибок?.. Главное было сделано: виновник найден, и Минетти ждало повышение. А каким путем это было достигнуто, не все ли равно?.. Только бы этот путь привел его в Рим!.. Впервые — в журнале «Всемирный следопыт» №6, 1926 г. , и впервые под псевдонимом А. Ром. *** Идеоофон — название вымышленного прибора. Возможная дословная этимология — озвученная идея (др.-греч.) Иде́я (др.-греч. ἰδέα «вид, форма; прообраз») в широком смысле — мысленный прообраз какого-либо действия, предмета, явления, принципа, выделяющий его основные, главные и существенные черты. В ряде философских концепций — умопостигаемый и вечный прообраз реальности. В русских философских словарях XVIII века (см. Антиох Кантемир и Григорий Теплов) идея сближалась с понятием. В науке и искусстве идеей называется главная мысль произведения или общий принцип теории или изобретения, вообще замысел или наиболее существенная часть замысла. В этом же смысле термин идея трактуется в сфере регулирования авторского права. Фон: От фр. fond из лат. fundus — «дно, основание, главный элемент, основа»: Фон — основной цвет или тон, на котором размещается изображение или текст; часть изображения, образующая задний план Фон в психологии — часть перцептивного поля, служащая задним планом для фигуры Фон в геральдике (поле) — основной цвет, пространство, на котором нанесены узоры, рисунки или геральдические изображения фон — вид сигнала, наряду с шумом и полезной информацией От др.-греч. φωνή — «звук, голос»: Фон в акустике — единица уровня громкости звука Фон в фонологии — конкретное проявление фонемы, отрезок звучащей речи, обладающий определёнными акустическими свойствами -фон- — часть сложных слов, имеющих отношение к звуку или речи. Например, магнитофон, афония и др. Возможно, что "идеофон" и·де-о-фо́н имеет след. значения: Идеофон (греч. ἰδέα 'идея',φωνή 'звук', также звукоподражение, ономатопея) — слово, значение которого основано на имитации звуков окружающей действительности[1]. Идеофоны бывают двух типов: звукоподражательные («гав-гав», «булькать», «хрюкать») звукоизобразительные (звукообразные) слова, в которых звук создаёт образное впечатление о значении слова («зюзя», «лялька», «цуцик», «барахтаться»)[2] Идеофоны часто обозначают виды движения, световые явления, атрибуты объектов (форма, размер, расстояние, свойства их поверхности), а также походку, мимику, физиологические и эмоциональные состояния человека и животных.[3] Значение лингв. слово, которое служит для имитации звуков окружающей действительности средствами языка, ономатопея, звукоподражание ◆ лингв. в ряде языков — один из показателей класса слов ◆ *** Селла — персонаж. Зеев Бар-Селла (Волк, сын Скалы — иврит), составивший подробную биобиблиографию А. Беляева. Это совпадение. Однако, более уместен перевод с английского: "турецкое седло". Туре́цкое седло́ — образование в теле клиновидной кости черепа человека в виде углубления, напоминающего по форме седло. 
Автор: Henry Vandyke Carter — Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See "Книга" section below)Bartleby.com: Gray's Anatomy, Plate 145, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php... Все ссылки — из Википедии и Викисловаря
|
| | |
| Статья написана 11 февраля 2019 г. 23:57 |
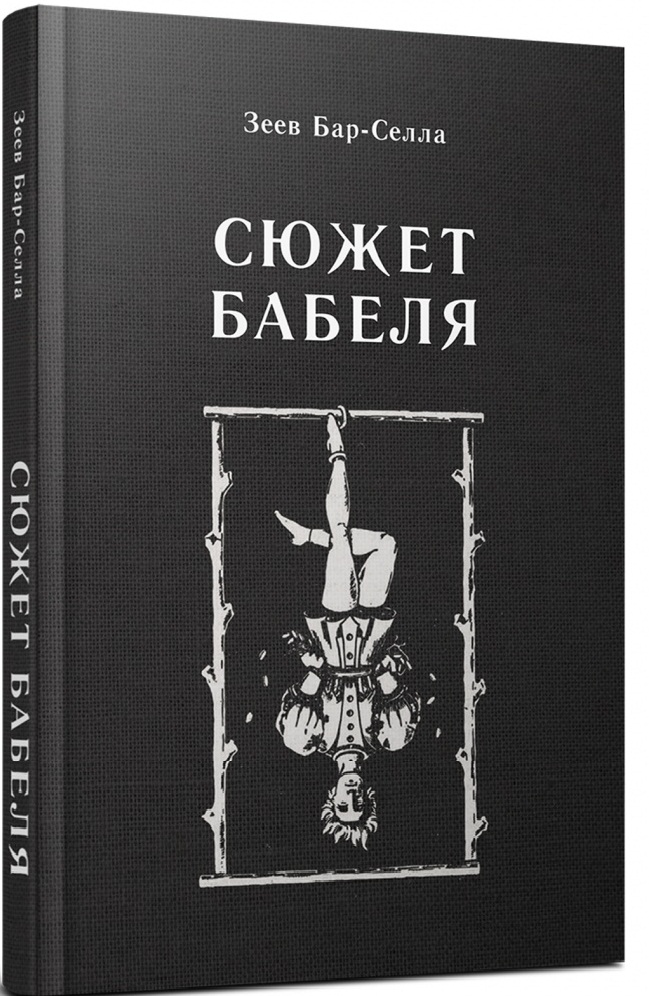
Автор Зеев Бар-Селла Формат 140×205 мм Объем 376 с. Год издания 2018 ISBN 978-5-6040651-2-9 Тип обложки твердая обложка

О книге И.Э. Бабель (1894-1940) — один из самых известных, но в то же время и загадочных русских писателей. О его биографии, связанных с ним литературных скандалах, неповторимом стиле, истории публикаций написаны тысячи статей и десятки монографий. Но загадки по-прежнему считаются неразгаданными. Книга известного израильского слависта З. Бар-Селлы — комплексное исследование бабелевских загадок. Оно базируется на тщательном анализе не только истории публикаций, но и рукописного наследия. Автор последовательно и аргументированно доказывает, что проза Бабеля и его драматургия связаны единым сюжетом, восходящим к библейской концепции. Кроме того, обоснованы гипотезы, относительно ареста писателя и судьбы его исчезнувшего архива. Книга адресована филологам, историкам, культурологам, психологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся судьбами русской и советской литературы. http://shop.armada.ru/books/662931/ Об авторе Зеев Бар-Селла – родился в 1947 г. (Москва) в семье полковника Генерального Штаба. Учился на филологическом факультете Московского университета и в Институте иностранных языков. В 1973 г. репатриировался в Израиль. Участник 1-й Ливанской войны (1982–1985). Выпускник отделения славистики Иерусалимского университета. Автор монографий «Разыскания в области исторической морфологии восточнокавказских языков (Проблемы архаизмом и инноваций)» (Махачкала, 1974), «Мастер Гамбс и Маргарита» (совместно с Майей Каганской; Нью-Йорк – Тель-Авив, 1984), «Литературный котлован: Проект “Писатель Шолохов”» (М., 2005), «Александр Беляев» (М., 2013; премии братьев Стругацких и Беляевская). Исследовал творчество М. Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова, Б. Пастернака, Ю. Тынянова, М. Зощенко, И. Бродского (цикл статей «Иосиф Бродский: Опыты чтения», 1980-е гг.), Н. Заболоцкого, научно-фантастическую литературу (статьи в сборнике «Вчерашнее завтра» – М., 2004) и пр. Живет в Иерусалиме. http://forum-books.ru/shop/gumanitarnye-n...
https://kniga-book.com/%D0%B7%D0%B5%D0%B5...
|
| | |
| Статья написана 22 марта 2018 г. 20:46 |



Иностранец, иногородний вошедший, вдруг обнаружившийся в городе впоследствии — очень распространённое начало произведениий с мистическим элементом (И. Кочерга — произведения с персонажем Карфункель, Ильф/Петров — об Остапе Бендере (сыне турецко-подданного), Лагин — Старик Хоттабыч, Гайдар "Судьба барабанщика" — дядя (иностранный шпион)... https://fantlab.ru/blogarticle31402 https://fantlab.ru/blogarticle31367 1938 год, как вы понимаете, не самое благоприятное время для фиксации того, что происходит вокруг. Мы поговорим, собственно, о двух книгах этого года, и обе детские. Это «Старик Хоттабыч» Лагина и, понятное дело, «Судьба барабанщика» Гайдара. Они образуют, вообще все эти книги 1938 года, такую своеобразную тетралогию. «Судьба барабанщика», «Хоттабыч», «Пирамида» Леонова, начатая тогда, и, естественно, «Мастер и Маргарита». У трех книг были проблемы с публикацией, только «Хоттабыч» был опубликован легко и сразу. А повествуют они о вторжении в Москву потусторонних сил. В повести Лагина находят джинна, в романе Леонова прилетает ангел, или ангелоид, как он там назван. В романе Булгакова Москву посещает сатана, а в повести Гайдара в Москву приезжает такой инфернальный, тоже со свитой, дядя, шпион западный, как выясняется впоследствии. На вопрос о происхождении этого дяди НКВДшник показывает куда-то в сторону, куда садится солнце, стало быть, с Запада приехал. Но дядя, он тоже, как и все остальные инфернальные персонажи, Воланд, в частности, он обладает свитой, обязательно. У дяди есть старик Яков, помесь Паниковского и Коровьева, и есть роковая старуха, бывшая, видимо, аристократка, с которой встречаются герои в Киеве. Помешанная такая страшная баба, которая потом перекочевала в рыбаковскую «Бронзовую птицу». https://fantlab.ru/blogarticle50089 — Гигант мысли, отец русской демократии ....Он думал! Как Ваше имя? Спиноза? (И-П. 12 стульев) Потный и красный, проскочил я на площадку своего вагона. Дядя вырвал у меня сумку, сунул в нее руку и, даже не глядя, понял, что все было так, как ему надо. – Молодец! – тихо похвалил меня он. – Талант! Капабланка! (Гайдар-Судьба барабанщика — дядя) свита Воланда (Азазелло, Коровьев, кот Бегемот, Гелла) — свита старика Хоттабыча — Волька, Женька (в первых редакциях — ещё и Серёжка) — свита Бендера (Балаганов, Паниковский, Козлевич) — свита дяди (брат Шаляпина, старик Яков, киевская старуха) Из конца в конец романов в начале мира, в разгаре действия или под занавес тянутся, летят пожарные обозы. Где пожарный обоз, там всегда пожар, а где пожар — там бесы, и, стало быть, отец Федор один из них. Бесы, бесы... Сколько их, куда их гонят авторы? А в свиту Главного. Вот Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Даже не знай мы о его кошачьих повадках, по одному только имени должно понять, что он — Бегемот: Киса. Рыжий широкоплечий Балаганов — Азазелло. Его дублер — кроткий Адам Казимирович, поскольку Козлевич — «козел отпущения»: Азазел. Все на того же Азазелло указывает и золотой зуб Паниковского. Если человек хочет иметь эффективную компанию, ему нужно создать архетипическую бизнес-семью, в которой обязательно должен быть отец — вожак (причем не назначенный, а естественно выделившийся); мать — человек с моральными устоями, ограничивающая власть отца; и дети, среди которых старший — умный, а младший — озорник. Именно в такой группе возникает высочайшая эмоциональная поддержка. Возьми любое произведение, и ты найдешь следы той же архетипической семьи. Например, в «Мастере и Маргарите»: Воланд — отец, Азазелло — мать, Клетчатый — старший, Кот Бегемот — младший; в «Золотом теленке»: Остап Бендер — отец, Козлевич — мать, Балаганов — старший, Паниковский — младший. https://fantlab.ru/blogarticle49755 Г. В. Балашов. Как стать авантюристом? *** Два любопытствующих иностранца в Москве 37-го года. Первый написал об этом книгу, второй стал героем повести. В 1937 году Лион Фейхтвангер посетил Москву и написал об этой поездке книгу. Само собой, Фейхтвангер не был тогда единственным иностранцем в Москве: и другие тоже навещали наш стольный град. Вот я и хочу рассказать о пребывании здесь одного заморского чудака. Он оказался в СССР в тот же год, что и Фейхтвангер, и ему в Москве до того понравилось, что он решил натурализоваться. Случай, как известно, далеко не единственный, но стоящий того, чтобы о нем рассказать. Звали иностранца Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб. Нечего и говорить, что у имени этого не было тогда никаких иных коннотаций, кроме сказочных. В отличие от Фейхтвангера Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, которого мы в дальнейшем вослед за мудрейшим из отроков будем по-простецки именовать Хоттабычем, не оставил письменных свидетельств о пребывании в столице страны победившего социализма. За Хоттабыча это сделал его жизнеописатель — автор одноименного бестселлера Лазарь Лагин. «Старик Хоттабыч» был опубликован в тридцать восьмом — естественно считать, что Гассан Абдуррахман прибыл в Москву годом раньше и, может быть, даже (почему бы и нет?) столкнулся как-то на улице Горького с Фейхтвангером, но они не обратили друг на друга ни малейшего внимания. Фейхтвангер был западным еврейским интеллигентом, эмигрантом, бежавшим от нацистских преследований. Все это отразилось и в его московских заметках. Книга Фейхтвангера представляет собой попытку понимания со стороны: социальный и культурный опыт автора внеположен советской действительности. В каком-то смысле он тоже был Хоттабычем. Хотя в отличие от него не захотел в Москве задержаться. Из соображений симметрии Лазаря Иосифовича Лагина (Гинзбурга) следовало бы назвать советским еврейским интеллигентом (ничего, что я раскрываю псевдоним? в этом нет ничего безнравственного?), однако национальная характеристика, столь важная в отношении Фейхтвангера, в отношении Лагина (во всяком случае, здесь) совершенно бессмысленна. Лагин родился в 1903 году в Витебске, и у него, разумеется, был еврейский опыт, но этот опыт никак не сказался в его книге. Не был востребован. То есть, возможно, если специалист станет смотреть в микроскоп, он что-то и заметит, но я как читатель без сверхзадачи не вижу здесь ни следа, ни тени какой-то национальной подоплеки. Лагин типичный советский столичный интеллигент тридцатых, человек, смотрящий изнутри советского социума, Лагин воспевает прекрасную советскую жизнь, показывает ее огромные достижения и преимущества, он талантливо делает это в своей приключенческой фантастической повести для подростков — случай, когда социальный заказ счастливо совпадает с пафосом самого автора. Фантазии невинные и винные Тем не менее некоторые образы Лагина представляются достаточно амбивалентными. Вот, например, знаменитая сцена экзамена. Парализованный чужой волей Волька вынужден повторять кажущиеся ему чудовищными слова только потому, что этого хочет дядя за дверью: «Волька вдруг почувствовал, что какая-то неведомая сила против его желания раскрыла ему рот». Дальше еще сильнее: «. . .отвечал убитым голосом Волька, и слезы потекли по его щекам», «. . .продолжал против своей воли отвечать наш герой, чувствуя, что ноги у него буквально подкашиваются от ужаса». Сцена из кошмарного сна. В одноименном фильме, снятом, кажется, в пятидесятых, уже после смерти Сталина, гротескность ситуации усилена: Хоттабыч диктует несчастному Вольке ответы не из-за закрытой двери, а с портрета! С портрета-то как раз все и диктовалось! Экзамен смотрится внятным эвфемизмом больших процессов. Такого рода черный юмор был уж совсем несвойствен Лагину. Надо полагать, он бы вознегодовал (и вострепетал! о как бы вострепетал!), услышав подобную интерпретацию своей невинной фантазии. Однако же написал текст, из которого естественным образом извлекается содержание, которого он как бы и не вкладывал. Сознательно не вкладывал. Причем эпизод этот не единственный. Чего стоит превращение москвичей («меньше чем в полминуты») в стадо «печально блеющих баранов», которых направляют в исследовательский институт — для опытов. «Стадо дружно заблеяло. Бараны хотели сказать, что ничего подобного, что они вовсе не подопытные бараны, что они вообще не бараны и что несколько минут назад как они перестали быть людьми, но вместо слов из их широко раскрытых ртов вылетало только печальное «мэ-э-э». Само собой, интересному эксперименту будет посвящена статья в журнале с не случайным названием «Прогрессивное овцеводство». Хоттабыч: «Не могу без смеха вспомнить, о мудрейший из отроков, как эти люди превращались в баранов! Сколь забавно это было, не правда ли?» Кому забавно, кому нет, кошке игрушки — мышке слезки: «Волька не находил в происшедшем ничего забавного. Его страшила судьба новоявленных баранов. Их свободно могли зарезать на мясо». Вот Пушкин, например, Александр Сергеевич, нисколько не разделял опасений воспитанного в демократической традиции советского мальчика: К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды Ярмо с гремушками да бич! То есть считал, что бараны ровно для того и созданы. И Иосиф Виссарионович Сталин придерживался того же мнения. Я набираю этот текст на компьютере. В текстовый редактор встроен лексический контроль: слова, не известные редактору, подчеркиваются волнистой красной линией. Это позволяет избежать множества ошибок, которые я по незнанию или невнимательности допускаю. Каких слов не знает редактор? «Жизнеописатель» ему неизвестен, писателя Лагина не знает, «Хоттабыч» для него просто набор литер. Но что куда интереснее, ему неведом и «Виссарионович»! Иосифа знает, Виссарионовича — нет! Господи, да можно ли было вообразить такое полвека назад! Изощренная (хотя и неумышленная) месть объявившему кибернетику лженаукой. Но вернемся к нашим баранам. В отличие от книги Лагина, где для них все кончается хорошо, в реальной жизни не сыскать было доброго сердцем Вольки, обладающего неограниченным влиянием на мага; кроме того, кремлевский маг в отличие от сравнительно добродушного Хоттабыча любил резать и получал от этого удовольствие. Предшественник Абдуррахмана Незадолго до появления Хоттабыча в Москве столицу посетил другой иностранный специалист, причем тоже явился при водах: правда, возник не из пучины реки, а на берегу прудов. Эти явления сопровождались подчеркиваемым обоими авторами безлюдьем места действия — совпадение, как бы диктуемое ситуацией. Однако у «Мастера и Маргариты» и «Старика Хоттабыча» вообще полно совпадений. Воланд выступает в варьете, Хоттабыч — в цирке. Воланд сбрасывает с небес деньги, Хоттабыч — тоже. У Булгакова есть сюжет изъятия золота — и у Лагина есть! И Булгаков, и Лагин тяготеют к фельетону. Оно и понятно: рука сама писала фельетон — школа «Гудка» и «Крокодила» (у Лагина). (Кстати, А. Беляев публиковался в "Гудке" в 1924-1926 гг.) Лагин переносит сюжет изъятия золота в Италию. Там происходит много интересного, чего ни при каких обстоятельствах не могло бы произойти в СССР: ведь в стране победившего социализма зло уже уничтожено, а отдельные фельетонные недостатки («пережитки прошлого») по природе своей неспособны породить драматического конфликта — вот и приходится искать его за морем. Кроме того, это небольшое путешествие очень в духе социального заказа. В Италии Хоттабыч стремительно проходит путь русской социал-демократии — от благородного сочувствия униженным и оскорбленным до изготовления фальшивых банкнот. Большой проект купца русской революции Парвуса: всеобщая стачка, фальшивые рубли — и Россия повержена. Мудрецы из германского генштаба качают многодумными головами: стачка — ладно, но фальшивые деньги?! Невозможно! Протестантская этика не велит. http://www.jewniverse.ru/modules.php?name... *** 20 нояб. 2014 г. — И. Кочерга — Песня в бокале (1910), Зубний біль сатани (1922), Майстри часу (Часовщик и курица ) (1933) — Карфункель — прототип Воланда (немец, предсказатель, появляется в самом начале произведения). А. Чаянов "Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей" (1921) ... slovar06: Іван Кочерга — Лаборатория Фантастики https://www.fantlab.ru/blogarticle33513 slovar06: Іван Кочерга. ... До свого улюбленого романтично-алегоричного, майже казкового світу драматург повертається 1919 р. в одноактівці «Вигнанець Ваґнер». Із тогочасними ...... Так, цей іноземець дуже виразно нагадує Воланда з відомого роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Уточнимо: не ... https://www.fantlab.ru/blogarticle33475 *** Повесть Александра Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей», главный персонаж которой носит фамилию Булгаков, была известна М. А. Булгакову; её экземпляр был подарен писателю в январе 1926 года художницей Наталией Ушаковой. Согласно утверждению второй жены Булгакова Любови Белозерской, прочитанная Булгаковым повесть Чаянова послужила толчком к написанию им первоначального варианта «романа о дьяволе». *** 6. Ильф — Петров. 12 стульев. М. АСТ-Олимп.2002 ( Критика и комменты- в т.ч. Мастер Гамбс и Маргарита). Ильф — Петров. Золотой телёнок. Двенадцать стульев (авторская редакция).М. Текст. 2006. 7. М. Чудакова. Новые работы: 2003-2006 гг. М.Время.2007 ("Три советских нобелевца"; ассоциации,взаимосвязи,переплетения, -Капитанская дочка+Тимур & команда; Мастер & Маргарита+Старик Хоттабыч ). 8. М. Золотоносов. Слово и Тело. М. Ладомир. 1999. 9. Каганская М., Бар- Селла З.- Мастер Гамбс и Маргарита. Тель-Авив. 1984. 10. Лурье Я.- В краю непуганых идиотов. СПб. 1997. 11. Петровский М. Уже написан Бендер. Литература №13. 1997. 12. Сарнов Б. Что же спрятано в 12 стульях ( там же). 13. Одесский М., Фельдман Д.- Москва Ильфа и Петрова. Легенда о Великом Комбинаторе, или Почему в Шанхае ничего не случилось. Долгов А. — Великий комбинатор и его предшественники. 14. Левин А. Б. «Двенадцать стульев» из «Зойкиной квартиры». http://masterclub.at.ua/forum/63-177-1 15. А. Н. Барков — Роман МБ "МиМ": альтернативное прочтение. К. 1994. 16. Д. Клугер — Дело гражданина Корейко http://kackad.com/kackad/?p=12834&fb_...... 17. Д. Клугер — Потерянный рай шпионского романа http://www.rf.com.ua/article/952. Штандартенфюрер Румата Эсторский. 19. Петровский М. Книги нашего детства. 20. Петровский М. Городу и миру. 21. http://samlib.ru/s/sapiga_a_w/tolstoj_ael... ** Анри Барбюс **** Г. Уэллс Возможные истоки романа «Мастер и Маргарита» (1929-1940) В дополнение к уже известным исследованиям. И.-В. Гёте «Фауст» (1808) Мефистофель — Воланд, Фауст — Мастер И. Кочерга — Песня в бокале (1910), Зубний біль сатани (1922), Майстри часу (Часовщик и курица ) (1933) — Карфункель — прототип Воланда (немец, предсказатель, появляется в самом начале произведения) А. Чаянов «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» (1921) — замыслы и сюжетные ходы МиМ М. Булгакова ( М. Чудакова ) В. Брюсов «Огненный ангел» (1908) Вопрос. Кто научил тебя колдовству, сам дьявол или кто из его учеников? Ответ. Дьявол. – Кого ты сама научила тому же? – Никого. – Когда и в какое время дьявол с тобой справил свадьбу? – Три года назад, в ночь под праздник божьего тела. – Заставил ли он тебя, в пакте с собой, отречься от Бога Отца, Сына и Святого Духа, от Пречистой Девы, всех святых и от всей христианской веры? – Да. – Получила ли ты второе крещение от дьявола? – Да. – Присутствовала ли ты на танцах шабаша, три раза в год или чаще? – Гораздо чаще, много раз. – Как ты туда переносилась? – Вечером, под ночь, когда собирался шабаш, мы натирали свое тело особой мазью, и тогда нам являлся или черный козел, который переносил нас по воздуху на своей спине, или сам демон, в образе господина, одетого в зеленый камзол и желтый жилет, и я держалась руками за его шею, пока он летел над полями. Если же не было ни козла, ни демона, можно было сесть на любой предмет, и они летели, как самые борзые кони. – Из чего состояла мазь, которой в этих случаях натирала себя? – Мы брали разных трав: поручейника, петрушки, аира, жабника, паслена, белены, клали в настой от борца, прибавляли масла из растений и крови летучей мыши и варили это, приговаривая особые слова, разные для разных месяцев. – Видала ли ты на шабаше Злого Духа, восседающего в виде козла на троне, должна ли была поклоняться ему и целовать его нечистый зад? – Это мой грех. Притом мы приносили ему наши дары: деньги, яйца, пироги, а некоторые и украденных детей. Еще мы кормили своими грудями маленьких демонов, имевших образ жаб, или, по приказанию Мастера, секли их прутьями. Потом мы плясали под звуки барабана и флейты. – Участвовала ли ты также в служении богопротивной черной мессы? – Да, и дьявол как сам причащался, так давал и нам причастие, говоря «сие есть тело мое». – Было ли то причастие под одним видом или под двумя? – Под двумя, но, вместо гостии, было нечто твердое, что трудно было проглотить, а вместо вина, – глоток жидкости, ужасно горькой, наводящей холод на сердце. – Вступала ли ты на шабаше в плотские сношения с дьяволом? – Дьявол выбирал среди женщин ту, которую мы называли царицею шабаша, и она проводила время с ним. А другие все, в конце пира, соединялись, как случится, кто к кому приблизится, женщины, мужчины и демоны, и только иногда дьявол вмешивался и сам устраивал пары, говоря: «Вот кого тебе нужно», или: «Вот эта подойдет тебе». – Случалось ли тебе быть таковой царицей шабаша? – Да, и не один раз, чем я и бывала очень горда, – господи, помилуй мою душу! http://www.litmir.net/br/?b=113969&p=... А. Беляев «Властелин мира» (1926-1929) : В «Гудке» роман начинался со второй половины четвертой главы второй части — с репортерской заметки «Массовый психоз»: «Вчера вечером в городе наблюдалось странное явление. В одиннадцать часов ночи в продолжении пяти минут у многих людей появилась навязчивая идея, вернее, навязчивый мотив известной немецкой песенки „Ах, мейн либер Августин“. У отдельных лиц, страдающих нервным расстройством, навязчивые идеи или мотивы бывали и раньше. Необъяснимой особенностью настоящего случая является его массовый характер. Один из сотрудников нашей газеты сам оказался жертвой этого психоза. Вот как он описывает событие: — Я сидел со своим приятелем, известным музыкальным критиком, в кафе. Критик, строгий ревнитель классической музыки, жаловался на падение музыкальных вкусов, на засорение музыкальных эстрад пошлыми джаз-бандами и фокстротами. С грустью говорил он о том, что все реже исполняют великих стариков: Бетховена, Моцарта, Баха… Я внимательно слушал его, кивая головой, — я сам поклонник классической музыки, — и вдруг с некоторым ужасом я заметил, что мысленно напеваю мотив пошленькой песенки — „Ах, мейн либер Августин“… — Что, если бы об этом узнал мой собеседник, — думал я, — с каким бы презрением он отвернулся от меня? Он продолжал говорить, но будто какая-то навязчивая мысль преследовала и его… От времени до времени он даже встряхивал головой, точно отгонял надоедливую муху. Недоумение было написано на его лице… Наконец критик замолчал и стал ложечкой отбивать по стакану такт, и я был поражен, что удары ложечки в точности соответствовали такту песенки, проносившейся в моей голове… У меня вдруг мелькнула неожиданная догадка, но я еще не решался высказать ее, продолжая с удивлением следить за стуком ложечки. Дальнейшее событие ошеломило всех. — Зуппе. „Поэт и крестьянин“! — анонсировал дирижер, поднимая палочку. Но оркестр вдруг заиграл „Ах, мейн либер Августин“… Заиграл в том же темпе и том же тоне!.. Я, критик и все сидевшие в ресторане поднялись, как один человек, и минуту стояли, будто пораженные столбняком. Потом вдруг все сразу заговорили, возбужденно замахали руками, глядя друг на друга в полном недоумении. Было очевидно, что эта навязчивая мелодия преследовала одновременно всех… Незнакомые люди спрашивали друг друга, и оказалось, что так оно и было. Это вызвало чрезвычайное возбуждение. Ровно через пять минут явление прекратилось. По наведенным нами справкам, та же навязчивая мелодия охватила почти всех живущих вокруг Биржевой площади и Банковской улицы. Многие напевали мелодию вслух, в ужасе глядя друг на друга. Бывшие в опере рассказывают, что Фауст и Маргарита вместо дуэта „О, ночь любви“ запели вдруг под аккомпанемент оркестра „Ах, мейн либер Августин“… Несколько человек на этой почве сошли с ума и отвезены в психиатрическую лечебницу. О причинах возникновения этой странной эпидемии ходят самые различные слухи. Наиболее авторитетные представители научного мира высказывают предположения, что мы имеем дело с массовым психозом, хотя способы распространения этого психоза остаются пока необъяснимыми. Несмотря на невинную форму этого „заболевания“, общество чрезвычайно взволновано им по весьма понятной причине: все необъяснимое, неизвестное пугает, поражает воображение людей. Притом высказываются опасения, что „болезнь“ может проявиться и в более опасных формах. Как бороться с нею? Как предостеречь себя? Этого никто не знает, как и причин ее появления. В спешном порядке создана комиссия из представителей ученого мира и даже прокуратуры, которая постарается раскрыть тайну веселой песенки, нагнавшей такой ужас на обывателей». Для массового газетного читателя Беляев дает перевод: «Ах, мейн либер Августин» — «Ах, мой милый Августин!» Мы привели столь обширную цитату по нескольким причинам. Во-первых, чтобы указать на ошибки: песенка об Августине названа «пошленькой» и, наряду с «пошлыми джаз-бандами и фокстротами», должна служить образцом современного «падения музыкальных вкусов». Беляев почему-то забыл, что в своей сказке «Свинопас» Андерсен назвал «Милого Августина» старинной песенкой, а сказано это было в 1841 году — за пять лет до появления увертюры Франца фон Зуппе «Поэт и крестьянин» («Dichter und Bauer»)… Да и сама песенка не немецкая, а австрийская… Короче, Беляев ошибся абсолютно во всем… — и при этом попал в точку! Слова «болезнь», «заболевание», поставленные в спасительные кавычки, — это не пугливая ирония газетного репортера, а самая суть: песенку «Ах, мой милый Августин!» сочинили в 1679 году в Вене, пораженной эпидемией чумы. И рассказано в песне про то, как пьяница Августин свалился в яму, а проснулся в окружении трупов. Его и самого приняли за бездыханный труп: Rock ist weg, Stock ist weg, Augustin liegt im Dreck, O, mein lieber Augustin, Alles ist hin. Нет одежды, трости нет, Августин лежит в дерьме… Ах, мой милый Августин, Вот и всё, тебе кранты! Вот и в нынешнем 1926 году на Берлин катится новая чума… С одной только разницей — куда страшнее. Психическая! Когда люди перестают быть собой. А теперь вторая причина обширного цитирования — сравните два отрывка, приведенный выше и такой: «Городской зрелищный филиал помещался в облупленном от времени особняке в глубине двора и знаменит был своими порфировыми колоннами в вестибюле. Но не колонны поражали в этот день посетителей филиала, а то, что происходило под ними. Несколько посетителей стояли в оцепенении и глядели на плачущую барышню, сидевшую за столиком, на котором лежала специальная зрелищная литература, продаваемая барышней. В данный момент барышня никому ничего не предлагала из этой литературы и на участливые вопросы только отмахивалась… <…> Поплакав, барышня вдруг вздрогнула, истерически крикнула: — Вот опять! — и неожиданно запела дрожащим сопрано: Славное море священный Байкал… Курьер, показавшийся на лестнице, погрозил кому-то кулаком и запел вместе с барышней незвучным, тусклым баритоном: Славен корабль, омулевая бочка!.. К голосу курьера присоединились дальние голоса, хор начал разрастаться, и, наконец, песня загремела во всех углах филиала. <…> Слезы текли по лицу девицы, она пыталась стиснуть зубы, но рот ее раскрывался сам собою, и она пела на октаву выше курьера: Молодцу быть недалечко! Поражало безмолвных посетителей филиала то, что хористы, рассеянные в разных местах, пели очень складно, как будто весь хор стоял, не спуская глазе невидимого дирижера»… http://www.litmir.net/br/?b=196944&p=44 А. Беляев «Борьба в эфире» (1928) : Но был у романа еще один читатель… Вспомним начало: «Я сидел на садовом, окрашенном в зеленый цвет плетеном кресле, у края широкой аллеи из каштанов и цветущих лип. Их сладкий аромат наполнял воздух. Заходящие лучи солнца золотили песок широкой аллеи и верхушки деревьев». А теперь сравним: «Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина… Попав в тень чуть зеленеющих лип… …пуста была аллея». Читаем дальше: «Это не могло быть сном. Слишком все было реально, хотя и необычайно странно и незнакомо». Сравним: «Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера»… Героя Беляева мы застаем уже сидящим в садовом кресле, а Берлиозу с Иваном Бездомным это только предстоит… Но вот и они «уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной». После этого Беляев описывает «[с]овершенно пустячный случай: мне захотелось курить. Я вынул коробку папирос „Люкс“ и закурил». А у Булгакова так: «— Вы хотите курить, как я вижу? — неожиданно обратился к Бездомному неизвестный, — вы какие предпочитаете? — А у вас разные, что ли, есть? — мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились. — Какие предпочитаете? — повторил неизвестный. — Ну, „Нашу марку“, — злобно ответил Бездомный. Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному: — „Наша марка“». У Беляева: «Это невинное занятие произвело совершенно неожиданный для меня эффект. Несмотря на то, что все эти юноши (или девушки) были, по-видимому, очень сдержанными, они вдруг целой толпой окружили меня, глядя на выходящий из моего рта дым с таким изумлением и даже ужасом, как если бы я начал вдруг дышать пламенем». Потрясены и Бездомный с Берлиозом: «И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно „Наша марка“, сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник»... http://www.litmir.net/br/?b=196944&p=51 Наблюдения М. Чудаковой из «Жизнеописания Михаила Булгакова»: Появление же дьявола в первой сцене романа было гораздо менее неожиданным для литературы в 1928 году, чем через десять лет — в годы работы над последней редакцией. Эта сцена и вырастала из текущей беллетристики, и полемизировала с ней. «26 марта 1913 г. я сидел, как всегда, на бульваре Монпарнас...» — так начинался вышедший в 1922 году и быстро ставший знаменитым роман Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников». На следующей странице: «Дверь кафе раскрылась и не спеша вошел весьма обыкновенный господин в котелке и в сером непромокаемом пальто». Герой сразу понимает, что перед ним сатана, и предлагает ему душу и тело. Далее начинается разговор, получающий как бы перевернутое отражение в романе Булгакова: «Я знаю, за кого вы меня принимаете. Но его нет». Игерой добивается у сатаны ответа: «Хорошо, предположим, что его нет, но что-нибудь существует?.. — Нет»; «Но ведь на чем-нибудь все это держится? Кто-нибудь управляет этим испанцем? Смысл в нем есть?» — эти безуспешные взывания героя-рассказчика у Эренбурга заставляют вспомнить как бы встречный вопрос «иностранца» в первой главе романа Булгакова: «Кто же распоряжается всем этим?» (редакция 1928 г.) и последующий спор. Мы предполагаем в первой сцене романа Булгакова скрытую или прямую полемику с позицией героя-рассказчика романа Эренбурга, нарочито сближенной с позицией автора (само собой разумеется, что и та, и другая сцены проецируются на разговор Федора Карамазова с сыновьями о боге и черте). Непосредственное ощущение литературной полемичности подкрепляется и тем фактом, что отрывок из романа Эренбурга печатался в том же № 4 «Рупора», где и «Спиритический сеанс» — один из самых первых московских рассказов Булгакова; здесь же помещен был портрет автора — возможно, первый портрет Булгакова, появившийся в печати. Не будет натяжкой предположить, что этот номер был изучен писателем от корки до корки. В дальнейшем личность Эренбурга быстро привлекла не слишком дружелюбное внимание Булгакова: роман Эренбурга в 1927 году — накануне обращения Булгакова к новому беллетристическому замыслу — был переиздан дважды. В том же 1927 году в московском «альманахе приключений», названном «Война золотом», был напечатан рассказ Александра Грина (знакомого с Булгаковым по Коктебелю) «Фанданго». В центре фабулы — появление в Петрограде голодной и морозной зимой 1921 года возле Дома ученых группы экзотически одетых иностранцев. «У самых ворот, среди извозчиков и автомобилей, явилась взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест...» Три человека «в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу», составляют его свиту и называют его «сеньор профессор». «Загадочные иностранцы», как называет их про себя рассказчик, оказываются испанцами — делегацией, привезшей подарки Дому ученых. Яркое зрелище — экзотические иностранцы в центре города, живущего будничной своей жизнью, — использованное Грином в качестве завязки рассказа, не могло, нам кажется, не остановить внимания Булгакова. Замечается сходство многих деталей сюжетной линии Воланда в романе и рассказа «Фанданго»: например, описание сборища в Доме ученых, где гости показывают ученой публике привезенные ими подарки, заставляет вспомнить сеанс Воланда в Варьете, так поразивший московских зрителей в более поздних редакциях романа: «Публика была обыкновенная, пайковая публика: врачи, инженеры, адвокаты, профессора, журналисты и множество женщин. Как я узнал, набились они все сюда постепенно, привлеченные оригиналами-делегатами». Глава их «сидел прямо, слегка откинувшись на твердую спинку стула, и обводил взглядом собрание. Его правая рука лежала прямо перед ним на столе, сверх бумаг, а левой он небрежно шевелил шейную золотую цепь... Его черно-зеленые глаза с острым стальным зрачком направились на меня» и т. п. («Фанданго»). Прозу Грина Булгаков, судя по воспоминаниям друзей, не любил, что не исключало возможности взаимодействия. Фигура «иностранца» как сюжетообразующего героя возникла в прозе той самой московской литературной среды, в которую вошел в 1922—1923 годах Булгаков, в эти же годы формирования новой литературы. Появляется герой, в котором подчеркивается выдержка, невозмутимость, неизменная элегантность костюма, герой, который «брит, корректен и всегда свеж» (А. Соболь, «Любовь на Арбате»). Это иностранец или квази-иностранец (скажем, приехавший со шпионским заданием эмигрант, одетый «под иностранца»). В нем могут содержаться в намеке и дьявольские черты. Приведем сцены из двух рассказов этих лет. «На другой день ветра не было. Весь день человеческое дыхание оставалось около рта, жаром обдавая лицо. Проходя городским садом около самого дома, Фомин присел на скамейку, потому что от мутных дневных кругов, ослеплявших и плывших в глазах, от знойного звона молоточков в виски закружилась голова. И когда на ярко блестевшую каждой песчинкой дорожку выплыл James Best, иностранец, он показался Фомину только фантастической фигурой в приближающемся и растекающемся знойном ослепительном круге. <...> Проходя мимо Фомина, он вежливо снял кепку: — Добрый день. Растерявшийся Фомин в ответ не то покачнулся, не то заерзал на скамейке. И стал думать о Бесте. Кто он, откуда и зачем здесь» (О. Савич. Иностранец из 17-го №.1922; подчеркнуто нами. — М. Ч.).И еще одна сцена... В рассказе А. Соболя «Обломки» (1923) в Крыму влачит существование случайная компания «бывших» — княжна, поэт и др. Они взывают: «Хоть с чертом, хоть с дьяволом, но я уйду отсюда»; «Дьявол! Черт! Они тоже разбежались. Забыли о нашем существовании. Хоть бы один... Черт! http://www.litmir.net/br/?b=121477&p=... Сравнительный анализ Мариэтты Чудаковой из «Новых работ 2003-2006»: ВОЛАНД И СТАРИК ХОТТАБЫЧ В конце 1930-х годов дописывались два очень разных, но сближенных в важной точке произведения – «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Старик Хоттабыч» Л. Лагина. Литературному произведению невозможно задавать вопрос – почему оно появилось. Но иногда все же хочется высказать свою гипотезу. Почему замысел со всемогущим героем в центре, распоряжающимся реальностью по своему усмотрению, разрабатывался столь разными беллетристами – одновременно? Персона, стоявшая в тот год во главе страны, давно уже воспринималась ее жителями как воплощение всемогущества – и в сторону зла, и в сторону добра. О зле разговоров вслух не было, о звонках же кому-либо прямо домой, о неожиданной помощи и т. п. слагались легенды. Само это всемогущество, владение – в прямом смысле слова – одного человека жизнями десятков миллионов во второй половине 1930-х годов было столь очевидно, столь ежеминутно наглядно, что можно представить, как литератора неудержимо тянуло – изобразить не близкое к кровавой реальности (это могло прийти в голову только самоубийцам), а нечто вроде сказки: о том, как некий падишах может в любой момент отсекать людям головы. Неудивительно, что такая тяга возникла одновременно у разных писателей – удивительно скорее, что таких сочинений не было гораздо больше. В этой тяге могло присутствовать и бессознательное желание расколдовать страну, изобразив фантастику происходящего в сказочном обличье, – ведь оцепенелость страны чувствовали и те, кто не осознавали, что они ее чувствуют. Разительно сходны прежде всего наглядно демонстрирующие всемогущество героя сцены в цирке («Старик Хоттабыч») и в Варьете («Мастер и Маргарита»). «– Разве это чудеса? Ха-ха! Он отодвинул оторопевшего фокусника в сторону и для начала изверг из своего рта один за другим пятнадцать огромных разноцветных языков пламени, да таких, что по цирку сразу пронесся явственный запах серы»[707]. После серии превращений «оторопевшего фокусника» Хоттабыч возвращает его «в его обычное состояние, но только для того, чтобы тут же разодрать его пополам вдоль туловища». Не подобно ли тому, как булгаковский кот пухлыми лапами «вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал голову с полной шеи»? «Обе половинки немедля разошлись в разные стороны, смешно подскакивая каждая на своей единственной ноге. Когда, проделав полный круг по манежу, они послушно вернулись к Хоттабычу, он срастил их вместе и, схватив возрожденного Мей Лань-Чжи за локотки, подбросил его высоко, под самый купол цирка, где тот и пропал бесследно». Опять-таки приближено к действиям кота, который, «прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она точно села на свое место», а затем Фагот хоть и не отправил конферансье под потолок, то, во всяком случае, «выпроводил со сцены». Поведение публики, созерцающей действия старика Хоттабыча, тоже весьма напоминает атмосферу на сеансе черной магии в Варьете: «С публикой творилось нечто невообразимое. Люди хлопали в ладоши, топали ногами, стучали палками, вопили истошными голосами “Браво!”, “Бис!”, “Замечательно!” <…>» Ну и, конечно, «в действие вмешались двое молодых людей. По приглашению администрации они еще в начале представления вышли на арену, чтобы следить за фокусником» (функция Жоржа Бенгальского у Булгакова). «На этом основании они уже считали себя специалистами циркового дела и тонкими знатоками черной и белой магии[708]. Один из них развязно подбежал к Хоттабычу и с возгласом: “Я, кажется, понимаю в чем дело!” попытался залезть к нему под пиджак, но тут же бесследно исчез под гром аплодисментов ревевшей от восторга публики. Такая же бесславная участь постигла и второго развязного молодого человека» (с. 65–66; курсив наш. – М. Ч.). Те же самые, кажется, молодые люди подают голос в романе Булгакова: «– Стара штука, – послышалось с галерки, – этот в партере из той же компании. – Вы полагаете? – заорал Фагот, прищуриваясь на галерею. – В таком случае, и вы в одной шайке с нами, потому что колода у вас в кармане!» (с. 121). Главное же – подобно Воланду, Хоттабыч вершит свой суд над жителями Москвы, руководствуясь моральными соображениями: наказывает жадных и злых, иногда поясняя свой приговор, в отличие от Воланда, с восточным велеречием: «Вы, смеющиеся над чужими несчастиями, подтрунивающие над косноязычными, находящие веселье в насмешках над горбатыми, разве достойны вы носить имя людей? И он махнул руками. Через полминуты из дверей парикмахерской выбежали, дробно цокая копытцами, девятнадцать громко блеющих баранов»[709] – подобно тому, как Николай Иванович в романе Булгакова превращен в борова. Буквальное значение приобретают в ходе этих расправ ходячие выражения: «– Катись ты отсюда, паршивый частник! – <…> – Да будет так, – сурово подтвердил Хоттабыч Волькины слова». И жадный человек «повалился наземь и быстро-быстро покатился в том направлении, откуда он так недавно прибежал. Меньше чем через минуту он пропал в отдалении, оставив за собой густое облако пыли» (с. 79). Так и Прохор Петрович в «Мастере и Маргарите», подобно Вольке, в разговоре с непрошеным посетителем неосмотрительно «вскричал: “Да что же это такое? Вывести его вон, черти б меня взяли!” А тот, вообразите, улыбнулся и говорит: “Черти чтоб взяли? А что ж, это можно!”» (с. 185)[710] – с известными читателям романа последствиями. http://flibusta.net/b/147812/read М. Каганская, З. Бар-Селла «Мастер Гамбс и Маргарита»: ПРОЛОГ «И книгу спас любимую притом.» Вас. Лоханкин Многие (а то и все) жалуются на бездуховность нашей эпохи. Жалобы их не по адресу — эпоха наша духовна! Что есть свидетельство духовности? — Чудо! И все мы доподлинно являемся свидетелями чуда: на наших глазах возникло новое Евангелие — Евангелие от Михаила. Михаила Афанасьевича Булгакова. В миру — роман «Мастер и Маргарита». Узрели чудо все, поняли по-разному. Выдающийся теолог Нового Средневековья утверждает, что Евангелие это гностическое и манихейское. Причин же явления данного евангелия в романной ипостаси — две, точнее — одна: затравленная иудейским монотеизмом, манихейская истина вот уже два тысячелетия пишет записки из подполья. Столько же примерно лет известно, что наиболее безопасной формой иносказания является художественная. Первый и прославленный опыт манихейской притчи принадлежит Данте («Божественная комедия»), второй — Булгакову. Первого не поняли, второго пытались не понять. Не вышло! Зло, запечатленное в образе Воланда, — продолжает все тот же теолог, — есть творческая и созидательная сила. Утаить эту правду небезуспешно пытались Авербах, Блюм, Кайафа, Нусинов, Латунский, Квант, Мустангова, Павел, Лука, Розенталь и Матфей. Не впадая в преувеличение, резюмируем: евреи. Ешуа Га-Ноцри евреем не был, его папа — по слухам — был сириец. Булгаков тоже евреем не был: его папа был преподаватель. Результат: обоих затравили (евреи). Ариец П.Пилат пытался спасти Ешуа, но не преуспел из-за чистоплотности, позже одумался и содеянное постарался исправить — зарезал Иуду, То есть, конечно, не сам зарезал, а по причине чистоплотности приказал подчиненным зарезать. Арийские традиции сохранились до наших дней, чего не скажешь о чистоплотности. Так вот, в отместку за Булгакова пришлось прирезать уже целую группу театральных критиков. То есть, опять-таки, не Самому, конечно, прирезать. Но это уже не от любви к чистоте, а по причине загруженности — все время руки мыть, до всего руки не дойдут. А чтобы память о Рукомойнике не стерлась в потомстве, мероприятие это назвали «Чисткой», ибо стремление очиститься движет всей жизнью одной — отдельно взятой — страны победившего манихейства. Другой, намного менее прославленный, но более ортодоксальный теолог утверждает, что Раб Божий Михаил был, напротив, истинно русский православный евангелист, и гнозис его не манихейский, а православный, истинно русский, нигде и ни в чем не оторвавшийся от родимой византийской почвы. При таких разных чтениях куда податься читателю, буде он не манихеец, не язычник и не православный иудео-христианин? Одно остается ему чудо — чудо искусства. А что есть Искусство? — Оно есть Храм! И вот, опустившись внутри себя на колени, читатель открывает неумелые губы для привычной молитвы: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, человек без шляпы, в серых парусиновых брюках, кожаных сандалиях, надетых по-монашески на босу ногу, в белой сорочке без воротничка, пригнув голову, вышел из низенькой калитки дома номер шестнадцать«! В ужасе вскакивает читатель с колен внутри себя и с испугом оглядывается по сторонам, не подслушал ли кто, не донес..? Ведь предупреждал, предупреждал лучший, талантливейший из Белинских наших дней о двух продажных фельетонистах, совершивших поклеп со взломом на интеллигенцию!. Как могли приплестись поганые их строчки к Святому Писанию?! «Что это со мной? — думает читатель, вытирая лоб платком. — Этого никогда со мной не было. Сердце шалит... Я переутомился... пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск...» «На горизонте двумя параллельными пунктирными линиями высовывался из-за горы Кисловодск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы». «О боги, боги, — с отчаянием подумал читатель, — за что вы наказываете меня?.. Опять начинаются мои мучения. И почему я не поехал в Крым? И Генриетта советовала!». «Веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные лавчонки и рестораны поплавки. На пристани стояли экипажи с бархатными сиденьями. Подождите, Воробьянинов! — крикнул Остап». «Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги. — Я не пьян, со мной что-то случилось... я болен... Где я? Какой это город? — Ну, Ялта... http://flibusta.net/b/228935/read М. Петровский «Мастер и Город»: Происхождение Мастера. Мефистофели и прототипы. «Писатели из Киева». Сравнение рассказа «Каждое желание» (переработанного в «Звезду Соломона») А. Куприна с МиМ М. Булгакова. http://fantlab.ru/blogarticle31367 Предположения: возможные прототипы Воланда — граф Калиостро (А.Н. Толстой), Вольф Мессинг, кот Бегемот — «Мелкий бес» Ф. Сологуба О. Бендер — Триродов «Творимые легенды» Ф. Сологуба Частицы людей, проглоченные, химерные,уменьшенные или удалённые люди: В. Маяковский «Прозаседавшиеся», В. Катаев «Растратчики», Ильф/Петров «Двенадцать стульев»: редакция газеты, «Золотой телёнок» — контора Геркулес, Л. Лагин «Старик Хоттабыч». В. Брюсов «Огненный ангел». https://www.fantlab.ru/blogarticle33513 *** Мефистофель — Воланд — Фауст — Мастер — Маргарита (М. Булгаков), А.Б. — Маргарита — (А. Беляев); Мефистофель (иврит) — Скорина — Фауст — Маргарита (О. Лойка)
|
Тэги: Воланд, Остап Бендер, Эль, Хоттабыч, Дядя, Карфункель, Зеев Бар-Селла, Беляев, Булгаков, Мастер, Фауст, Маргарита, шпионский роман, дьяволиада, Кочерга |
|








 облако тэгов
облако тэгов






