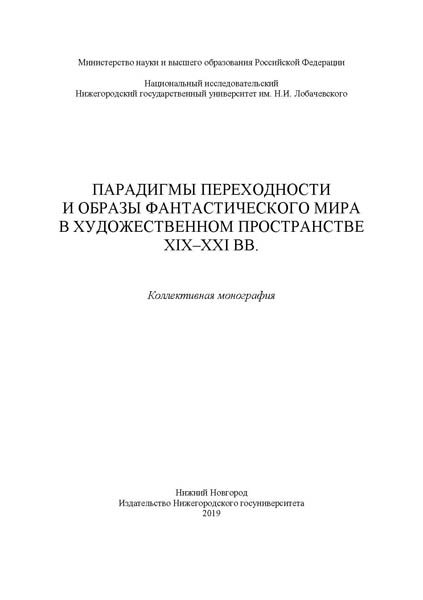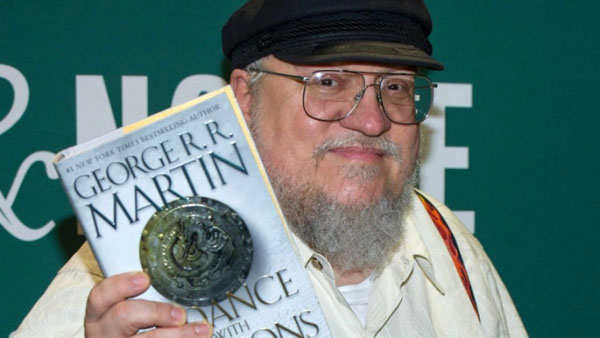| |
| Статья написана 4 сентября 2019 г. 21:14 |

Савельева Т.В. Изрыгающие пламя: эстетизация образа дракона в современной литературе // Горизонты цивилизации, 2019, №10, с. 391-401. цитата Драконы — один из самых популярных образов в литературе фэнтези, в них сочетаются традиционные мифологические представления и индивидуально-авторские фантазии. На примере произведений Дж.Р.Р. Толкиена, Робин Хобб, Дж. Мартина, Ника Перумова мы показываем, что традиционно-мифологический образ дракона подвергается трансформации под влиянием литературных и социо-культурных тенденций современности. Происходит эстетизация и романтизация образа дракона, уходят тератоморфные черты и мотив змееборчества. Дракон становится символом легендарных времен, золотого века, когда люди жили во взаимодействии с драконами. Ключевые слова: дракон, фэнтези, эстетизация, мифология, фольклор с. 391: 
с. 392: 
с. 395: 
с. 397: 

Савельева Татьяна Викторовна — кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, Челябинский государственный университет (Миасский филиал)
|
| | |
| Статья написана 10 августа 2019 г. 18:50 |

Хоруженко Т.И. Драконы vs технологии: стимпанк в отечественном фэнтези. Стендовый доклад // IХ Международный научный конгресс исследователей мировой литературы и культуры «Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций». Кафедра русской и зарубежной литературы Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Симферополь, 2018, 17–21 сентября. цитата Целью статьи является характеристика нового течения в русском фэнтези – стимпанк-фэнтези. В качестве материала для анализа привлекаются романы А.Пехова, С.Логинова, К. Ланцова. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью жанра фэнтези в его связях со стимпанком. С помощью сопоставительного анализа автор выявляет художественные особенности исследуемых произведений: способы соединения магии и технологии в одном произведении. Автор предлагает выделять два способа бытования миров: параллельное и взаимопроникающее. В первом случае магии и технологии существуют почти независимо друг от друга, во втором – технологии наполняют собой магический мир. В заключении статьи автор приходит к выводу, что стимпанк обогащает мир фэнтези антропоцентрической проблематикой. Ключевые слова: фэнтези; стимпанк; жанр; фантастика с. 1-2: цитата В последние годы в массовой культуре набирает популярность такое явление как стимпанк. Как поясняет Д. Драгунский, «...речь идет о фантазийном высокотехнологичном мире, стилизованном под XIX век, в особенности под викторианскую Англию, – то есть об одном из направлений фантастической литературы и кинематографа. Читателям-зрителям предлагается мир, в котором произошла некая “паровая модернизация” (будто бы современные машины, но без нефти и электричества), а роль компьютеров играют циклопические механические счетные машины». Фэнтези, как жанр достаточно чуткий к масскультовой «моде», постаралось адаптировать этот интерес к технике и пару. Характеристика нового течения, наблюдаемого в отечественном в фэнтези – стипанк-фэнтези – является целью данной статьи. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью как жанра фэнтези в целом, так и его связей со стимпанком, в частности. с. 3: цитата Несколько текстов, характеризующих данное течение, будут рассмотрены в этой статье. Важно отметить, что первые попытки совместить магический мир (типичный для фэнтези) и технологии наметились еще в начале 2000-х годов в книгах Н. Перумова и С. Лукьяненко. Синтез фэнтези и технологий в современных текстах массовой культуры бывает двух типов. В первом случае авторы рисуют два мира, условно говоря, мир магии и мир высоких технологий, герои оказываются между этими противопоставленными друг другу мирами. Второй тип синтеза – создание техномагических миров. В пространстве подобных текстов техника функционирует благодаря магии (например, гоблины толкают ракету, а демоны ведут самолет). с. 6-7: цитата Таким образом, повесть К. Териной соединяет в себе паровой мир и магический, а стимпанк становится декорацией для развертывания космогонического мифа. Создание продуманных миров – одна из отличительных особенностей фэнтези, которая и позволяет отнести «Ыттыгыргын» к рассматриваемой разновидности жанра. Стимпанк-фэнтези в первую очередь концентрируются на герое-человеке и человеческих качествах у представителей иных рас. Важными становится человечность Далена из «Механического дракона», дружба, делающая из враждебно настроенных эльфа и орка одну команду в произведении «Ловцы удачи», любовь, побеждающая все предрассудки в романе «Имперские ведьмы». В повести «Ыттыгыргын» самопожертвование маленькой девочки Мити, ее наставницы Аяваки и капитана Макинтоша приводит к обновлению целого мира. Можно говорить о формировании устойчивой тенденции к написанию стимпанк-фэнтези, при этом появление технологий (даже основанных на магии) обогащает художественный мир фэнтези и задает ему иное, антропоцентрическое, измерение. 
Хоруженко Татьяна Игоревна — кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, Уральский федеральный университет
|
| | |
| Статья написана 12 апреля 2019 г. 22:31 |
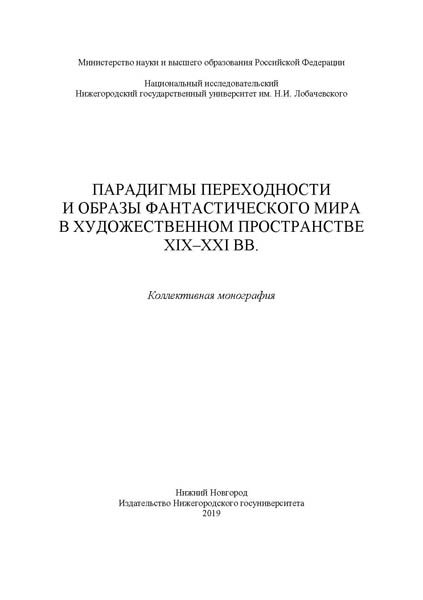
Парадигмы переходности и образы фантастического мира в художественном пространстве XIX-XX вв. Коллективная монография Оформление обложки Ольги Наумчик Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2019. 463 с. Обл. 60Х84/16 500 экз. 5-91326-477-0 цитата В коллективной монографии проблема национальных кодов получает свое освещение как в синхроническом, так и в диахроническом аспекте. Материалы монографии отражают современный уровень исследований европейской литературы и культуры XIX-XXI вв. Авторы коллективного труда предлагают новые исследовательские стратегии для изучения парадигмы переходности, жанровых моделей фэнтези и образов фантастического мира в современном художественном пространстве. Подготовленный кафедрой зарубежной литературы ННГУ коллективный труд представляет несомненный научный интерес для филологов, культурологов, студентов, аспирантов и всех, кто интересуется развитием европейской словесности. с. 3: цитата Коллективная монография «Парадигмы переходности и образы фанта-стического мира в художественном пространстве XIX–ХХI вв.» продолжает серию изданий, посвященных комплексному изучению национально-культурных кодов русской и западноевропейской ментальности и хорошо известных филологам, а также специалистам в различных отраслях гума-нитаристики под общим названием «Национальные коды в европейской литературе XIX–XXI вв.». Начиная с 2013 года, вышло в свет три коллективных труда: «Национальные коды в европейской литературе ХIХ–XXI веков» (2016), «Национальные коды европейской литературы в контексте исторической эпохи» (2017), «Национальные коды европейской литерату-ры в диахроническом аспекте: античность – современность» (2018). Коллективная монография включает материалы исследований, представлен-ных на международной научной конференции: «Национальные коды в языке и литературе», прошедшей в 2018 году в Институте филологии и журналистики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, а также на состоявшемся в рамках конференции круглом столе «Парадигмы переходности и художественный мир фэнтези», подготовленном научно-исследовательской лабораторией «Изучение национально-культурных кодов русской идентичности в контексте европейской ментальности на рубеже XX–XXI веков» Института филологии и журналистики ННГУ совместо с Отделом теории и Отделом литератур Европы и Америки новейшего времени ИМЛИ им. А.М. Горького РАН. Материал коллективной монографии определяется глобальной темой «Национальные коды воображаемого и грани фантастического». Настоящая монография даёт заявленной проблеме всестороннее комплексное филологическое освещение, что особенно актуально в эпоху глобализации. Проблема национальной идентичности в европейском социо-культурном пространстве приобретает особую остроту в конце ХХ – начале ХХI вв., а изучение её превращается в одно из магистральных направ-лений социально-гуманитарных наук. Исследование национальной идентичности включается в широкий социокультурный контекст: специфика культурного мира, менталитета, национальной идеи, культурных норм и традиций.
ПРЕДИСЛОВИЕ (Т.А. Шарыпина, Нижний Новгород; М.Ф. Надъярных, Москва) 3 ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ СОЗНАНИЯ И СКАЗОЧНОЕ, МИСТИЧЕСКОЕ, ФАНТАСТИЧЕСКОЕ В КОНТЕКСТЕ РАЗЛИЧНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЭПОХ 1.1. Фантастическое в сновидениях античности: эпос и трагедия (Т.В. Теперик, Москва) 13 1.2. О древнегреческих истоках французских библейских выражений, содержащих лексемы coeur и poitrine (А.В. Верещагина, Москва) 20 1.3. «Пентамерон» («Сказка сказок») Джамбаттисты Базиле: у истоков итальянской литературной сказки (И.К. Полуяхтова, Нижний Новгород) 28 1.4. Небесное царство Лапута: боль знаний и ускользающее могущество (Л.А. Борис, Москва) 36 1.5. Проблема фантастического в английской эстетике XVIII века (И.Б. Казакова, Самара) 45 1.6. Оптические игрушки XIX века и пьеса Д.М. Барри «Питер Пэн» (М.И. Иванкива, Санкт-Петербург) 52 1.7. Диалог романтизма и реализма в американской литературе ру-бежа XIX–XX веков: мистическое и фантастическое в творчестве Эдит Уортон (М.П. Кизима, Москва) 57 1.8. Тайна мертвой княгини: об одном «русском» сюжете в британской готической новеллистике (А.А. Липинская, Санкт-Петербург) 68 1.9. Историческое, политическое, фантастическое и дьявольское начало в романе Оноре де Бальзака «Шагреневая кожа» (Е.Э. Овчарова, Санкт-Петербург) 74 1.10. Бинарные оппозиции в сборнике «Tales of soldiers and civilians» Амброза Бирса (В.М. Деменюк, Нижний Новгород) 84 1.11. Рецепция поэзии Байрона в английской литературе XX века: воображаемое и реальное (М.С. Слоистова, Москва) 90 1.12. Диккенсовская традиция в романе Т. Пратчетта «Финт» (О.А. Королева, Нижний Новгород) 96 1.13. Рембрандт – реалист или визионер? Суждения И. Тэна, Э. Фро-мантена, Э. Верхарна (С.С. Акимов, Нижний Новгород) 103 1.14. Сказочный вымысел и текстообразующие функции концепта 'ЧУДО' (В.В. Карпова, Вологда) 110 ГЛАВА 2. ОБРАЗЫ ФАНТАСТИЧЕСКОГО МИРА И ПОИСКИ ГРАНИЦ МЕЖДУ ТЕКСТОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ XIX–ХХI ВВ. 2.1. Функции карнавального костюма в произведениях австрийских прозаиков: разрушение мистики (Г.А. Лошакова, Ульяновск) 120 2.2. Ницшевский код в эссе Гуго фон Гофмансталя «Дневник Марии Башкирцевой» (Ю.Л. Цветков, Иваново) 126 2.3. Специфика пространства и времени в немецкой философско-мифологической трагедии XIX в. (М.К. Меньщикова, Нижний Новгород) 133 2.4. Архетип «Голубого цветка» как национальный код и мифиче-ский символ в европейской культуре (А.С. Маркова, Г.И. Мамукина, Москва) 140 2.5. Фантастический образ Праги в романе Густава Майринка «Вальпургиева ночь» в зеркале перевода на русский язык (Е.А. Сакулина, Нижний Новгород) 143 2.6. Специфика соотношения категорий реального и ирреального в повести Г.Гессе «Путешествие к земле Востока» (Л.А. Мельникова, Балашов) 151 2.7. Фантастическая реальность и её автор в «книгах о книгах» немецкого фэнтези (Е.А. Иванова, Саратов) 155 2.8. «Мистическая глубина» в пьесе А. Хиллинг «Звезды» (Е.Г. Нефедова, Нижний Новгород) 163 2.9. Национальные инварианты сюжета о Медее (К. Вольф, Ж. Ануй, Л. Годе, В. Клименко) (О.И. Савиных, Нижний Новгород) 168 2.10. Мифическое и фантастическое в литературе Восточной Германии на переломе эпох (Т.А. Шарыпина, Нижний Новгород) 174 ГЛАВА 3. КАТЕГОРИИ МИСТИЧЕСКОГО И ФАНТАСТИЧЕСКОГО В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ XX–XXI ВВ. 3.1. Научно-фантастические изобретения в романе Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» в контексте ренессансного типа мышления (А.В. Григоровская, Тюмень) 186 3.2. Новейшая испанская проза: в поисках идентичности (Л.Г. Хорева, Москва) 193 3.3. Семантика контекстного образа сороконожки в романе Х. Кортасара «Счастливчики» (К.М. Харланова, Москва) 198 3.4. Черты магического реализма в романах Роландо Инохосы (М.И. Баранова, Нижний Новгород) 207 3.5. Специфика сказки эпохи постмодернизма (на примере произведения Стеллы Даффи «Сказки для парочек») (Ю.Г. Ремаева, Нижний Новгород) 214 3.6. Сказочные коды и их модификации в авторских повестях о гномах (О.В. Тихонова, Воронеж) 221 3.7. Фантастические миры Филипа К. Дика (О.Ю. Анцыферова, Санкт-Петербург) 227 3.8. Столкновение Востока и Запада в романе Д. Симмонса «Песнь Кали» (Е.А. Куликов, Нижний Новгород) 233 3.9. Стихотворение Джона Донна "Song" в сюжете фэнтезийного романа «Звёздная пыль» Нила Геймана (А.Л. Комисарова, Нижний Новгород) 243 3.10. Рецепция «чудесного» в романе Кэтрин Уэбб «Незримое, или Тайная жизнь Кэт Морли» (А.Н. Кузнецова, Уфа) 248 3.11. Национальное и художественное своеобразие «Элегий к Люксембургу» Ж. Соррента (Е.В. Казакова, Нижний Новгород) 255 ГЛАВА 4. КАТЕГОРИЯ ВООБРАЖЕНИЯ И ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ДОПУЩЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ХIХ–XXI ВВ. 4.1. Необычные поступки героев альманаха «Физиология Петербурга» (Т.В. Швецова, Архангельск) 263 4.2. Особенности перевода стихотворения А.С. Пушкина «Пророк» на итальянский язык (А.Н. Ушакова, Нижний Новгород) 269 4.3. Иррациональное и мистическое в творчестве М.Ю. Лермонтова (проблема разграничения) (И.С. Юхнова, Нижний Новгород) 275 4.4. Антиномия «механика – магия» (Д.С. Мережковский и А. Бергсон) (Е.А. Осьминина, Москва) 282 4.5. Семантика и метафизика сновидений в творчестве Д.С. Мережковского (1890-1910) (А.В. Дехтяренок, Петрозаводск) 289 4.6. «Лунная» тематика в детских произведениях 1950-1960-х годов: сценарий Н. Эрдмана и В. Морозова «Путешествие на Луну» и роман-сказка Н. Носова «Незнайка на Луне» (Д.В. Кобленкова, Москва) 300 4.7. Образы вымышленного пространства в романе Е. Лукина «Алая аура протопарторга» (О.О. Путило, Волгоград) 310 4.8. Фантасмагорическое в трилогии Сухбата Афлатуни «Поклонение волхвов» (А.В. Емелина, Нижний Новгород) 316 4.9. Формирования фантомной реальности путем жанровой мутации в романе Захара Прилепина «Черная обезьяна» (Н.Л. Самосюк, Санкт-Петербург) 322 4.10. Трансформация классического немецкого фольклора в романе Гузель Яхиной «Дети мои» (И.Л. Багратион-Мухранели, Москва) 327 4.11. Волшебные сказки Н.В. Коляды в контексте творчества драматурга (Е.И. Канарская, Нижний Новгород) 333 4.12. Language school и поэзия Ники Скандиаки: влияние и трансформация (А.А. Родионова, Нижний Новгород) 342 4.13. Фантазии на темы постсоветской истории в современной прозе (Э.Э. Новинский, Москва) 349 ГЛАВА 5. ПАРАДИГМЫ ПЕРЕХОДНОСТИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ФЭНТЕЗИ 5.1. Пространственно-временные модели фэнтези (О.С. Наумчик, Нижний Новгород) 356 5.2. Особенности фантастического в творчестве немецкого писателя Оскара Паниццы (Т.В. Кудрявцева, Москва) 363 5.3. Литература фэнтези: эхо символизма? (И.Ю. Гаврикова, Брауншвайг, Германия) 370 5.4. Утопия и антиутопия в немецкоязычной художественной литературе XX века (П.Ф. Иванов, Сочи) 381 5.5. Хмель, сон и явь: "педагогическая фантастика" середины XIX века (А.А. Никодимова, А.Ю. Сорочан, Тверь) 387 5.6. Жанровая модель фэнтези: возможный подход к проблеме (Т.И. Хоруженко, Екатеринбург) 392 5.7. Структурная роль космогонического и эсхатологического мотива в литературе фэнтези (Е.А. Нестерова, Москва) 397 5.8. Специфика создания фантастической реальности как отражение авторского идиостиля (на материале произведений А. Нортон) (Е.В. Медведева, Кемерово) 403 5.9. Трансформация мифологического пути героя в произведениях Урсулы ле Гуин (К.В. Суркова, Нижний Новгород) 410 5.10. Трехчастная система (музыка, слово и тишина) в поэтике Патрика Ротфусса (О.А. Лисенкова, Нижний Новгород) 419 5.11. Жанровое своеобразие фантастической прозы Е. Лукина (О.О. Путило, Волгоград) 427 5.12. Диалог виртуальных миров: средства конструирования пространства-времени художественного текста (А.В. Бочарова, Москва) 436 5.13. Фантастическое в литературной философии Х.Л. Борхеса (М.Ф. Надъярных, Москва) 443 Сведения об авторах 453
|
| | |
| Статья написана 15 марта 2019 г. 21:36 |

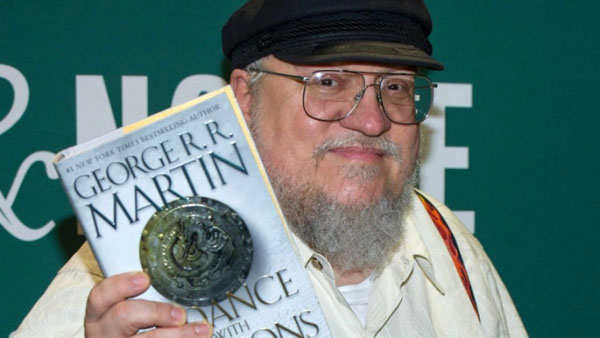
Е.А. Погорелая. «Тобол» vs «Игра престолов». Когнитивная метафорика современного исторического романа // Вопросы литературы, 2018, №6, с. 34-49. цитата В статье идет речь о трансформации жанра исторического романа применительно к современности. В последние годы исторический роман становится все более метафоричен, если не сказать фантазиен. Автор статьи исследует метафорику саги Мартина и двухтомника Иванова «Тобол», выявляя их общие признаки, способные повлиять на дальнейшее развитие исторического романного жанра. Ключевые слова: А. Иванов, Дж. Р. Р. Мартин, исторический роман, фэнтези, роман-метафора с. 35: цитата Как известно, лучшее определение "Тоболу" А. Иванова дал сам А. Иванов, сравнив двухтомник с пятикнижием Дж. Мартина и заметив, что «"Тобол" и "Игра престолов" созданы по одной и той же культурной технологии: это произведения постмодерна в его "демократичнском", игровом изводе» [ Пульсон Клариса. Полцарства за Тобол. Алексей Иванов написал русский роман по технологии "Игры престолов"// Российская газета, 2018, №61 (7524) от 22 февраля]. С тех пор Иванова и Мартина не сравнивал только ленивый. c. 35: цитата Есть и еще одна «общая точка», объединяющая культовый цикл Дж. Мартина с гораздо менее культовым, но безукоризненно сделанным ивановским «Тоболом». Оба они, рассказывая как будто бы о далеком, а то и вовсе фантастическом Средневековье <...>, рассказывают одновременно и о сегодняшнем дне. с. 46: цитата По Иванову, Тобол есть ключ к пониманию России. Более, чем география, тут важна фонетика: «Тобол» — это и пространство, и эхо освоения Сибири, в передаче Иванова выглядящее как колонизаторство... «То — бол» слышится как «то — боль»; «Боль! Боль! Боль!» — выкрикивают пленные остячки Айкони и Хомани в момент окончательного крушения надежд, сломленные своими «колонизаторами». Сибирь — боль России, история Тобола — напоминание о ней. Таким образом, не проводя с современностью паралеллей сюжетных, Иванов настойчиво облекает её в метафоры — пусть не буквальные, но узнаваемые и "познавательные". По-видимому, это путь романа-метафоры, для современной культуры проложенный Дж. Мартином, в русской литературе ещё только-только начинает своё движение, но в его перспективности уже можно не сомневаться. 
Погорелая Елена Алексеевна — кандидат филологических наук, Российский государственный гуманитарный университет, литературный критик, редактор отдела современной литературы журнала «Вопросы литературы».
|
| | |
| Статья написана 15 марта 2019 г. 17:47 |

Елена Хаецкая. Утоление голода. Записки из страны Нигде. 15 марта 2019 года Когда-то я говорила о том, что фэнтези стала для меня «территорией свободы». Литературным пространством, где не требовалось ни следовать принципам социалистического реализма, ни писать непременно о том, что «сам знаешь и пережил», т.е. создавать произведения на основе личного жизненного опыта. Понятно, что жизненный опыт у меня был довольно ограниченным (да и сейчас, в общем, он не включает в себя многие необходимые пирату/индейцу/космическому волку и т.п. вещи, например, я ни разу не летала в космос и не застрелила ни одного человека из базуки, хотя, возможно, мне и хотелось… господи, да я даже не курю!). Социалистический реализм тоже большого простора для воображения не предоставлял. Соцреализм последних лет брежневской эпохи не устраивал меня в первую очередь тем, что и сами персонажи превратились в маленьких людей с крошечными жизненными целями, и ставки у этих людей тоже были крошечные. Совсем как перспектива моего тогдашнего гипотетического карьерного роста: от корреспондента заводской газеты я могла бы в идеале дорасти, лет за двадцать, до редактора этой газеты, от ставки в сто рублей – до ставки в сто шестьдесят. И если с «карьерой» я смирилась заранее, то хотя бы в литературе хотелось чего-то более яркого. Поэтому, в общем, с фэнтези так все и получилось. Это как взять и вместо черно-белого телевизора поставить в доме цветной. Только хороший, с естественными цветами. Ставки в фэнтези были – волшебные королевства и господство над миром, не меньше, персонажи были огромные, Черные Властелины и Белые Демиурги, короче, раззудись, плечо. В моем случае эта перемена произошла внезапно, в единое мгновение. Фактически фэнтези свалилась мне как снег на голову. И несколько лет я не читала ничего, кроме фэнтези. Забыты остались Тургенев с Толстым, Диккенс с Виктором Гюго. Только Желязны, Урсула Ле Гуин, Кэтрин Куртц, Роберт Говард, Сапковский, Сальваторе… А, и «Дюна», Дюна была озарением… Жуткая бумага, жуткие опечатки, жуткие переводы, жуткие обложки. При том я довольно чувствительна к стилю. Когда-то не смогла читать Скотта Фицджеральда, потому что роман был, на мой взгляд, плохо переведен. И вот в какой-то момент весь мой снобизм рассыпался в прах, я глотала том за томом не просто плохо переведенных текстов – они были чудовищны. Но слов как таковых, фраз, материи языка – ничего этого в книгах я не воспринимала; мозг сразу, минуя стиль, «рисовал» картинки невероятной яркости, красоты, необычности. Что это было вообще, а? И добро бы со мной одной – нет ведь, безумие охватило огромное количество людей. Ладно – «Властелин колец», там профессиональные переводчики работали, а некоторые тома вообще выходили еще после прочтения их профессиональными корректорами старой закалки. В переводах «Властелина колец» нет всей этой самодеятельности, которая навсегда закрыла путь, скажем, нормально переведенному «Эмберу». Не будет профессиональных переводов «Эмбера» на русский язык – никогда. Смысла нет. Для создания качественного перевода требуется качественный профессиональный переводчик, а потом еще – такого же уровня редактор. Вообще-то люди такого уровня стоят дорого. И зачем платить кому-то «лишние деньги» – когда есть несколько готовых переводов, да, паршивых, но читателю-то большего и не требуется. Эстеты будут читать по-английски, а остальные обойдутся имеющимся переводами. Лично для меня вообще существует только старое кишиневское издание «Эмбера», где перевод анонимный (очевидно, чья-то фанатская работа, приглаженная энтузиастом из издательства). Я давно эту книгу не перечитывала – боюсь. Пусть в памяти останется лучшее. Лет через десять, наверное, наваждение окончательно схлынуло. Я перечитала «новыми глазами» все то, над чем грезила и чахла. Мамадорогая, это кто же меня заколдовал? Как я, с моим-то высочайшим литературным вкусом (и прочее, и прочее, все мои юношеские иллюзии на свой счет…) – как я могла взахлеб читать и — перечитывать -подобные тексты? Как подобные тексты ухитрились вызывать у меня такие бури эмоций? У меня есть гипотеза. Она, видимо, антинаучная. Пойду сейчас покормлю моего фамильяра, подложу полешко в волшебный огонь, горящий под волшебным котлом, и выскажу. Я думаю, на протяжении многих лет художественная литература обслуживала только одну часть нашего мозга. И топталась там так долго, что в этой части мозга образовалась мозоль. Мы сами не подозревали о том, что у нас в мозгу имеются еще такие части, ответственные за восприятие художественного вымысла (литературы и кино), о которых мы даже не подозревали. По этим частям мозга еще не ступала нога человека. Причем в том, что касается научной фантастики, все не так. Там вовсю ступала нога человека – учителя физики, химии и биологии (лично меня эти люди угнетали, т.к. заставляли изучать нечто, для меня неинтересное), а также писатели-фантасты, которые повторяли то же самое, что и учителя, но в «увлекательной» форме. А вот вкусовые рецепторы, нацеленные на башни Аренджуна и кабаки Шадизара, оставались нетронутыми. И мы даже не знали, что у нас подобные рецепторы вообще есть! Внезапно этим рецепторам одним махом сгрузили, можно сказать, несколько вагонов питательного корма! Рецепторы ожили и принялись деятельно поглощать все без разбора. Отключилось критическое мышление, вырубились все остальные рецепторы, в частности, те, которые насыщались лакомыми стилистическими оборотами, безупречной точностью речи, меткими метафорами и вообще всеми необъятными и прекрасными возможностями русского языка. Все это как будто грохнулось в обморок и залегло в кому. Когда наступило насыщение, некоторые из прежних рецепторов наконец очнулись и зашевелились. Лично у меня пошел резкий откат к русской классике. После этого я разделила любимые фэнтези-произведения (которым благодарна до сих пор) на две категории: хорошо переведенные (например, сага о короле Артуре Мэри Стюарт, Земноморье Урсулы Ле Гуин) – их я не боюсь перечитывать, и те, которые переведены, скажем так, сомнительно. Их предпочитаю не перечитывать, а хранить в сердце. (Однако никогда не говорю «никогда».) (с) Питерbook 
|
|
|


 облако тэгов
облако тэгов