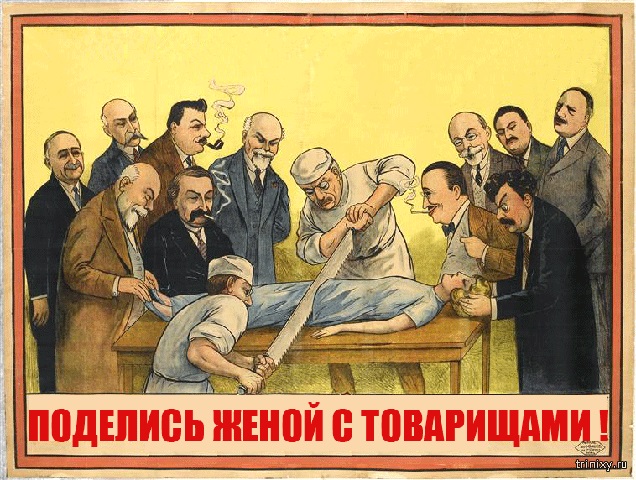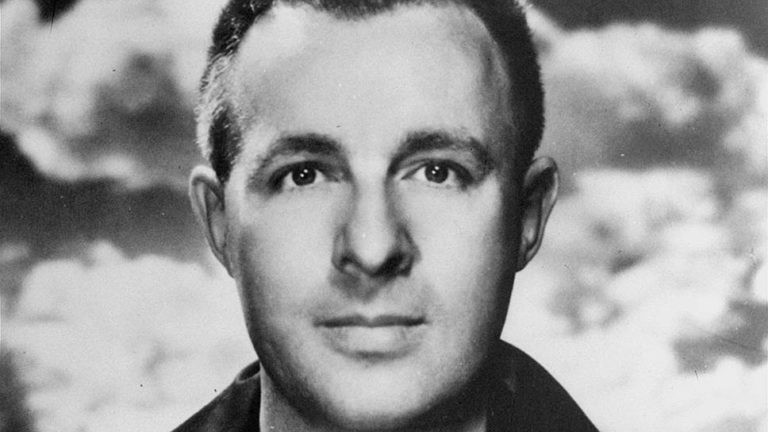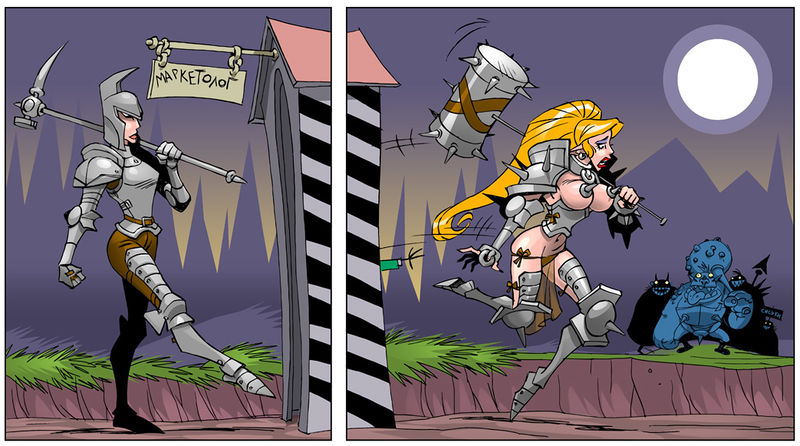| |
| Статья написана 9 декабря 2020 г. 19:06 |
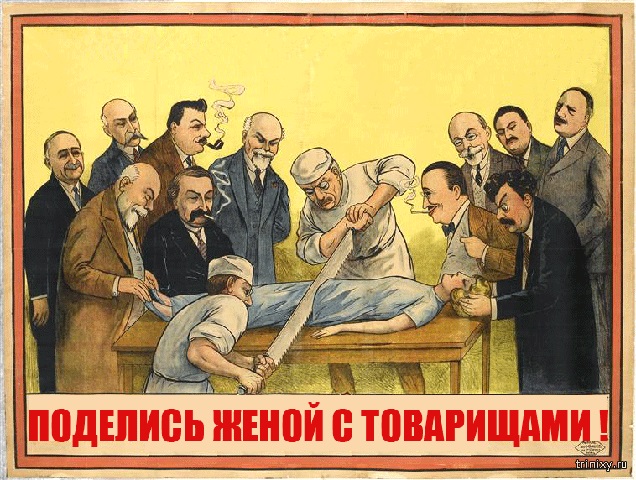
Константин Фрумкин. Советская фантастика как ипостась коммунистической утопии // Историческая Экспертиза, 2020, №2(23), С. 239-256. цитата Статья на основе анализа творчества многих советских писателей выявляет особенности преломления коммунистической утопии в советской научно-фантастической литературе 1920–1960-х гг. Ключевые слова: советский коммунистический проект, коммунистическая утопия, советская художественная литература, научно-фантастическая литература, Иван Ефремов, братья Стругацкие, эпоха оттепели в СССР. ПРЕДИСЛОВИЕ: О ТРЕХ КОНТЕКСТАХ «ТУМАННОСТИ АНДРОМЕДЫ» 239 БЕЗ АКУЛ И ЗИМЫ 241 ДУРНАЯ ЕСТЕСТВЕННОСТЬ 244 ЗАЧЕМ НУЖНЫ ИНТЕРНАТЫ 248 НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 250 ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ 254 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 254 с. 254: Утопическое коммунистическое общество обещало создать условия, где все бы наслаждались своим творческим трудом, но более того: оно обещало вас научить получать наслаждение от творчества. Платоновская академия, аристотелевский Лицей — вот чем должна была стать утопия по Ефремову — Стругацким. Фрумкин Константин Григорьевич https://fantlab.ru/autor3517
|
| | |
| Статья написана 14 ноября 2020 г. 20:19 |

Хоруженко Т.И. Принудительное счастье космической колонизации: советский проект в научной фантастике // Quaestio Rossica (Издательство Уральского университета), 2019, том 7, №3, с. 761-775. цитата Советская научная фантастика, будучи связана с идеями обновления, затрагивала тему космоса и контакта землян с иными цивилизациями. К 1960-м гг. в ней зародилась идея о помощи землян иным цивилизациям в достижении нового уровня жизни. В советской фантастике формируется модель принудительного счастья, которая хорошо вписывается в утопические векторы советской культуры. Внимание исследователя обращено на популярный в свое время, но малоизученный роман уральского писателя Исая Давыдова «Я вернусь через 1000 лет» (1969) как авторское проектирование способов осчастливить человека. Идея «принудительного счастья» проверяется в романе дважды: через построение идеального общества молодых людей на Земле и функционирование подобного общества на другой планете, а также через попытку контакта с дикарями. В итоге выясняется, что идеальное общество построить сложно, а дикари не нуждаются в дополнительной помощи со стороны землян. Роман Исая Давыдова рассматривается в контексте советских научно-фантастических романов, повествующих о контактах землян с иными цивилизациями, начиная с «Аэлиты» А. Толстого и заканчивая «прогрессорским» циклом А. и Б. Стругацких. Утопизм идеи прогрессорства, развенчиваемый в романах и повестях Стругацких, у Исая Давыдова восхваляется и доводится до логического завершения в продолжении романа (2013), где автор показывает, как дикари оказываются успешно цивилизованными. Автор статьи приходит к выводу, что идея прогрессорства важна для советской фантастики в целом, а не только для творчества Стругацких, в контексте которого она чаще всего рассматривается. В романе Давыдова герои ощущают себя в статусе богов для дикарей, но не тяготятся этим, в отличие от героев Стругацких. В этом кроется одна из особенностей советского научно-фантастического романа: «обычные» герои становятся равны богам и вступают в борьбу с самим временем, чтобы организовать всей Галактике светлое будущее. Ключевые слова: советская научная фантастика, Исай Давыдов, Алексей Толстой, братья Стругацкие, модели принудительного счастья, эксперимент над историей. с. 772: Тип прогрессора оказался чрезвычайно востребован отечественной культурой. И И. Кукулин, и М. Липовецкий приходят к выводу, что можно говорить о колоссальном влиянии этой модели на сегодняшнее общество: «прогрессор никуда не исчезал, давно превратившись в других областях культуры из литературного персонажа в доминантную модель самосознания позднесоветской и постсоветской интеллигенции» [Липовецкий М. Еще раз о комплексе прогрессора // Неприкосновенный запас, 2015, №1(99)]. И если Стругацкие в конце концов в идее насильственного счастья, несомого землянином-коммунистом людям, разочаровались, то их коллеги по перу продолжали (или продолжают, как показывает пример И. Давыдова) верить в возможность подобного сценария. За всей деятельностью землян, таким образом, стоит идея того, что они приносят счастье, а также культуру, защиту и знания другим цивилизациям. Однако этот глобальный опыт далеко не всегда оказывается безболезненным, что и доказывает роман уральского писателя. 
Хоруженко Татьяна Игоревна — кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, Уральский федеральный университет, Екатеринбург
|
| | |
| Статья написана 22 октября 2020 г. 19:46 |
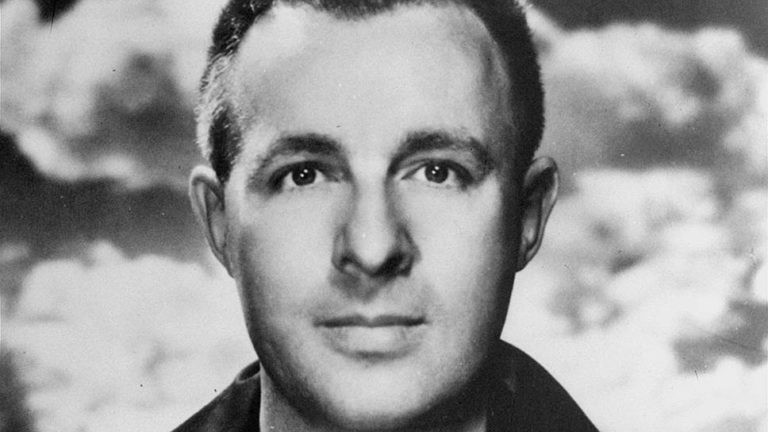
Ольга Маркина. Что искали в книге «451 градус по Фаренгейту» // Петербургский дневник, 2020, №191 от 21 октября, с. 6. В 1953 году, 20 октября, в США вышла в свет великая антиутопия Рея Брэдбери. Занятно, что роман был напечатан частями в первых выпусках журнала Playboy. Интересно, как это повлияло на потенцию американских мужчин... В Советском Союзе читатели увидели роман в 1956 году, но рецензии появились значительно раньше, уже во второй половине 1954 года. Несмотря на массу отрицательных отзывов в СССР, произведение не только не было запрещено, но даже вышло без сокращений, в отличие от США. Любовь советского человека к творчеству Брэдбери была несомненной. Я думаю, что читатели выискивали в его книгах скрытые антисоветские намеки и их находили. В Советском Союзе жанр научной фантастики был очень популярен, идеологически выдержан, и целью его было нарисовать картину будущего – некоего бесклассового общества, сплоченного, гармоничного и, конечно же, созданного на социалистической платформе. А антиутопии иностранных авторов, которые печатались, рисовали обратную сторону этой сказки. Мне видится, что Рей Брэдбери очень подростковый писатель. И поэтому советскому человеку с его целомудренностью и неиспорченностью эмоций пришелся как нельзя кстати. Он такой же, как мы. Так же боится темноты, этого мира и одиночества, с детской непосредственностью выражает чувства. Именно это и сроднило нас. Роман «451 градус по Фаренгейту» во многом оказался пророческим. Телевизионные «соседи», заполонившие жизнь и мозги героев, вполне присутствуют в нашей жизни. И не столько в телевизоре, сколько в социальных сетях, без кото-рых трудно представить нашу реальность. Мы перестали общаться друг с другом, практически перестали читать книги, хотя они разрешены. И то, что вы сейчас читаете этот текст, – уже наше завоевание. (с) Петербургский дневник 
Ольга Маркина — обозреватель ПД.
|
| | |
| Статья написана 17 октября 2020 г. 20:26 |
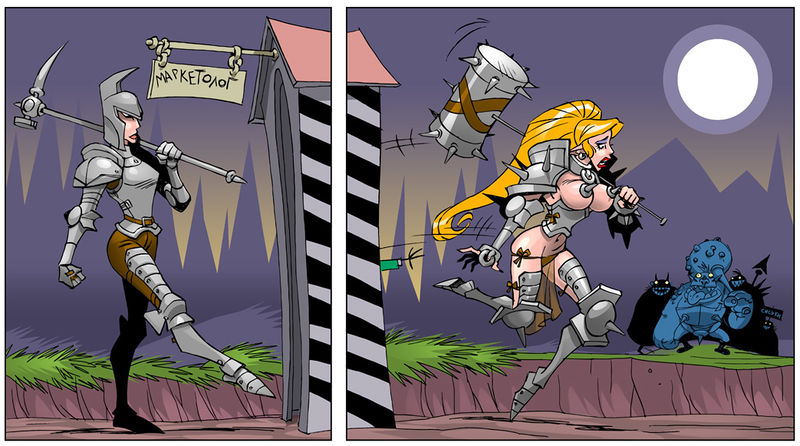
Фистин Г.С., Попова О.А. Номенклатурные наименования в современной фантастике (на примере обозначения оружия и техники) // Российская наука: тенденции и возможности. сборник научных статей. М.: Перо, 2020, с. 154-157. цитата Статья посвящена особенностям функционирования номенклатурных наименований в современных фантастических текстах. На материале анализа произведений С. Лема, Дж.Р.Р. Толкина, Л.М. Буджолд и др. выявляется специфика образования названий оружия и техники в современной научно-фантастической литературе и фэнтези. Определяется типология номенклатурных единиц в современной фантастической литературе (на материале названий оружия и техники). Ключевые слова: современная фантастика, научная фантастика, фэнтези, номенклатурные наименования, оружие, техника. В современной культуре значительное место занимает такое явление, как фантастика. Как пишет Елена Николаевна Ковтун в книге «Поэтика необычайного», «для современного человека фантастика – это космические ракеты, научные эксперименты, социальные прогнозы и параллельно, хоть и парадок сально – белая и черная магия, средневековый декор, вампиры и ведьмы, битвы на мечах в воображаемых мирах и иномерных пространствах вселенной» [1, 60]. Другими словами, современная фантастическая литература включает в себя две разновидности – научную фантастику и фэнтези. Научная фантастика основывается на научной картине мира, стремится к постановке социальных проблем и выработке научных прогнозов; в фэнтези же, напротив, создается особый художественный мир, где фантастические и иррациональные события мыслятся как естественные и важнейшие. Долгое время в литературоведении фантастика считалась несерьезной литературой, не имеющей права называться подлинно художественной прозой и не достойной быть предметом научного анализа. По этой причине языковые особенности современной фантастической литературы являются практически не изученными, что определяет новизну и актуальность нашего исследования. Объектом исследования являютсяособенности лексики в современной фантастической литературе,предметом исследования– основные принципы образования номенклатурных наименований в научной фантастике и фэнтези (на материале названий оружия и техники). В качестве материала исследования нами выбрана научная фантастика и фэнтези («Возвращение со звезд» С. Лема, «Сага о Форкосиганах» Л.М. Буджолд, «Властелин Колец» и «Сильмариллион» Дж.Р.Р. Толкина, цикл «Ведьмак» А. Сапковского, «Гарри Поттер» Дж.К. Роулинг и др. произведения). Под номенклатурными наименованияминами понимается разновидность специальной лексики, совокупность названий, употребляемых в какой-либо науке, сфере производства и т.д. для обозначения конкретных объектов (в отличие от терминологии, называющей отвлеченные понятия и категории)[2, 176]: к примеру, «АК-74», «Mercedes-Benz A-Class», «УАЗ Patriot» и т.д. В современной фантастике, зачастую посвященной изображению научно-технологического будущего, космическим путешествиям в другие галактики, звездным войнам и магическим сражениям, широко распространены номенклатурные наименования техники и вооружения. Чаще всего в фантастической литературе описываются вымышленные образцы техники и вооружения, не существующие в реальной действительности. Проанализировав выбранные нами произведения, мы разделили вымышленное оружие и технику на три группы: 1) Высокотехнологическое оружие и техника; 2) Магическое оружие и техника; 3) Легендарное оружие и техника. Рассмотрим особенности номенклатурных наименований каждой группы: 1) Высокотехнологическое оружие и техника. Данная группа включает в себя множество типов оружия и техники, отличающихся использованием технологий, до сих пор не получивших применения в нашем мире. Их можно встретить в основном в жанре научной фантастики и в жанре фантастического боевика. Как правило, в жанре научной фантастики принципы работы того или иного типа оружия или техники описаны более подробно, чем в жанре боевика, в котором любой тип оружия дан как аксиома. Принципы создания наименований техники и вооружения в этой группе различны: — в основе наименования лежит имя собственное, действующее как оберег и призванное наделить объект качествами какого-либо легендарного героя: «Прометей» и «Одиссей» – космические корабли, на которых осуществлялась космическая экспедиция на Фомальгаут. Названы в честь известных персонажей греческой мифологии (С. Лем «Возвращение со звезд»); — наименование объекта отражает его высокотехнологичные свойства: «Триумф» – большой быстроходный боевой космический корабль (Л.М. Буджолд «Сага о Форкосиганах»). — наименование образовано посредством аббревиации и присвоения объекту серийного номера: «РГ– 132» – ракета грузовая 132-ой серии, грузовой скачковый космический корабль нового поколения (Л.М. Буджолд «Сага о Форкосиганах»); — наименование объекта образовано искусственно (вымышлено автором) по аналогии со сложными научными разработками: «Рэндомизатор электронных орбиталей»–мощное оружие, разработка жителей космической колонии Бета (Л.М. Буджолд «Сага о Форкосиганах»). 2) Магическое оружие и техника. К данной группе относятся многие типы оружия и техники, отличающиеся использованием магии при их создании или употреблении. Как следствие этого, некоторыми типами магического оружия или техники могут пользоваться только специально обученные магии люди. В этой группе можно выделить следующие принципы создания наименований техники и вооружения: — наименование объекта отражает название предприятия-разработчика и номер серии или модели: «Нимбус-2000»– метла Гарри Поттера, выпущенная компанией «Скоростные метлы Нимбус» в 1991 г.; «Нимбус-2001»– следующее поколение скоростных метл, выпущенных компанией «Нимбус»; «Чистомет-11» – метла компании «Чистомет»; «Форд «Англия»(«FordAnglia 105E Deluxe») – изначально обычный человеческий автомобиль, выпускавшийся британским филиалом компании «Форд» до 1967 года и др.(Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер»); — наименование объекта отражает его свойства и предназначение: «Хогвартс-экспресс» – специальный поезд, доставляющий студентов Хогвартса к месту учебы и обратно;«Ночной Рыцарь» – заколдованный трехэтажный автобус для ведьм и волшебников и др. (Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер»). 3) Легендарное оружие и техника. Данная группа включает в себя множество типов оружия и техники, существующих обычно в единственном экземпляре и привязанных к определенному эпосу или персонажу. Оружие и техника, относящиеся к данной группе, могут быть как магическими, так и высокотехнологичными. Принципы создания наименований техники и вооружения в этой группе: — наименование объекта отражает имя его хозяина: «Ласточка» – меч Цири, фактически ее тезка (А. Сапковский «Ведьмак»); «Нож Сириуса»–волшебный перочинный ножик, который Сириус Блэк подарил своему крестнику Гарри Поттеру; «Меч Годрика Гриффиндора» – меч, созданный из чистого серебра, на лезвии которого видна гравировка «Годрик Гриффиндор» (Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер») и др.; — название объекта отражает его силу и магические свойства: «Гламдринг» – меч Гэндальфа, в переводе с синдарина его название означает «молотящий врагов»; «Жало» – эльфийский длинный кинжал, обладающий волшебными свойствами и принадлежавший Бильбо (Дж.Р.Р. Толкина («Властелин Колец» и «Сильмариллион») и др.; — наименование объекта отражает место его производства: «Рунный Сигилль из Махакама» – меч, подаренный ведьмаку Геральту краснолюдом Золтаном Хивайем (А. Сапковский «Ведьмак») и др. Таким образом, можно сделать следующие заключения: 1) Механизмы образования номенклатурных обозначений в современной фантастике во многом аналогичны принципам их создания в научной и официально-деловой речи. 2) Присвоение наименований различным типам оружия и техники в фантастической литературе производится в соответствии со следующими принципами: — наименование мотивировано свойствами обозначаемого объекта; — наименование содержит указание на предприятие-разработчика и серию либо модель объекта; — наименование образовано посредством аббревиации; — наименование объекта отражает место его производства; — наименование указывает на имя хозяина объекта (это черта исклю-чительно фантастической литературы). Литература 1. Ковтун Е.Н. Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа. М.: Изд-во МГУ, 1999. 2. Шембирев Е.И. Особенности лексики в научно-фантастическом тексте // Научный альманах, 2018, №5–3(43), с. 175–177. Фистин Г.С. — курсант, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации Попова Ольга Александровна — кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук, факультет подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации
|
| | |
| Статья написана 13 октября 2020 г. 20:34 |

Михаил Парфёнов. Тёмная волна. Беседу вёл Александр Рязанцев // Литературная Россия, 2020, №36 от 2-8 октября, с. 4-5. «Страшные истории не только оберегают «от», но и готовят «к» нежелательным, но, увы, неизбежным событиям» – так считает Михаил Парфёнов, современный писатель ужасов и создатель известной серии «Самая страшная книга». Этим, похоже, и объясняется интерес читателей, вне зависимости от их возраста, к хоррору и жутким историям про оборотней, маньяков и злых чаровниц. Мы давно пытаемся разобраться, а что же это такое – «русские ужасы», и обратились к Михаилу, искреннему ценителю и активному популяризатору хоррора в нашей стране. Набирающие силу русские ужасы, их отличие от фантастики, западная политкорректность, связь между писателем и сантехником и чашечка кофе с Галиной Юзефович – в интервью с Александром Рязанцевым. – Я всегда рад возможности продвижения и популяризации жанра «хоррор», в любом виде и формате. Не так давно давал три лекции на «Тавриде»; судя по видеотрансляции, там было несколько десятков молодых людей. Для меня это был первый опыт «лекции по Интернету», и я рад тому, что он был удачен: мне задали столько вопросов, что, из-за временных лимитов, я не на все успел ответить. Участники были искренни, а не безразличны к хоррору. – То есть, такой вот «телемост» не мешает конструктивному, полезному диалогу? – Не мешает, но его, конечно, сложно сравнить с живыми презентациями, где ты можешь вживую пообщаться с читателями. В качестве примера могу привести презентацию нашей серии «Самая страшная книга» в Библио-Глобусе. Это была идеальная встреча: очень много гостей (как говорится, «камню негде упасть»), разнообразные вопросы, живой интерес. На массовых мероприятиях вроде «Тавриды» или Московской Международной Книжной Ярмарки такой крепкой связи с аудиторией не удаётся создать. – А часто удаётся встречаться с читателями и говорить с ними о литературе ужасов? – Да, мы в последние два года довольно часто проводим такие мероприятия, правда, больше в формате встреч фанатов – «конвентов». Но это совсем отдельная история, я не рискну их сравнивать с «Тавридой», встречей с читателями в Библио-Глобусе или с чем-либо ещё. Кстати, в прошлом году был круглый стол с участием Галины Юзефович! – Как она относится к литературе ужасов? – Галина относится к нам позитивно, насколько я могу судить по общению с ней; первоначально она обратила внимание на роман Дарьи Бобылёвой «Вьюрки», оказала ей поддержку – книга оказалась успешной; это замечательно, что критики обратили на неё внимание. После этого мы встретились с Галиной в одном книжном кафе, попили кофе, очень хорошо и тепло пообщались и, по-моему, после этой встречи у нас остались самые позитивные впечатления друг о друге. По оценке Галины, мы очень даже успешны – она понимает, какие тиражи сегодня хорошие или так себе. Так вот, в плане тиражей у нас довольно успешный проект: мы издаём преимущественно не романы, а тематические или авторские сборники рассказов. Русский хоррор вот в этой форме ощущает себя лучше, чем русская фантастика. – Мне всегда казалось, что хоррор и мистика – поджанры фантастики, но вы их противопоставляете друг другу. Почему? – Потому, что это не одно и то же. Хоррор – это не поджанр фантастики, ничего подобного. Начнём с самого главного – а что такое «жанр»? Можно сказать, что это определённый формат рассказа истории – роман, рассказ, ода, или же как ярлычок на полке в книжном магазине – «научная фантастика», «хоррор», «политический детектив». Всё для того, чтобы читатель сориентировался, куда ему идти. Хочет книжку про рыцарей и драконов – ему надо в раздел «фэнтези», а хочет испугаться – идёт в секцию «ужасы». В чём разница? В жанрообразующих элементах. С фантастикой всё просто: есть такое понятие как «фантдоп», фантастическое допущение – например, говорящий робот или полёт на Луну во времена Жюля Верна. Увидев фантдоп, мы сразу понимаем, что, раз есть фантастическое допущение, то произведение имеет отношение к фантастике – либо чистой, либо смешанной с каким-либо жанром. С хоррором так не получится, потому что наличие зомби, вампира или оборотня ещё не говорит о том, что произведение относится к ужасам. Идеальный пример – «Сумерки» Стефани Майер; там тоже оборотни и вампиры, но у кого язык повернётся назвать «Сумерки» ужасами? Это, естественно, подростковая мелодрама. Таким образом, в хорроре жанрообразующим элементом становятся не фантдопы, а само понятие «страха», эмоции, атмосфера. Обращение к эмоциям роднит ужасы с комедией и трагедией: если комедия нас пытается рассмешить, а трагедия – разжалобить, то ужасы – испугать. Если автор попытался меня, как читателя, напугать (не важно, удалось ли ему это или нет) – значит, это ужасы. Причём ужасы часто смешиваются с другими жанрами – как и фантастика. Будет неправильно назвать детектив поджанром фантастики, но ничто не мешает писателю придумать «детективную фантастику». – Может, за этим и будущее – за смешением жанров? – На самом деле, это не будущее, а самое что ни есть настоящее. Большинство фантастических произведений – это смешение фантастики с чем-то ещё: комедией, детективом, историей… То же и с хоррорами – почти все они содержат элементы ещё чего-нибудь – чаще всего, драмы. Это особенно заметно по современному авторскому западному кино. Все лучшие западные ужасы – это смесь хоррора с драмой: например, «Реинкарнация», «Реликвия», «Маяк»… Это не будущее, а настоящие, а иногда даже прошлое – всё как с постмодернизмом, который возник не тогда, когда был теоретически оформлен, а задолго до этого… То же и со смешением жанров – оно было всегда, просто мы стали всерьёз об этом говорить не так давно. В частности, мы часто об этом говорим в пику писателям фантастики, которые привыкли причислять к фантастике то, что на самом деле является смешением жанров. Возвращаясь к разнице между фантастикой и хоррором: как мы отметили, фантастика невозможна без фантастического допущения, тогда как ужасы могут существовать и без использования фантастики – например, роман Роберта Блоха «Психо» и потрясающая экранизация Альфреда Хичкока. Это классика жанра «ужасы», классика триллера, но где там фантастика? Там маньяк, сумасшедший с раздвоением личности – но никак не фантдоп. Да, там есть ненормальность, но ненормальность – это далеко не всегда фантастика. – На Западе антологии ужасов пользуются бешеной популярностью – например, могу назвать книги ужасов, составленные англичанином Стивеном Джонсом, вашим коллегой. Был ли он для вас примером, когда вы запускали свою серию «Самая страшная книга»? – Стивен Джонс, безусловно, талантливый и уважаемый человек, но мы на него никогда не ориентировались. Не без гордости отмечу, что наши читатели часто сравнивают «Самую страшную книгу» со сборниками западных ужасов, составленных уважаемыми Стивеном Джонсом и Эллен Датлоу, и чаще всего это сравнение проводится в нашу пользу. Всё потому, что у нас ставится упор на хоррор, то есть на жанровую составляющую, а не политкорректность. Нам не нужно выполнять некую «обязательную программу», которой, к сожалению, вынуждены придерживаться наши западные коллеги. – А что это за программа? – Сейчас объясню. «Обязательная программа» – это набор некоторых пунктов, которые должны присутствовать в готовящемся произведении. Например, в США среди авторов каждой антологии ужасов должен присутствовать хотя бы один афроамериканец, вне зависимости от того, насколько он хорошо пишет. Вот как недавно было с «Оскаром», где с 2024 года будут вводить обязательные квоты, так и в западном книгоиздании – такая неофициальная политика проводится уже долгие годы. Составители антологий вынуждены соблюдать эту программу. На Западе это называется «толератностью», у нас – «бредом». – А откуда вы про это узнали, если не секрет? – Год назад я общался с одним человеком (имя его называть не буду), который живёт в Великобритании и издаёт там книги. Он мне всё про это рассказал. Есть перегибы, на конкретном примере – один британский автор отправил в издательство своё произведение, на что ему вскоре ответили: «Всё хорошо, берём, но у тебя нет ни одного персонажа-инвалида – надо добавить, а то инвалиды, которые прочитают твою книгу, обидятся». Он переписал, добавил персонажа-инвалида и снова отправил. На это ответ: «Ты добавил только одного героя-инвалида?! Нужно больше. А не то читатели-инвалиды ещё сильнее обидятся, так как поймут, что этот персонаж был введён просто для галочки!». Вот из-за этих призраков и страдает качественная литература: прекрасно составленный сборник может испортить совершенно непонятный и безобразно написанный рассказ про вампирш-лесбиянок. Ты сразу понимаешь, почему этот текст попал в книгу. Да, если того требует сюжетная или художественная необходимость, то я буду в числе первых, готовых похвалить такой рассказ. Но когда публикуют откровенную графоманию просто за то, что там подняты выгодные темы… Судя по антологиям Джонса и Датлоу, могу предположить, что постепенно хоррор как жанр начинает отходить на второй план, уступая место каким-то, скажем так, «социально значимым проблемам». Так что на этом фоне наш отечественный хоррор смотрится более выигрышно, так как российские авторы стараются уделять внимание как раз жанровой составляющей, атмосфере ужаса; тому, что составляет сердце жанра, делает хоррор хоррором. Мы очень рады, что нас хвалят. – Сердце хоррора большое? Каких авторов вы открыли своими антологиями? – Мне бы хотелось сказать, что некоторых авторов мы открыли, но это будет не совсем справедливо, так как они печатались и до сотрудничества с нами – например, Дарья Бобылёва до публикации «Вьюрков» в нашей серии успела их напечатать в толстом журнале. Но творческий путь некоторых из наших друзей часто начинался с «Самой страшной книги». Например, Дмитрий Тихонов, автор сборника «Чёртовы пальцы». Дима очень хороший автор, талантливый, а некоторые его рассказы могли бы украсить любой сборник современной высокой прозы. Также могу назвать Максима Кабира, молодого и довольно эпатажного прозаика и поэта – он и анархист, и коммунист, и в то же время человек энциклопедических познаний. Он большой знаток ужасов и настоящий поэт, автор сборников «Скелеты» и «Призраки». К сожалению, от тяжёлой болезни скончался Владислав Женевский – молодой и очень талантливый писатель и переводчик, которым я искренне восхищаюсь. Его тексты вызывают у меня не только восхищение, но и «белую зависть» – это когда ты сам, будучи пишущим человеком, читаешь другого автора и понимаешь, что сам бы не смог написать так, как он пишет. Это очень специфическая и точная проза, полная отсылок к западной классике, к Г.Ф. Лавкрафту, – но это не реверанс в их сторону, а свой, обогащённый собственным опытом и духом нашего времени, уникальный слог. Владислав дружил с американским фантастом Джеффом Вандремеером, перевёл для него на английский рассказ Леонида Андреева «Он» и был, пожалуй, единственным человеком в России, который видел Стивена Кинга вживую – он специально ездил в Германию, чтобы увидеть мэтра. У нас вышел посмертный сборник Влада «Запах», и я готов его советовать любому ценителю хорошей, качественной прозы с привкусом мистики. Этот сборник вышел довольно давно, но мы бы хотели его переиздать, в более полном варианте. Такая проза должна остаться в истории. – Вы сделали себе имя ежегодными антологиями ужасов «Самая страшная книга». Вы сами подбираете рассказы для них? – Наша серия основана на уникальном демократическом методе: мы собираем группу читателей, каждый из которых сам голосует за понравившиеся ему рассказы, до этого анонимно отправленные. Это тяжёлый труд, иногда бывают огрехи, отчего мы ввели одно ограничение: если мы видим, что каким-то образом читатели проголосовали за откровенную графоманию, такую, что прямо кровь из глаз течёт, то не исключаем того, что возможен потенциальный сговор с читателями со стороны какого-то автора – потому мы ввели право вето. Редакция может некоторые рассказы, победившие в читательском голосовании, забраковать и на их место взять что-то из тех рассказов, что чуть-чуть недобрали по голосам. Самое главное – наш конкурс абсолютно демократичен, прислать свой рассказ может любой желающий: дети, школьники, начинающие писатели, проверенные временем мэтры… Мы принимаем всех. А вот выбирают читатели – такой способ отбора текстов для антологий больше нигде не используется. Это наше изобретение, которым мы можем гордиться. – Каковы перспективы русского хоррора? – Мы хорошо понимаем, что из-за пандемии не только литература ужасов, но вообще весь книготорговый бизнес имеет определённые проблемы. Всё взаимосвязано: если тиражи снижаются, то какую-то литературу попросту перестанут издавать. В частности, наши тиражи снизились, но у нас имеется определённый запас прочности, который пока не даёт нам оснований бояться, что наши проекты прикроют. Нам есть куда расти, но, если год назад у нас были планы «завоевания мира» – планировали создать международную антологию с рассказами отечественных и западных авторов, напечатанную на русском и английском языках, то сейчас этот проект придётся отложить до лучших времён. Тем не менее, наши молодые авторы хорроров в самом соку и тёмная волна, накрывшая нашу литературу, уверен, даст им много материала и свежих идей. – Как насчёт экранизаций? – Да, телевидение к нам имеет большой интерес – например, по «Вьюркам» Бобылёвой собираются снимать сериал. В период пандемии наши авторы Олег Кожин и Дмитрий Тихонов продали права на экранизацию трёх своих рассказов для сериала-антологии, где, по плану, должны быть экранизации интересных рассказов современных авторов (в том числе Дмитрия Быкова). Самое интересное, что там каким-то образом присутствуют канадцы. – Интерес кинематографистов к хоррору как-то мотивирует наших авторов на создание новых историй? – Безусловно. Благодаря кино крепнут и литературные жанры. Если в 90-2000-ые наши авторы чаще всего писали в стол, то теперь у них есть все возможности для самореализации. – Сочинительство историй в России – это призвание или работа? – Кому как, я думаю. Для кого-то это ремесло, для кого-то – общение с музами… Я вот не считаю сочинительство неким мессианством; это профессия, и она не возвышается над другими видами деятельности. Я часто сравниваю писательство с работой сантехника: автору не надо гордиться собой, на надо почивать на лаврах – он должен трудиться, трудиться или ещё раз трудиться. И тут я привожу аналогию с сантехником: ведь если к вам приходит сантехник-неумёха с плохим набором инструментов, заменивший унитаз так, что нужно заново вызывать сантехника, то вы к такому «специалисту» отнесётесь плохо и будете его ругать, поскольку этот человек в своей профессии отработал плохо. То же можно сказать и про сочинителей: если ты плохо владеешь инструментом (русским языком, стилистикой, пунктуацией, темпоритмом произведения, навыком раскрытия характеров), то ты будешь таким же плохим специалистом в своей профессии, как вышеупомянутый сантехник. Если же сантехник – классный специалист, то он достоин похвалы. То же скажу и про писателя. Все люди равны, все писатели равны, все жанры равны; не бывает плохих жанров, бывают плохие писатели и неудачные книги. – Все важны или никто не важен. Что нужно сделать, чтобы русские фанаты ужасов меньше читали Стивена Кинга, а больше – Дарью Бобылёву или Максима Кабира? – Мы делаем всё возможное для этого. Во-первых, активно публикуем наших авторов. Это важно, потому, что хоррор позволяет говорить о тех вещах, о которых не очень позволяют другие жанры. Например, насилие в семье, инцест, всевозможные девиации… Это темы, которые будет очень странно смотреться в фэнтези или научной фантастике – но в хорроре они вполне уместны. Это интересно, так как позволяет говорить о том, что в русской литературе ранее говорилось редко. Есть темы, которые должны подниматься, так как литература – это, как ни странно, одно из зеркал жизни. – Мы сможем догнать и перегнать Стивена Кинга? – Это, на данный момент, пока никому в хорроре не удалось. По вполне понятным причинам: во-первых, Стивен Кинг талантливый и очень интересный писатель, который заслуживает всех своих регалий. Он действительно великий человек. У него есть шедевры, которые стали классикой, есть произведения послабее – но почти каждая его книга, вне зависимости от того, насколько она удачна, является достойным образцом жанра. Но надо понимать, что когда Кинг становился классиком, Королём Ужасов, то ситуация в мировой литературе была совсем другой, не той, что сейчас. Сегодняшняя ситуация не лучше и не хуже, – она просто другая, оттого повторить путь Кинга будет затруднительно. Для этого надо иметь его талант и жизненный опыт, а также возможность повторить ту ситуацию, что сложилась в мире во второй половине XX века – а сделать это невозможно, потому и стремиться к этому не надо. Надо искать свой путь – что мы и делаем. И мы уже сталкиваемся с фактом, что наш русский хоррор гораздо ближе к идеалам жанра, чем современные западные произведения. – А русская классика близка идеалам хоррора? – Конечно! Один Пушкин чего стоит с его «Пиковой дамой». Петербургские и украинские истории Гоголя, естественно, «Лесной царь» Жуковского, рассказы Тургенева, Ремизова, Загоскина… Даже у Даля, составителя нашего любимого словаря, есть страшные рассказы! Почти все авторы Серебряного века, писавшие о декадансе, о мраке – все эти великие писатели не считали для себя чем-то постыдным, унизительным или скучным попробовать напугать своего читателя… Так почему этого должны стесняться мы? (с) Литературная Россия (с) Лена М. 
|
|
|


 облако тэгов
облако тэгов