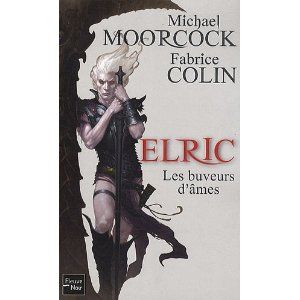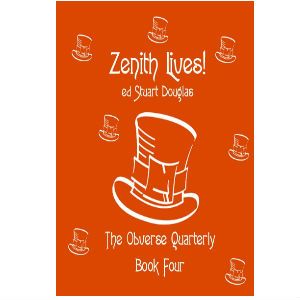| |
| Статья написана 1 марта 2012 г. 20:55 |
Есть книжки, про которые, когда плаваешь по океану информации англофэндома, нельзя не услышать. Книжки-легенды, полузабытые, как правило, аут-оф-принтные тексты, заимевшие, как водится, культовый статус в узких кругах. А поскольку всегда есть вероятность, что широкие круги прошляпили гения второго или даже первого класса (напомню: второклассных гениев открывает либо следующее поколение, либо одно из позднейших; гениев первого класса не знает никто и никогда, ни при жизни, ни после смерти. Это — открыватели истин настолько невероятных, глашатаи новшеств настолько революционных, что их абсолютно никто оценить не в силах), благо, это нам только давай, такие книги я стараюсь отыскивать и читать. "Чай с Черным Драконом" ("Tea with the Black Dragon") Роберты Энн МакЭвой (род. 1949) — примерно такая книга. Она была издана в 1983 году и переиздавалась в 1999-м — собственно, всё. Между тем в свое время "Чай", позднее ставший lost book, вошел в шорт-лист "Хьюго" и "Небьюлу" (в обоих случаях уступил "Звездному приливу" Брина) и получил награду Джона Кэмпбелла и "Локус" за лучший дебют.  
И это все тем более удивительно, что "Чай" — не фантастика и не фэнтези. Вообще. Хоть кушайте меня с маслом, но никакого элемента необычайного в этом коротком (130 страниц в издании 1999 года) нет. Можно сказать, что исключение — сцена, где потерявший много крови герой вновь обретает физическую силу. Но, как сказано в другом месте текста, это может быть всего-навсего адреналин. В этом смысле "Чай" уникален, потому что фантастичен (во всех смыслах слова) не на уровне сюжета, как основная масса творений писателей на букву "ф", а уровнем выше и уровнем ниже. На уровне сюжета это история скрипачки по имени Марта Макнамара, которую дочь Лиз (окончившая Стэнфорд программистка) без объяснений вызывает в Сан-Франциско, снимает ей номер в роскошном отеле — и не выходит на связь. В гостинице Марта знакомится с пожилым китайцем, назвавшимся Мэйлэндом Лонгом. Тут игра произношений: Long — Лонг по-английски, но Лун по-китайски; почти сразу выясняется, что китайца зовут У Лун, как сорт чая "черный дракон". И он, более того, не особо стесняется рассказывать окружающим, что живет на свете тысячи лет, был лично знаком с Бодхидхармой, слышал чуть не из первых уст историю Томаса-Рифмача, переписывался с Джоном Донном, знает множество языков — и что он вообще-то не человек, а дракон. Что, понятно, фантастика, если мы верим мистеру Лонгу, и не очень, если мы считаем, что он все придумывает. Между тем, если разобраться, оснований верить герою у нас нет. Дракона в нем не выдает ничто, кроме острого ума, чрезвычайно длинных пальцев и физической силы (но, как верно подметила Наташа Осояну в своей реце, последнее свойственно и спецназовцам). И это — фантастика уровнем ниже сюжетного. Разобравшись в ситуации, Мэйлэнд Лонг решает помочь Марте — не столько потому, что жалеет ее, сколько потому, что она может оказаться духовным наставником, предсказанным мистеру Лонгу умиравшим даосом на Тайване много лет назад. Далее начинается чисто детективное расследование, в ходе которого Марту похищают, а Мэйлэнд Лонг сталкивается с необходимостью много думать, ездить на автомобиле и терпеть физическую боль. Будут погони. Будет любовь. В дракона по пути никто не превратится. Закончится все хорошо (дальше будет продолжение 1987 года, роман "Twisting the Rope", его я пока не читал). Внимание, вопрос: что в "Чае с Черным Драконом" такого, что заслуживает номинаций, премий и культового статуса? На уровне сюжета — ничего. Уровнем ниже, в общем, тоже, хотя история знакомства с Бодхидхармой в Хунани описана прекрасно. Но есть еще уровень выше, совершенно прекрасный и офигительный. Он объединяет в себе две вещи: как книга написана — и о чем она на самом деле. Что в данном случае одно и то же, но не в вульгарном смысле "главное — стиль, а остальное — удел гетто". Напротив. Стиль в "Чае" сугубо функционален. В романе, что называется, нет ни капли жира, каждое слово на месте, все звуки подтянуты, как мышцы Мэйлэнда Лонга, ритм напряжен, и текст звенит. Как в той притче о Будде, еще до просветления вставшем на путь аскета и порядком себя на оном пути истощившем; уже почти помирая, Будда сидит под деревом и слышит, как в проплывающей мимо лодке музыкант наставляет учеников: "Струну нельзя недотянуть — на такой струне играть невозможно; струну нельзя перетянуть — она лопнет; струну следует натягивать так, чтобы она звучала, не более и не менее", — и Будда понимает, что он себя перетянул, и осознает, что такое "срединный путь", и все заверте. Так вот, "Чай" — это великолепный образец текста срединного пути. Переводить такие чертовски сложно и дьявольски увлекательно. Чтобы не быть голословным — вот первое попавшееся место, и простите за длинную иноязычную цитату: Martha Macnamara's universe was compassed by the groan and creak of wood, and by the chill of wet air. Had she been able to think, her very sickness might have convinced her she was still alive. She was denied that comfort, being barely conscious, and her thoughts were bound up with a rhythmic rise and sinking. The beat was molto lento, and she should be doing something in time with it. What? The question gnawed at her. She tried breathing in time with the measure — no go. You can't force your breathing, she reminded herself. What then — sing? She couldn't remember a song as ponderous as the rhythm the world now kept, and she couldn't find her mouth anyway. Neither could she find her hands, so she couldn't play the fiddle. The staccato beat of footsteps superimposed itself over the slow rocking. She attended to the footsteps. Good. Percussion rounded out the work nicely. Someone was taking care of things. Martha was content. И я не просто так вспомнил про Будду, потому что внутри, ну или уровнем выше сюжета, "Чай с Черным Драконом" — это текст о поиске истины, она же — просветление. Предсказанная Мэйлэнду Лонгу Марта Макнамара, сама того не понимая, ведет Черного Дракона по пути истины, который и есть повествование. Автор берет на себя очень много — и у нее, как ни странно, все получается. Хотя конечный эффект, безусловно, странный. Если коан выдать за фэнтези, он, ясен пень, поразит читателя нелогичностью, дисбалансом и прочим неадекватом. "Чай" — не коан, он сделан по-другому тут скорее приходит на ум "теория айсберга" Хэмингуэя: в книге происходит не то, что описывается, описывается не то, что происходит, мы видим (читаем) лишь верхушку айсберга и должны сами заполнить лакуны и увидеть картину целиком в своем сознании по знакам, то есть — по черным буквам, напечатанным на белой странице. Другое дело, что таким знаком может быть энсо, чаньская окружность, символизирующая недвойственное восприятие. В одной из сцен герой видит энсо на стене. В дзэн-буддистской традиции он означал ничто. В буквальном смысле ничто — ноль, му, Пустоту. Для мистера Лонга он означал очень многое. Как описать айсберг, состоящий из пустоты? Я скажу. Точно так же, как Чай с Черным Драконом.
|
| | |
| Статья написана 19 февраля 2012 г. 15:40 |
Пропущенное: еще в мае прошлого года вышел новый роман про Эльрика из Мельнибонэ — "Те, кто пьет души", ну или "Душепивцы"  Вышел на французском: Вышел на французском: 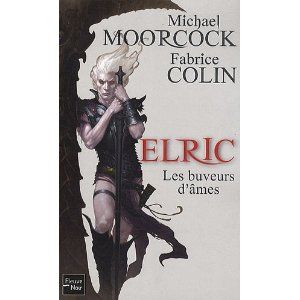
Технически это текст Фабриса Колена, расширившего новеллу ММ "Черные лепестки" ("Black Pethals"). А в скором времени выйдет сборник рассказов про альбиноса Зенита "Зенит жив!": 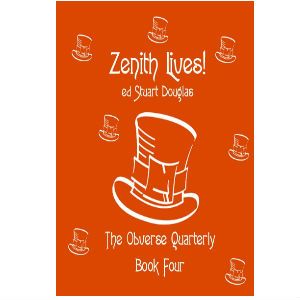
В него войдет новый рассказ ММ "Кураре" ("Curare").
|
| | |
| Статья написана 18 февраля 2012 г. 03:41 |
За этот роман я взялся по трем причинам. Во-первых, много слышал, причем разного. Во-вторых, это издатство "Снежный Ком". В-третьих, почему-то я решил, что это подступ к "цветной волне", хотя в каких отношениях Данихнов с "цветной волной" — бог весть. 
Good news: лет пять назад я бы, наверное, прыгал от радости, если бы прочел "Девочку и мертвецов", потому что книга реально хорошо написана. Я имею в виду — язык и стиль. Это не язык на бесптичье и не стиль на бесстилье, и вряд ли даже по тексту сильно прошелся редактор. Правда, с годами (эк) я стал несколько пугаться стиля с большой буквы "с", потому что никогда не знаешь, то ли автор умеет по-всякому и так тоже, то ли он только так и умеет, и впереди не горы, а прерия-прерия, цок-цок-цок. Но в случае с одной книгой это не так важно. Лет пять назад я бы прыгал, но как-то с годами (эк) мне стало ясно, что стиль — это еще не все или даже совсем не все. Вообще, я бы сказал, что стиль — это последнее прибежище писателя. Yes, I mean it. В "Девочке и мертвецах" сознательный закос под Платонова (и не только) detected, но не надо думать, что это что-то плохое. Главное, что это не пустопорожний постмодернизм. Еще good news: как это сделано. Сделано достаточно хорошо. Сначала ни черта не понятно, где происходит действие и что вообще происходит. Потом, постепенно, становится чуть яснее, что это не ад и не мир без координат, конца и начала, а просто другая планета, колонизированная а-ля "Улитка на склоне", и есть своя логика в том, что у грибов — мохнатые лапки, а у птиц — длинные липкие языки, что березки тут краснобоки, что поселения называются так, как называются, по именам русских классиков, что люди тут только русские, что имена у них вот такие странные иногда, что обращаются они друг к другу так-то и так далее. То есть — по "логике мира" пять и по "языку мира" пять тоже. Это уже прекрасно, потому что и на Западе такое умеет редко кто (Олдисса хвалили в свое время за "язык мира"; может, мне чудится, но влияние "Non Stop" на "Девочку" возможно), а у нас, по наблюдениям, как-то и понимать не хотят, что такие вещи отличают нормальный текст от подделки под оный. И еще good news: все это не само по себе, а — дополнительно — на уровне метафоры (требовать четырех уровней по Пико делла Мирандоле мы не будем, конечно, ибо мы не звери). В описанном мире люди, потомки колонистов, сосуществуют с мертвецами, они же серые, они же — впоследствии — некромасса, то есть — те же люди, но мертвые. И мертвецов, вы понимаете, едят. Допустим, мертвецы идут на город, а город их вторично убивает и потом пирует много дней, жаря мертвецов на шашлыки. Мы понимаем, что это метафора. И что это метафора убойной силы, красивая, хотя и тошнотная, но отчего бы ей не быть тошнотной? В реале люди творят куда более страшные вещи, в конце концов. И вот по этому продуманному полуметафорическому миру движутся в уголовном квесте трое: взрослые мужики Ионыч и Федя и девочка Катя, которую Ионыч некогда взял из детдома. Ионыч, как становится ясно на первых же страницах, — воплощение зла, но не мистического, а бытового. Злой, хитрый, лицемерный садист, полная сволочь, активно сеющая гадкое, лживое, кровавое и при этом наслаждающаяся собой. Федя при нем — на позиции "доброго следователя", то есть в устойчивом симбиозе. Ну а заглавная девочка всю дорогу верит в то, что дяди хорошие, потому что много пережили, оправдывает любые их поступки, предает ради них кого угодно. И это уже не совсем фантастика. Это, к сожалению, бывает чаще, чем кажется людям, которые, по счастью, такого не испытывали никогда. Тут книга вроде как выруливает на уровень действительно русской классики. Толстой. Достоевский. Чехов. Платонов, да. Местами — Зощенко. Сюжет при этом, если отвлечься от краснобоких березок, — скорее криминальный, "бег зайца через поля", пусть и с элементами то хоррора, то киберпанка: условные бандиты прут вперед, оставляя за собой "мокрый" след, их пытаются поймать, но человеческая глупость и странные предложенные обстоятельства до времени дают Ионычу и Феде одолеть любые ловушки, чтобы прийти к закономерному финалу (который в некотором роде закос под "Сирен Титана", как мне показалось, особенно с этой тарелкой, которая всю дорогу макгаффин макгаффином, а в конце хлобысть!.. — но я не настаиваю). То есть — я понимаю, о чем книга. О страданиях и о (не)тщете их преодоления. О добре и зле. Bad news: с дисклеймером "личное восприятие" я скажу, что "Девочка и мертвецы" написаны пессимистом. Это диагноз, но не лекарство. Не знаю, насколько я могу сие вербализовать, но: "Улитка на склоне" — лекарство, и "Гадкие лебеди" — лекарство, и "Сирены Титана" — лекарство. А "Девочка и мертвецы" — диагноз, невзирая даже на девочку Катю и пассажи про искру, потому что логика повествования вся против Кати и против искры. Может быть, дальше, за гранью текста, что-то будет еще, кто-то полетит на Землю, кто-то сделает так, чтобы другие увидели, когда людям больно, но внутри текста все так, как есть, и ничего не меняется, и измениться не может, судя по всему. А пессимизм как неверие в способность человеческой природы к изменению — это довольно страшно, если задуматься. Как бы там ни обстояло дело с этой природой, "если к правде святой мир дороги найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой" — и Беранже знал, о чем писал. Мы либо пытаемся, либо не пытаемся. То есть: либо мы живы, либо мы мертвы. И, вы понимаете, текст-диагноз — он сам по себе мертв. А текст-лекарство — нет, даже если это плацебо и сон золотой. То есть — мне кажется, что хуже, разобравшись в паскудности мира, описывать эту паскудность как терминальное состояние, чем, даже не разобравшись, полезть все-таки на баррикады и попытаться взять Манхэттен штурмом. Тем более, что люди, которым удается таким макаром, с разбега и с полпинка взять Манхэттен, среди нас очень даже есть. При этом очень может быть, что попытка создания такого текста сама по себе — жива и важна для автора, но это уже отношения автора с Богом, или в кого и во что он верит. Девочка Катя жива точно. Просто мне со временем стали несколько сомнительны отлично написанные книги, которые мало того что окунают тебя в тотальное несовершенство мира, так еще и не протягивают читателю руку помощи. В финале "Девочки и мертвецов" написано: "Посредством этой фантастической истории автор намеревался разместить рекламу светлого будущего человечества на унылой обложке настоящего. Но, к сожалению, не преуспел". Это честная самооценка (надеюсь, не кокетливая, а откровенная). Не преуспел. Диагноз есть, лекарство — хрен. Не к чему реально стремиться. Идеалы либо где-то около Бога и недостижимы, либо бренны и растоптаны Ионычевыми сапогами. И не надо говорить о потерянном постперестроечном поколении, которое либо яростно пессимизирует, либо загадочно так парит в "атмосфере важнее сюжета". Мы же все понимаем, что у АБС то, что за текстами, устроено принципиально по-другому, да? И что дело не совсем в СССР, и не в шестидесятниках, и не в крахе будущего как идеи, и не в старом фольклоре, и не в новой волне. А в чем тогда? И что стало с вашими идеалами?
|
| | |
| Статья написана 12 февраля 2012 г. 19:45 |
Вскорости WiNchiK выложит обзор зарубежных новинок, но я сразу поделюсь аннотацией к новой фантастической книжке Мэтта Раффа (который "Канализация, Газ & Электричество" и не только) "The Mirage": 
Ошеломляющая альтернативная история событий сентября 2001 года, разоблачающая тайны Америки и Ближнего Востока. 11 сентября 2001 года: христианские фундаменталисты захватывают четыре самолета, два из них летят к башням Центра мировой торговли "Тигр" и "Евфрат" в Багдаде, третий — к аравийскому Министерству обороны в Рияде. Четвертый самолет пассажиры взрывают прежде, чем он успевает долететь до Мекки. Соединенные Штаты Аравии объявляют войну с терроризмом. Аравийские и персидские войска вторгаются на восточное побережье и объявляют Вашингтон "зеленой зоной"... Лето 2009 года: агент аравийской национальной безопасности Мустафа аль-Багдади допрашивает захваченного в плен бомбиста-самоубийцу. Арестант утверждает, что мир, в котором они живут, — мираж: в настоящем мире Америка — супердержава, а арабские государства — всего лишь "скопище отсталых стран третьего мира". В ходе обыска в квартире бомбиста обнаружен журнал "The New York Times" от 12 сентября 2001 года, вроде как подтверждающий слова заключенного. Другие захваченные террористы говорят то же самое. Президент требует ответов, но вскоре Мустафа осознает, что в ответах заинтересованы многие. Гангстер Саддам Хуссейн проводит собственное расследование. И ничто не остановит главу сенатского Комитета по разведке, героя войны по имени Осама бин Ладен, в его стремлении скрыть правду. Мустафа с коллегами все глубже погружаются в беспокойный мир терроризма, политики и шпионажа, перед ними встают вопросы, не имеющие рационального ответа, — и все больше вероятность, что мир действительно не то, чем кажется. И ведь я готов биться об заклад, что Мэтт Рафф не читал "Гравилет "Цесаревич"" Вячеслава Рыбакова. (Судя по аннотации, возможности у автора были прекрасные. Правда, отзывы на "Амазоне" так себе.)
|
| | |
| Статья написана 11 февраля 2012 г. 15:09 |
Интервью с режиссером «Generation П», взятое yours truly в Тлнн во время кинофеста "Темные ночи" для опять же родной газеты. *** Фильм «Generation П» Виктора Гинзбурга стал одним из самых ярких событий 2011 года в российском кино. В Эстонии картину показывали на фестивале «Темные ночи» 
«Непосредственно съемочный процесс занял три с половиной года, а всё вместе – больше пяти, но игра стоила свеч, – рассказывает Гинзбург «ДД». – Зритель понял наше кино лучше, чем большинство российских кинокритиков. Вообще, “Generation П” сделан вопреки российской киноиндустрии. Как она ни старалась предотвратить появление фильма – не получилось: мы прошли под радаром и разбомбили всех! 540 копий, 70 процентов зрителей – молодежь от 16 до 30 лет, не читавшая роман...» Работать над плевком – или вечностью – Это правда, что вы снимали по сорок дублей, прямо как Герман или Куросава? – Поразительно, что в России такое поведение режиссера считается чем-то из ряда вон. Ничего особенного тут нет, это нормальная работа режиссера и актера. Особенно если актер не знает текста, всю ночь снимался в каком-то сериале и пришел на площадку неподготовленным – а это общее место российского кино: там царит халтура, все хотят заработать как можно больше денег за день, за смену. Если можно в день впихнуть две, три смены – отлично. Когда актер снимается в кино, он должен понимать, что это некий, как сказала Фаина Раневская, «плевок в вечность». Актеру стоит забыть на время про театр с телешоу и работать только над этим плевком... или, лучше сказать, над вечностью. (Смеется.) А в России... нет, я понимаю актеров. Они устали от ужаса в сценариях, ужаса, который они должны произносить, делать его своим. Они ненавидят все по инерции, презирают режиссеров, не верят ни во что, и эта ненависть – как танк, ее очень сложно остановить. Я пытался не воспринимать это на личном уровне и... просто работать. – До «Generation П» вы снимали клипы и документальные фильмы. То, что вы клипмейкер, как и пелевинский герой Вавилен Татарский, вам помогало? – Меня всегда увлекал радикальный кинематограф, расширяющий рамки киноязыка. Я считаю, что экспериментальное кино не должно быть артхаусным. Есть много примеров того, как радикальный кинематограф прорывается в мейнстрим, взять «Механический апельсин». Зритель, особенно молодой, готов понимать более прогрессивный язык кино. Вы можете назвать это клиповым мышлением – безусловно, MTV и телевидение в целом меняют киноязык, ускоряет его. Так или иначе, язык, на котором снят «Generation П», понятен зрителю. В фильме есть энергия – то, чего не хватает сейчас в российском кино. Там нет энергии, нет современной мысли, и это убийственно. Российский кинематограф разделился на два направления. Первое – нудный старомодный артхаус, такой псевдо-Тарковский, востребованный только на европейских фестивалях. Жители Европы консервативны, а русский артхаус для них – как каша утром или любимый десерт. Второе направление – это псевдо-Голливуд, продюсерское кино, которое продюсеры называют блокбастерами еще до выхода фильма. Вообще-то блокбастером называется фильм, уже собравший гигантскую кассу... В этой ситуации я попытался снять развлекательный фильм с глубоким смыслом: и чтобы звучал смех в зале – и чтобы зритель, если он того захочет, мог углубиться в философский контекст.
Может счастье быть виртуальным?– Вы считаете «Generation П» самым значимым романом постсоветского периода. Почему? – Это метафорическое осмысление того, что произошло с человеком, с культурой, с ценностями на одной шестой части суши. И что это значит для мира и космоса. – Вам не кажется, что к 2011 году роман чуть устарел – он все-таки про 90-е? – Первая половина фильма – действительно о 90-х, о революционном периоде, смутном, галлюциногенном. Фильм отличается от романа тем, что я довел сюжет до сегодняшнего дня, написал продолжение, которое, кстати, понравилось Пелевину, о том, как из водителя Татарского, его играет Андрей Панин, создают виртуального президента. В итоге кино – про сегодняшний день, про «нулевые», которые все еще с нами. – Каким вы видите финал истории Татарского? Многие читатели считают, что «Generation П» заканчивается хэппи-эндом. – Это неоднозначный финал. В нем есть надежда. В конце фильма звучит фраза из романа, очень важная, как мне кажется: «Мы не продукт рекламируем, а простое человеческое счастье». Да, счастье виртуально, и кто сказал, что оно не может быть виртуальным? С другой стороны, книга заканчивается вопросом, и главное для меня было – этот вопрос сформулировать, приоткрыть занавес, чтобы стало яснее устройство мира, в котором мы живем. Полностью мы этот занавес откроем в следующем фильме – «Empire V». – Вы перенесли на экран страшный мессидж книги – о том, что в итоге поколение «Пепси» оказалось псом П****цом, почти апокалиптическим Зверем... – Роман – это предупреждение, а не констатация. Пелевин хочет растормошить сознание, он говорит: «Просыпайся! Если ты не хочешь быть частью П****ца – не будь ею!» – Пелевин принимал участие в съемках фильма? – Нет. Вначале, когда мы познакомились, он считал, что роман экранизировать нельзя, предлагал другие тексты. Потом он понял замысел, понял, что я хочу продлить сюжет в сегодняшний день, и сказал: «Вперед!» На повестке дня – 3D-фэнтези – Месяц назад Путин высказался за введение в России аналога кодекса Хейса, запрещавшего Голливуду издевательство над религией, мат, наркотики и многое другое. Как вы относитесь к этому предложению? – Так же, как киноиндустрия США отнеслась в итоге к кодексу Хейса – его отменили, и правильно сделали. Это призрак маккартизма какой-то, пиарщики Путина, мне кажется, должны действовать осторожнее. В России хватает самоцензуры, там уже нет остросоциального кино. Серьезное искусство не может существовать вне политики, вне социальных вопросов, даже «Ромео и Джульетта» – это политическая история. Кино должно соприкасаться с реальностью, а когда оно «из жизни голубей»... Самокастрация – это ужасно. Суть возрождения – в свободе творчества, а целеустремленный поиск национальной идеи через кинематограф – это смешно. Извините за прямолинейность. – Как обстоят дела с вашим новым проектом – экранизацией романа Пелевина «Empire V»? – Я пока пишу сценарий. Хочу умножить концепцию развлекательного кино со смыслом на сто, сделать грандиозное 3D-фэнтези, не побоюсь этого слова. «Empire V» – это ведь в том числе вампирская лав-стори. Для съемок потребуется серьезный бюджет, сейчас идут переговоры, проект, я полагаю, будет международным. – «Empire V» тоже ничем хорошим не заканчивается. Вас не привлекают романы Пелевина о просветлении вроде «Чапаева и Пустоты» или «t»? – Это не мое, и потом, «Чапаева» давно пытаются экранизировать другие люди, увы, безуспешно. Финал «Empire V» для меня – тоже хэппи-энд. В главном герое человек борется с вампиром – и не сдается. В последнем предложении книги герой, став властелином мира, признает существование божественной справедливости, которая в итоге восторжествует, – а значит, есть надежда, что человек победит вампира. *** Виктор Гинзбург родился в 1959 году в Москве. В 15 лет эмигрировал с семьей в США, где окончил Новую школу социальных исследований и участвовал в программе Нью-Йоркской школы визуальных искусств. Поставил более 40 видеоклипов для различных исполнителей, включая Лу Рида и группу Gorky Park. Премьера первого полнометражного художественного фильма Гинзбурга «Generation П» по роману Виктора Пелевина состоялась в Москве 14 апреля 2011 года. В июне 2011 года Гинзбург приобрел права на экранизацию еще одного романа Виктора Пелевина «Empire V».
|
|
|




 облако тэгов
облако тэгов
 Вышел на французском:
Вышел на французском: