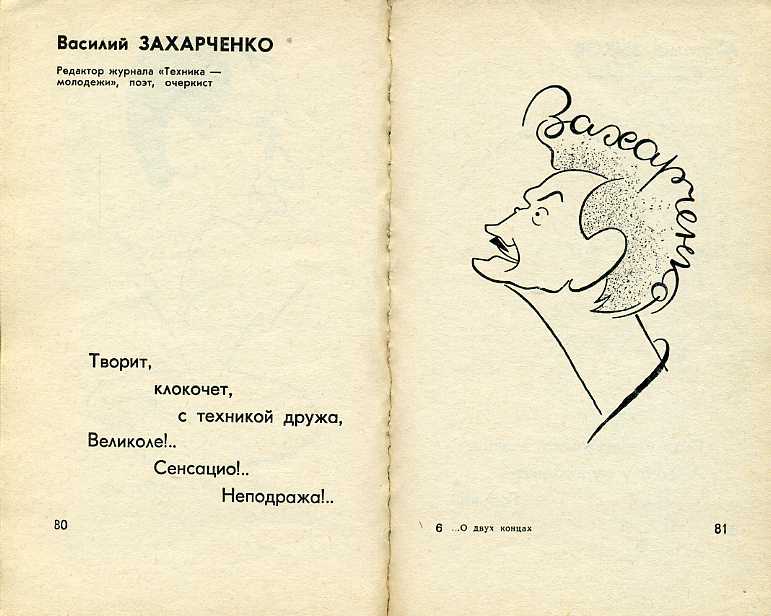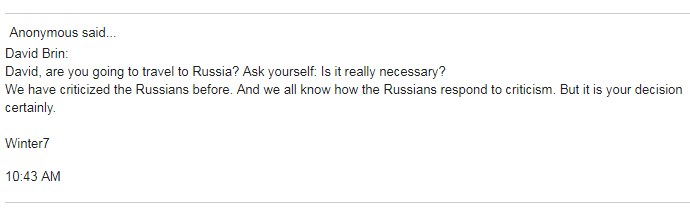По воспоминаниям Людмилы Миклашевской (Повторение пройденного, СПб., 2012)
цитатаВскоре в этом доме произошло экстраординарное событие — прием Уэллса. К. М. [Миклашевского] пригласили как хорошо говорящего по-английски. В этом доме, кроме Марии Игнатьевны, никто английского не знал. Ну и я, как жена, тоже присутствовала. В городе был голод, на улицах не залеживались трупы лошадей — их мгновенно растаскивали голодные люди. Не было ни магазинов, ни рынков, но стол на Кронверкском для такого торжественного случая был роскошный. Его обеспечил сам Родэ. В недавнем прошлом владелец ночного ресторана с певичками «Вилла Родэ», он теперь был уполномочен Горьким вершить распределение пайков в Доме ученых. Мы тоже получали этот паек раз в месяц: две-три ржавые селедки, кулек затхлых размякших сушеных овощей, несколько кусков головного сахара, горсть какой-нибудь крупы, перловой или пшена, и в лучшем случае 1/4 литра льняного масла. Многие завидовали этому пайку. Действительно, это было много по тем временам.Но Родэ знал, где что хранится, и держал на учете. На столе были даже сардины, разные копчености, кулебяка из белейшей муки и много вкусных закусок, не говоря уже о водке и винах.
Но Родэ на этом не остановился, он взял на себя и художественную часть. Он решил показать британцу всю широту славянской разгульной души и следовал своим вкусам и навыкам.
Для начала в мастерской Валентины Михайловны, где собравшиеся сидели в ожидании ужина, Родэ поместил за «зимним садом», как называли мы нагромождение огромных горшков и бочонков с вечнозелеными растениями, небольшой хор из Певческой капеллы. Сперва они спели «Эй, ухнем!», а потом грянули почему-то «Вечную память». Просто у них это хорошо получалось, и Родэ решил, что Уэллс примет это за народную русскую песню. Мы все вздрогнули, но Мария Игнатьевна, сидевшая рядом с Уэллсом, стрельнула на нас глазами и быстро начала что-то ему объяснять. Сошло.
Потом был ужин. Маленький, довольно плотный Уэллс и за ужином сидел рядом с Марией Игнатьевной. В сером, совсем обычном костюме, румяный, живой и внимательный, он оглядывал всех нас, обилие блюд, и без конца задавал вопросы Марии Игнатьевне. Он тогда и не предполагал, что эта общительная остроумная дама станет в будущем его женой.
А рядом со мной оказался сын Уэллса — тонкий, красивый юноша, ну в точности такой, какими мы знали молодых англичан по открыткам.
К. М. сидел в другом конце стола. Мария Игнатьевна несколько раз обращалась к нему по-английски, он отвечал, и создавалось впечатление, что в этом культурном доме все свободно говорят на английском языке. Но я ни одного слова не знала. Мой сосед томился. Тут я рискнула заговорить с ним по-французски, и он ответил мне. Оба мы говорили скверно, но все же кое-как объяснились.
Мария Игнатьевна радостно закивала мне. Это тоже был хоть какой-то выход из положения. Звали прекрасного юношу не то Джим, не то Джек, что-то в этом роде. Он спросил, всегда ли у нас так ужинают, я ответила, что только в честь приезда знаменитых гостей.
Напротив нас сидела балетная пара — Лопухова и Орлов. Их тоже пригласили. Они были в русских костюмах. Надо было ожидать виртуозного танца после ужина. Но Родэ придумал иначе, видимо, он не мог забыть традиций ночного шантана. И в конце ужина, когда убрали все блюда и использованные тарелки, оставив только бокалы и графины с вином, мы поняли, что наступил момент для чая, в углу столовой баянист заиграл плясовую, Лопухова и Орлов как бабочки вспорхнули на стол и заплясали на белой скатерти. Красные сафьяновые сапожки Лопуховой мелькали меж бокалов с такой ловкостью, словно она только на таких столах и танцевала. А Орлов выкидывал коленца перед самым носом Уэллса, который даже чуть отодвинулся от стола. Но все сошло благополучно. Алексей Максимович хитро улыбался. Мария Федоровна сидела как изваяние. Ни слова, ни жеста. Она ушла к себе, а остальные снова собрались в мастерской Валентины Михайловны и под баян немного потанцевали.
Возвращаясь домой, мы с К. М. назвали этот ужин «Пир во время чумы». Питались мы скудно, и такой ужин был для нас праздником, но какое-то неловкое чувство не оставляло нас.


 облако тэгов
облако тэгов