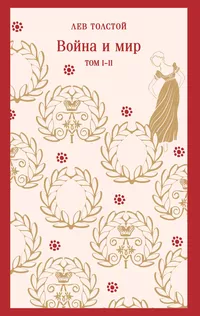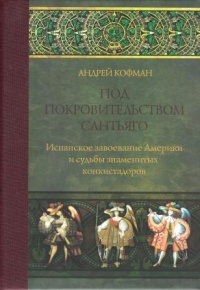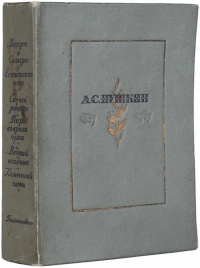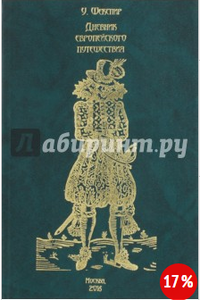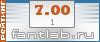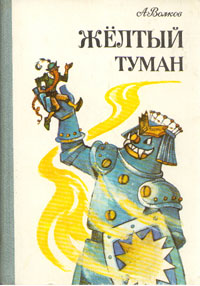| |
| Статья написана 19 февраля 2020 г. 03:04 |
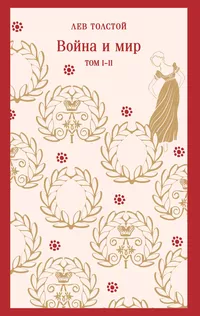 | | роман-эпопея Хорошо известный классический роман-эпопея Льва Толстого рассказывает о сложном, бурном периоде в истории России и всей Европы — эпохе завоевательных походов императора Наполеона в Восточную Европу и Россию, с 1805 по 1812 год. Автор подробно рассказывает о Войне — о ходе боевых действий от Аустерлица до Бородино и Березины; и о Мире — показана жизнь в России в это же время, причем пером писателя охвачены все слои общества — дворянские семьи, крестьяне, горожане, солдаты и даже императоры.
В этом большом, многоплановом романе действуют десятки и сотни персонажей — и в их числе реальные исторические лица, при помощи которых Толстой старается изобразить жизнь в ту эпоху во всем ее многообразии. Часто автор отступает от основных событий романа и излагает свое... |
|
«Передовыми людьми можно назвать только тех, которые именно видят всё то, что видят другие (все другие, а не некоторые), и, опершись на сумму всего, видят всё то, чего не видят другие...» Николай Гоголь «Я полностью погрузился в «Войну и мир», которая по праву является величайшей книгой, невероятной — другого слова не подобрать». Олдос Хаксли Об этом романе исписаны тонны бумаги. Не буду даже называть тех, кто поучаствовал в этом полезном деле, этих людей сотни. Казалось бы, что ещё можно тут выдавить из себя. Но я не выдавливаю, наоборот, мне кажется, что мои заметки многим покажутся неожиданными и уж точно заслуживающими внимания, и пришли мне в голову эти мысли далеко не сразу, для этого кроме «Войны и мира», прочитанной не один раз, нужны были ещё многие источники. Итак, приступим с Божьей помощью, и, как говаривали древние римляне, да погибнут те, кто раньше нас сказал то, что говорим мы. В очень неплохом эссе С. Г. Бочарова, которое чуть ли не всё посвящено Наташе и её ближайшему окружению и которое легко найти в интернете, есть замечательная фраза: «...«Война и мир» такова, что она нам может предстать «целиком» из отдельных своих эпизодов и сцен, если мы всмотримся в них внимательно.» («Роман Л. Толстого «Война и мир», М.: ХЛ, 1987.). Соглашаясь (не полностью, конечно) с этим подходом к анализу романа, я начну с войны. В. Шкловский в своей толстой книге (ЖЗЛ, 1963) пишет: «Толстой о 1812 годе знал чрезвычайно много. Прошло только пятьдесят лет от великих сражений; Толстому пришлось ... встречаться с непосредственными участниками боёв... , он знал всю официальную и мемуарную литературу — русскую, французскую и много мелких книг, в которых сохранились точные, ... по следам событий записанные детали, поразившие современников. [...] Толстой действовал методом метонимии, то есть он брал часть для того, чтобы читатель, поверив части, увидал целое как реальное. Своей манерой писания он повторял метод человеческого видения, которое видит сперва частное.» А вот что мы узнаём из воспоминаний Е. Скайлера, американского дипломата и переводчика: «Война и мир», которая тогда печаталась, сделалась предметом долгой беседы. [...] Граф Л. Толстой настаивал на точности и особенно на добросовестности в деле истории и говорил: «Везде, где в моём романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами.» Картина Бородинского сражения предстаёт на страницах романа необыкновенно зримой и достоверной. Толстой описывает переживания Наполеона, его нерешительность иногда как будто переходящую в растерянность. Таков эпизод с отменой приказа о вводе в бой дивизии Клапареда (т. н. Висленский легион, входивший на этот момент в состав Молодой Гвардии) и посылкой нового распоряжения о замене его дивизии дивизией Фриана из корпуса Даву. Саму же битву с французской стороны Толстой показывает как картину поразительно беспорядочного движения, прямо-таки броуновского, не иначе. Это одно из лучших в мировой литературе описаний большого сражения, возможно, самое лучшее. Рядом я бы поставил только пушкинское описание Полтавского сражения, но прозу некорректно сравнивать со стихами. Тот, кто хочет получить адекватное представление о сражении, не должен ограничиваться художественной литературой. Профессиональные исследования помогают, например, ответить на простой, казалось бы, вопрос — почему, несмотря на кажущийся хаос, победу одерживает одна из сторон, причём не всегда сильнейшая. Примерно так же, как Бородино, в описании Толстого или равного ему по таланту писателя выглядело бы сражение при Геттисберге или на Курской дуге. Но описания художественные очень индивидуальны, поэтому и вызывают сомнения. Вот и описание, гениально сделанное Толстым, заметно хромает на одну ногу. И «нога» эта русская. Прекрасное изображение боя за батарею Раевского, который читатель видит глазами Пьера, не мешает Толстому почти ничего не говорить о значительных небоевых потерях, которые имели место в нашей армии из-за ошибок в расположении резервов. Толстой умалчивает и о том, что боевые потери русской армии оказались гораздо большими, чем у французов из-за плохой организации действий нашей артиллерии. Французы израсходовали 60000 зарядов, а русские только 20000. Во всём перечисленном несомненна вина командования, т. е. лично Кутузова и начальника его штаба генерала Толя.* Ничего нет у Толстого и о самом, пожалуй, неприятном эпизоде сражения — рейде кавалерии Платова и Уварова в тыл французов. Ничего кроме брошенного мимоходом краткого сообщения: «С левого фланга кавалерия Уварова заставила бежать французов.» ( Одно из самых удивительных мест романа, т. к. фраза эта является чистейшей дезинформацией. В действительности значительно меньшая по численности кавалерия генерала Орнано отступила в полном порядке.) Согласно тому же Клаузевицу**, этот рейд вообще почти ничего не дал, хотя при нормальном руководстве мог бы сыграть весьма значительную роль. Войска Эжена де Богарне быстро отбили эту атаку, после чего казаки обоих генералов позорно отступили, ничего не добившись. Гора родила мышь. «В результате, кто бы что ни говорил, Ф. П. Уваров и М. И. Платов оказались единственными русскими генералами, не получившими за Бородинское сражение вообще никакой награды. Это, как говорится, факт исторический, и в свете вышесказанного подобное решение выглядит объективным и справедливым.» (С. Нечаев) Итак, картина сражения, данная Толстым, очевидно страдает неполнотой. Хаоса и бестолковщины с русской стороны было уж точно побольше, чем с французской, и только невероятная стойкость русских солдат (при том, что в русской армии было огромное количество новобранцев) и храбрость офицеров спасли положение. Может быть такой несколько односторонний подход Толстого к теме позволил ему легче прийти к выводу о нравственной победе русских (и это безусловно верная оценка), несмотря на безнравственное донесение Кутузова Императору Александру, о котором знали все. По-моему, полуправда — это всегда плохо, и её ничем нельзя извинить. Но что мешало Толстому, знавшему о 1812-м годе всё, через полвека после события сказать о нём всю правду? Я пока не знаю ответа, только догадываюсь, а ответил ли на этот вопрос хоть кто-нибудь из профессиональных историков и литературоведов... Мне такое не попадалось. Вторая часть моей заметки будет посвящена некоторым стилистическим особенностям романа. Начну с игры в карты, перейдя, так сказать, от большой войны к войне маленькой — к сцене, в которой Долохов выигрывает в «Фараон» у Николая Ростова 43 тысячи. Удивляет то, сколько раз Толстой назвал в этом коротком (6 страниц) эпизоде своих героев по фамилиям. Долохов назван 37 раз, Ростов — 35. Мне кажется — перебор. Как вода на череп со сталактита. Подобное у Толстого встречается и в другом месте, но об этом ниже. А здесь не то, чтобы совсем нечитабельно, но впечатление стилистической неряшливости остаётся. У Пушкина в «Пиковой даме» играют в тот же «Фараон». На неполных трёх страницах уменьшенного формата (ПСС в 10-и томах, 1964 г.) Германн упомянут 24 (!) раза. Тем не менее выглядит эта сцена довольно органично, вероятно, из-за очень высокой концентрации драматизма в тексте Пушкина между фамилиями героев (там ещё и Чекалинский упомянут 15 раз). Мне не по душе такие приёмы в литературе, даже если это написано Пушкиным. Эпизод игры в «Войне и мире», очевидно, сознательная калька с Пушкина, поскольку Толстой не мог не держать в голове, работая над ним, описание такой же точно игры в «Пиковой даме». Но зачем же второй раз, зачем повторяться? Вышло слабее. Есть ли что-то подобное у величайших мастеров русской прозы Гоголя и Набокова, стилистов Божьей милостью? Думаю, что нет. Посмотрите диалоги господ Перерепенко и Довгочхуна, ничего общего. О Набокове и говорить не стоит, не мог он так написать. Нет ничего похожего и у Достоевского.*** Да и в романе диалогов, написанных в таком стиле, больше нет, и это естественно, т. к. наличие ещё хотя бы одной подобной сцены поставило бы автора в неловкое положение. Вышеупомянутое другое место находится в той же части романа. Толстой называет жену князя Андрея Лизу «маленькая княгиня» 24 раза на 17-и страницах, правда 6 раз здесь же Лизой. Третьего не дано. И это тоже бросается в глаза, ведь здесь это не литературный приём, как с картами, а вполне естественный текст романа, такой, какой он во всех 4-х томах, т. е. прекрасный русский язык (с иногда встречающимися небольшими отклонениями от литературной нормы, о чём писал некогда Юрий Олеша), глубокий психологизм переживаний героев и т. п. Поэтому здесь у меня к автору ещё больше вопросов, т. к. выглядят эти «маленькие княгини» достаточно убого. У Достоевского таких казусов не наблюдал. Но наибольшее изумление вызывает сравнение Лизы со старой полковой лошадью (!). Это уж слишком. Бедная Лиза! К сожалению, не только Лиза оказалась в романе в числе «пострадавших». Наташа Ростова, всеми любимая, воплощение прелести и свободы, иногда ведёт себя более чем странно — она пронзительно визжит от восторга. Впервые это происходит при встрече с братом Николаем, вернувшимся с войны в начале 1806 года. Даже для десятилетней девочки пронзительный визг — это нечто из далёкого прошлого, а Наташе уже скоро тринадцать****, и она не может так себя вести. Проявления восторга у довольно большой уже девочки не могут носить такого ярко выраженного поросячьего характера, и надо учесть ещё и соответствующее воспитание, дававшееся барышням в дворянских семьях. Современные девочки этого возраста от восторга, бывает, визжат, ведь нет правил без исключений. Но у Толстого это выглядит ужасно фальшиво. В другой раз Наташа визжала «радостно и восторженно» и «так пронзительно, что в ушах звенело», на охоте, когда затравили волка и зайца. Тут и сам автор, похоже, почувствовал, что хватил через край: «визг этот был так странен, что она сама должна была стыдиться этого дикого визга и все должны были бы удивиться ему, ежели бы это было в другое время.» ***** В моём окружении есть девочки разного возраста. Шестилетние ещё, бывает, визжат, а уже девяти или тем более десятилетние — никогда. Что уж говорить о двенадцатилетних — это солидные дамы, с которыми есть о чём побеседовать, это интересные почти взрослые люди. (Исключением могут быть ещё азартные, подвижные игры, купанье). Я не говорю здесь о визге от страха, этому выражению эмоций подвержены и взрослые женщины. Так что граф Толстой обошёлся в смысле визга с графиней Ростовой, как минимум, не учтиво. Визг Наташи на охоте представляется мне чем-то вроде ляпа. Причина очевидна — дело происходит в сентябре 1810 года, Наташе либо уже есть 17 лет, либо скоро исполнится, она уже невеста князя Андрея. Кроме того на охоте рядом с ней находится сосед Ростовых помещик Илагин, которого она впервые видит. Описанное Толстым её поведение в этой сцене неправдоподобно категорически.****** Для меня Наташа всё равно остаётся лучшим женским образом в русской литературе, а визжит она не сама — это её автор заставил насильно. Кстати, после просмотра английского фильма «Война и мир» я теперь вижу Наташу только в образе Лили Джеймс.******* Это было сделано почти идеально, ведь очень трудно в двадцать пять лет сыграть тринадцатилетнюю. Кто-нибудь может представить Лили в этой роли пронзительно визжащей? Нет, уважаемые читатели, ангелы не визжат так, что у Бога в ушах звенит. В заключение, несколько слов о прототипах. Толстой не любил говорить на эту тему, да и вообще отрицал их наличие в романе. По поводу Болконских (среди персонажей романа есть и князь Пётр Волконский, причём здесь ситуация даже слегка юмористическая, т.к. на одном из трёх изображённых в романе военных советов присутствуют оба князя одновременно — Болконский и Волконский ) и Курагиных вопросов нет, но как быть с Василием Денисовым, о котором мне со школы известно, что прототипом ему послужил известнейший поэт, гусар и герой войны, партизан Денис Давыдов? Это с одной стороны, и это нормально. С другой же стороны капитан Фёдор Долохов, фамилия которого сразу заставляет вспомнить Ивана Дорохова, тоже популярного партизанского командира, тяжело раненого под Малоярославцем и умершего от раны в 1815 году. Долохов тоже партизан, но на этом их сходство и кончается, не успев начаться. Дорохов был очень достойным человеком, генерал-лейтенантом (1812), и никогда — карточным шулером. А что Долохов нечист на руку, это очевидно из описания его игры с Ростовым. Он выигрывает несколько десятков раз подряд, и проигрывает один раз (21 рубль), только для того, чтобы величина проигранного Николаем состояния составила ровно 43000 рублей. Это возможно в «Фараоне» только теоретически, на практике нереально. И он же ещё и подлый лицемер, недавно уверявший Николая в своём к нему расположении, а теперь бессовестно его разоривший. А история дуэли с Пьером, которую списывает только война? Так почему Толстой дал такому крайне противоречивому персонажу столь много говорящую современникам фамилию (ну, т.е. практически такую же)? Фамилию генерала, портрет которого находился в Военной галерее Зимнего Дворца (он и сейчас там). Ответ на этот вопрос я нашёл у Б.М. Эйхенбаума. В его огромном сборнике «Работы о Льве Толстом» (СПбГУ, 2009 г.) мне встретилось интереснейшее примечание. Вот оно. "Весной 1857 г. Толстой жил в Швейцарии вместе с декабристом М.И. Пущиным (братом И.И. Пущина, лицейского товарища Пушкина), автором записки о встрече с Пушкиным. [...] В записке Пущина много места отведено Руфину Ивановичу Дорохову, сыну партизана 1812 года, «известному своим неукротимым и буйным нравом, из-за которого имел несколько дуэлей, несколько столкновений со своими начальниками и несколько раз подвергался разжалованию в рядовые». (Майков Л. Пушкин. СПб, 1899). Этим материалом Толстой воспользовался для изображения партизана Долохова." Так что прототипом Фёдора Долохова был не генерал, а его сын. Таким образом, в вопросе о прототипах кое-что прояснилось. Между прочим, Толстой упоминает мельком в романе и Дорохова и Давыдова, подчёркивая таким образом, по моему безуспешно, своё отрицание прототипов. *) «Роль Кутузова в отдельных моментах этого великого сражения равняется почти нулю. Казалось, что он лишён внутреннего оживления, ясного взгляда на обстановку, способности энергично вмешаться в дело и оказывать самостоятельное воздействие. Он предоставлял полную свободу частным начальникам и отдельным боевым действиям. Кутузов, по-видимому, представлял лишь абстрактный авторитет. Автор признаёт, что в данном случае он может ошибаться, и что его суждение не является результатом непосредственного внимательного наблюдения, однако в последующие годы он никогда не находил повода изменить мнение, составленное им о генерале Кутузове [...] Таким образом, если говорить о непосредственно персональной деятельности, Кутузов представлял меньшую величину, чем Барклай, что главным образом приходится приписать преклонному возрасту.» Карл фон Клаузевиц, офицер штаба 1-го кавалерийского корпуса. «Кутузову как-то и не пришло в голову, что, коль скоро Кутайсова [генерал-майор, командующий всей русской артиллерией — А.З.] убили, кого-то надо назначить начальствовать над артиллерией, и, в итоге резервный парк [примерно треть от общего количества стволов — А.З.] простоял без дела весь день, а превосходство в данном роде войск русскими оказалось неиспользованным.» Адам Замойский «1812. Фатальный марш на Москву». Неплохое дополнение к описанию сражения, данному Толстым. **) "Нападение кавалерии генерала Уварова на левый фланг противника, произведённое на сильно пересечённой местности и без поддержки пехоты, не могло иметь важных последствий. Однако оно принесло русским определённую выгоду, заставив Наполеона приостановить наступление и потерять около двух часов, в течение которых Барклай успел усилить особо угрожаемые пункты войсками с правого фланга и из резерва." Сергей Нечаев «Бородинское сражение» "...если что-нибудь и могло получиться из подобного предприятия, то для этого во главе его должен был бы стоять какой-нибудь молодой сорвиголова, которому ещё надо завоёвывать себе репутацию, а отнюдь не генерал Уваров." К. фон Клаузевиц. ***) Раз уж упомянут Достоевский, отмечу существенное отличие между его творчеством и творчеством Толстого. Толстой очень русский писатель, Достоевский же наоборот, наднационален, близок и понятен всему христианскому миру. Читая Достоевского, довольно быстро начинаешь понимать, почему его популярность на Западе значительно выше популярности Толстого. ****) Из текста романа возраст Наташи точно определить невозможно. В конце 1809 года ей 16 лет (есть дважды повторённое точное указание). Из этого следует, что в конце 1805 года ей должно быть 12 лет. Но, описывая именины двух Наталий (матери и младшей дочери, т.е. Наташи), Толстой опять таки дважды сообщает, что ей 13 лет. День именин Натальи в то время приходился на 26 августа (ст. стиль). Вообще с датами и сроками Толстой обращается удивительно небрежно. Но можно попытаться всё-таки узнать точный возраст Наташи Ростовой. В конце 18-го — начале 19-го века существовал обычай (исчезнувший, возможно, после революции) давать новорождённым имена по святцам на десятый день их жизни. С этого начинается рассказ Тургенева «Часы». Такая патриархальная семья, как Ростовы, вполне могла этого обычая придерживаться. В таком случае день рождения Наташи можно назвать точно — это 17 августа 1793 года. Предположение, конечно, но весьма правдоподобное. Разумеется, этого обычая придерживались далеко не все. Например, Наталья Николаевна Гончарова родилась 27 августа 1812 (на следующий день после Бородинского сражения), а назвали её всё-таки Натальей, видимо сочтя расхождение с Натальиным днём не заслуживающим внимания. *****) Эту цитату приводит и Бочаров. И вот его комментарий: «на время охоты устанавливается стихийно иной жизненный строй...сдвинута привычная мера во всём — в эмоциях, поведении, даже разговорном языке.» Разумеется, сдвинута. Но не до такой степени. Все участники охоты испытывают этот сдвиг, но ведут себя естественно. За исключением Наташи. ******) Возможно, это связано с каким-то особым отношением Толстого к понятию «визг». У него даже собаки визжат на подвешенного к лошади волка. Визжат и полозья саней на снегу. Я бы не возражал, если бы собаки тявкали, а полозья скрипели. *******) Почему не Людмила Савельева и не Одри Хепберн? Элементарно — первая недостаточно красива для этой роли, вторая для неё слишком красива. Но я знаю ещё одну актрису, из которой получилась бы бесподобная Наташа. Это Галина Беляева, такая, какой она была в фильме «Мой ласковый и нежный зверь». PS.1 Всё-таки, попробую предположить, почему Толстой не мог даже через 50 лет после Отечественной войны написать о ней всё, что знал. Это становится понятным, стоит только попытаться ответить на аналогичный вопрос, касающийся Великой Отечественной. Почему даже через 70 лет после этой войны продолжаются публикации полуправды и откровенного вранья о ней? Почему до сих пор историкам недоступно огромное количество архивных материалов? Не в том ли дело, что в полной правде содержится такое количество позора, что никто из управляющей страной Большой Тройки не хочет брать на себя ответственность? Видимо не пришло ещё время для второго ХХ съезда, много ещё живых участников войны, да и международная обстановка не позволяет. PS.2 К кампании 1805 года, к Аустерлицу, я не обращался совершенно. Замечу только, что описание этого сражения в романе мне кажется ещё лучшим, чем сражения при Бородине. Как будто Толстой чувствует себя здесь более раскованно. И в самом деле, не Москва же за нами. А может быть дело в том, что я прочитал в своё время отличнейшую монографию Олега Соколова «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа, 1799-1805 гг.» и поэтому вопросов к Толстому у меня не возникало. Ещё одно, последнее сказанье... Выше я написал, что у Толстого почти ничего нет о небоевых потерях. Это замечание, очевидно, нуждается в некоторых пояснениях. О небоевых потерях в русской армии Толстой пишет, конечно, но дело в том, как. Он замечательно описывает поведение под артобстрелом солдат и офицеров полка, которым командует князь Андрей. Полк теряет более двухсот человек на одной позиции, а после перевода на другую ещё треть личного состава. Толстой здесь делает одно очень тонкое и меткое замечание: «Все силы его [Андрея] души, точно так же как и каждого солдата, были бессознательно направлены на то, чтобы удержаться только от созерцания ужаса того положения, в котором они были.» Честь и хвала Льву Николаевичу за эти строки и за всю эту картину. Плохо одно — читатель, не знакомый с другими источниками, может подумать, что только одному князю Андрею с его полком так фатально не повезло. Кстати, непонятно (или я что-то упустил), почему Андрей, будучи кавалерийским полковником, командует пехотой. Всего в пехотном полку около 2200 человек, стало быть, полк его потерял около 800 человек. А вообще потери среди таких же стоявших в бездействии частей были громадны. В частности о потерях гвардии в книге Уртулля «1812. Бородино. Битва за Москву.» (Эксмо, 2014) говорится о 500-х только убитыми в двух полках — Преображенском и Семёновском (по воспоминаниям одного русского офицера). А в этих полках служил цвет русского дворянства и лучшие из лучших солдаты. Справедливости ради надо сказать, что оба этих гвардейских полка приняли участие в сражении на его заключительном этапе, потеряв при этом значительно меньше людей, чем при нахождении в резерве. Можно ли себе представить подобное в армии Наполеона? Да, можно. Его гвардия весь бой простояла в резерве и не потеряла ни единого человека. Но это гвардия. К армии Наполеон в этот последний период своего правления относился уже в значительной степени как к пушечному мясу. Вот что пишет американский военный историк Адам Замойский в книге «1812. Фатальный марш на Москву.» «Без таких же веских причин [т.е. как в русской армии] Наполеон тоже дислоцировал многие резервы и почти всю кавалерию в зоне действительного огня неприятельской артиллерии. Капитан Юбер Био, состоявший адъютантом при генерале Клоде-Пьере Пажоле,... вспоминал, что в день битвы 11-му конно-егерскому полку довелось часами стоять под обстрелом, и он потерял треть людей и лошадей без участия в каких-нибудь активных действиях. Один полк вюртембергской кавалерии недосчитался двадцати восьми офицеров и 290 чел. других званий из 762, то есть свыше 40 процентов своей численности.» У Суворова подобное было абсолютно исключено при его-то отношении к солдатам. Кутузов считался в армии учеником и наследником великого Генералиссимуса. И этот ученик допустил под Бородино то, что иначе как преступной халатностью назвать трудно. А надо бы не забывать и о том, что почти все тяжело раненые русские были оставлены на поле боя и по дороге на Москву и умерли, причём многие от жажды (!) (французам было не до них, они и своих-то мало кого спасли). На чьей совести эти тысячи трупов? Так что Толстой написал об ошибках командования конечно не ничего, но что-то очень к этому ничего близкое. Но едва ли он мог сказать больше. Некий итог содержится в словах Жозефа де Местра о Кутузове из его письма королю Сардинии: «Ему будет поставлен памятник. Но если предположить, что человек этот предстал бы перед одним из наших военных советов или английским трибуналом, кто мог бы поручиться за его голову?» Тем, кто хочет получить более точное и глубокое представление о событиях и людях, описываемых Толстым, рекомендую ознакомиться с фундаментальным трудом Ал. Ник. Попова «Отечественная война 1812 года». Лев Николаевич мог (возможно, историки знают точно) прочитать этот труд примерно лет через десять после выхода из печати своего романа.
|
| | |
| Статья написана 18 февраля 2020 г. 20:21 |
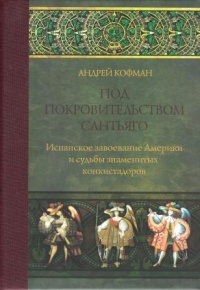 | | 2017, монография Работа А. Кофмана "Под покровительством Сантьяго" — это первая книга на русском языке, воссоздающая историю испанского завоевания Америки. Автор старался отрешиться от предвзятых трактовок, создать объективный и многомерный образ испанского конкистадора, показать своеобразие духовного облика ярчайших представителей эпохи Великих географических открытий, людей, рожденных на перекрестье времен, пространств и культур. Книга создана в биографическом жанре, а поскольку судьбы конкистадоров напоминают авантюрные романы, их биографии читаются легко и увлекательно. Книга А. Кофмана основывается на обширных исторических данных и опирается на множество авторитетных источников. При этом она написана живым языком, богато иллюстрирована старинными картами, гравюрами и рисунками из индейских рукописей и... |
|
Navigare necesse est, vivere non est necesse. Плутарх. Жизнеописание Помпея. Есть на свете немало / Поучительных книг. / Пусть тебя не пугает / Этих книг толщина. / / Если толстую книгу / Пополам разорвать, / То в два раза быстрее / Её можно прочесть. Г. Остер «Вредные советы» 2 декабря 2017 года исполнилось 470 лет со дня смерти Эрнана Кортеса — самой интересной личности из всей плеяды испанских первооткрывателей и завоевателей Америки. Соответственно, и очерк о жизни и подвигах Кортеса в книге А. Кофмана занимает самое большое место — почти 140 стр. Прожил он всего 62 года, но совершил славных дел больше, чем любой из его современников, за исключением разве только Магеллана да Колумба, положившего начало* всему периоду Великих Географических Открытий. К сожалению, это время применительно к Америке с не меньшим основанием можно назвать и периодом Великих Географических Преступлений. Кофман так это время не называет, но книга его полностью основана на документах и хрониках, и именно панорама преступлений гигантского масштаба открывается перед читателем. Таковы неумолимые законы Истории и с этим ничего не поделаешь. Столкнулись две очень разные цивилизации, сходные между собой лишь в беспощадном отношении к покоряемым народам (европейцы к началу 16 века уже примерно лет около двухсот успешно уничтожали друг друга, за исключением испанцев, все силы которых были направлены на Реконкисту**) и в привычке к человеческим жертвоприношениям, которые осуществлялись служителями соответствующих культов. Ацтеки окружили себя врагами, что и послужило одной из основных причин гибели их государства. Но, главное, победили мореплаватели и опытные воины, обладавшие лучшим оружием, сильные духом и просто умеющие воевать. Автор замечательно описывает, как благородные и справедливые идальго (а именно таким человеком был Кортес и многие другие конкистадоры) становились палачами целых городов и государств***. Так получилось (из-за неравномерности технического прогресса), что европейцы напали первыми, в результате чего население обеих Америк практически полностью исчезло и на его месте возникли новые цивилизации. Автору удалось в очень увлекательной манере, не без юмора там, где он уместен, рассказать столько, что кажется странным небольшой объём книги. В ней не так уж много текста, поскольку количество иллюстраций огромно, а шрифт достаточно крупный. Но читать её неудобно. Следующее издание, надеюсь, выйдет в виде двухтомника в футляре. Такой вариант представляется мне оптимальным — книгу легче будет держать, если нет специальной подставки, и она, читаемая по одному тому, намного дольше будет сохранять первоначальный облик. Но и это издание представляет собой полиграфический шедевр, жаль только, что тираж маловат. Его не стоит даже и сравнивать с тиражом изготовленной не хуже «Истории доколумбовых цивилизаций» Галича (издательство «Мысль», 1990 г.; мой экземпляр из 50-и тысячного дополнительного). Теперь несколько слов об ошибках. На стр. 152 неверное пояснение к иллюстрации — написано, что беседа идёт с правителями Тлашкалы, но над изображением людей надпись «Теночтитлан». На стр. 247 вместо 1823 года напечатано «1523». Не обошлось и без мелких орфографических ошибок, но их очень мало. Есть вещи куда более неприглядные. На стр. 274 слова «Радостной была встреча старых соратников в Мехико» видимо взяты со следующей страницы, где они в слегка изменённом порядке присутствуют на своём законном месте. Не лучше обстоят дела и на стр. 385, где сообщается, что Бальбоа и Сото «оба появились на свет в городке Бадахос», хотя на стр. 48 местом рождения Бальбоа названо селение Херес-де-лос-Кабальерос, расположенное (на карте нынешней Эстремадуры) примерно в 100 км. южнее Бадахоса. Это, как минимум, нуждается в каком-то комментарии. На стр. 363 ещё хуже. Когда читаешь, что «река Пануко, открытая Грихальвой, впадает в море на восточном побережье Мексиканского залива», помня при этом, что Хуан де Грихальва исследовал Мексику (т.е. западное побережье залива), начинаешь терять массу времени на поиски реки Пануко, чтобы убедиться, что обнаружено ещё одно место в книге, где нельзя верить своим глазам, и, что побережьем Мексиканского залива здесь названо побережье Мексики, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы, ибо в одном случае побережье восточное, а в другом западное. Сказанного достаточно, чтобы приведённый на последней странице внушительный список из трёх редакторов и двух корректоров вызвал у читателя некоторое недоумение. Но автор этой книги конечно же заслуживает от читателей добрых отзывов за то, что, преодолев немалые трудности, преподнёс любителям истории, желающим расширить свой кругозор, прекрасный подарок, в чём-то повторив тем самым подвиги конкистадоров, расширивших Испанскую империю до необозримых пределов. Мне кажется правомерной такая аналогия. Ещё несколько слов по теме, которая кажется мне заслуживающей самого пристального внимания. В книге очень много говорится о золоте и прочих награбленных завоевателями ценностях. Конкистадоры выбивали из индейцев золото в виде главным образом ювелирных изделий, переплавляли их в слитки (почти всегда) и в таком виде увозили в Испанию, теряя при этом, как минимум, четыре пятых прибыли. Это очевидно (и об этом в книге упомянуто не единожды), т. к. изделие из золота и, например, изумрудов, стоит гораздо дороже (иногда несоизмеримо), чем необработанные компоненты по отдельности. Но другого выхода не было. Моё внимание, в частности, привлекла одна цифра. Это 300000 (триста тысяч) дукатов (стр. 762), которые губернатор Нового Королевства Гранада прихватил с собой, унося ноги из ограбленной им губернии. Мне стало интересно, сколько же он украл. На стр. 108 сообщается, что в одном дукате 4,6 г. золота. Так что ходка в Америку была совершена не напрасно — благородный идальго добавил к своему имуществу 1380 кг. золота. Это больше, чем доля императора при разделе золота Кахамарки. Безнаказанно. Вот что значит быть женатым на сестре жены императорского секретаря. Второй интересный момент здесь вот какой. О каких таких дукатах идёт речь на протяжении всего повествования? В Испании никогда не чеканилась золотая монета с таким названием. Испанские золотые назывались эскудо и дублон (двойной эскудо — 6,8 г.). Тогда какие же деньги за своё золото получали на родине возвратившиеся живыми конкистадоры? Очевидно (Автор ничего об этом не пишет), это были венецианские цехины, флорентийские флорины, португальские крузадо, французские экю и т. д. Дукатами сначала назывались именно золотые монеты Венеции, но постепенно это название закрепилось во всей Европе, как синоним золотой монеты. Но даже и после такого экскурса в историю чеканки золотых монет, вопрос (о каких дукатах говорится в книге Кофмана?) остаётся открытым, т.к. вышеупомянутый дукат-синоним содержал не 4,6 а всего 3,5 г. золота. Возможно, у Кофмана речь идёт об эскудо (3,4 г. золота), а 4,6 г. очень похоже на ошибку. И крайне неприятное впечатление производит, когда видишь, что тебя откровенно держат за лоха, подсовывая потолочные цифры. На стр. 904 вдруг оказывается, что 15 тысяч мараведи равны 23-м дукатам. Но читатель уже давно знает (стр. 108), что в одном дукате 375 мараведи. Ну и зачем же так? И ещё несколько замечаний. К сожалению, без них никак не обойтись. На стр. 545 есть строка «Отбывавшему в Испанию Гонсало были устроены пышные проводы...». В книге, рассказывающей о судьбах конкистадоров, неважно хорошие они люди или плохие, ни в коем случае нельзя путать их имена. Поэтому моё пожелание — в следующем издании заменить в приведённой фразе Гонсало на Эрнандо даже если это ошибка не переводчика хроники, а самого хрониста Педро Писарро, в чём я очень сильно сомневаюсь, т. к. последний приходился Эрнандо и Гонсало Писарро двоюродным братом. В конце последней главы есть изображение памятника конкистадору. Это действительно памятник Гараю, как гласит подпись, но в тексте говорится, что это «мощная конная статуя». Рискну высказать предположение, по моему, вполне правдоподобное, что конь конкистадора пасётся где-то поблизости. Необходимо также сделать следующее — занести в алфавитный указатель хрониста, секретаря Франсиско Писарро Педро Санчо де ла Оса в соответствии с его фамилией (т. е. на букве "о", но не на букве "с"), тогда его легче будет при надобности разыскать в книге. Это касается и многих других людей, указатель составлен из рук вон плохо. *) Арабы вышли в море раньше, но об этом ничего не было известно в Европе. Вообще, вопрос о первенстве в этой области спорный. **) В 16 веке Испания наверстала упущенное — в Нидерландах. ***) Справедливости ради следует сказать, что далеко не все они были зверями в человеческом облике. Например, высоко ценимый Кортесом Кристобаль де Олид, вошедший в Историю, вследствие своего предательства Кортеса, «был, может, единственным из знаменитых конкистадоров, кто, пребывая на посту генерал-капитана, не совершил ни одной казни, не устроил ни одного массового избиения индейцев.» То же самое можно сказать и о Франсиско де Орельяне, человеке с трагической судьбой, первооткрывателе Амазонии. Только угроза голодной смерти вынуждала его отдавать приказы о нападении на враждебно настроенных индейцев.
|
| | |
| Статья написана 18 февраля 2020 г. 13:13 |
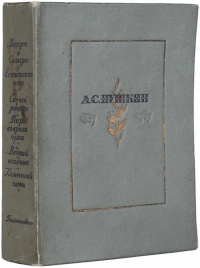 | | 1837, повесть К молодому петербужцу Чарскому приходит бедный итальянец — импровизатор. Убедившись в его таланте, Чарский решает устроить вечер, посвящённый ему. На этом вечере итальянец получает тему для импровизации: "Клеопатра и её любовники". |
|
Отнести эту миниатюру Пушкина к реалистическому жанру можно с большой натяжкой. И если уж это реализм, то реализм магический. Дело в том, что называющий себя неаполитанским художником (вводя таким образом Чарского в заблуждение) итальянец оказывается до такой степени гениальным поэтом-импровизатором, что мысль о магической подоплёке его мастерства приходит в голову самым естественным образом. В реальности такая способность была бы настоящим Божьим Даром, иначе пришлось бы предположить, что его носитель сам имеет божественное происхождение. Возможно, талант импровизатора не единственный талант этого человека (не говоря уже о том, что он импровизирует, аккомпанируя себе на гитаре, и к этому я ещё вернусь). На такую мысль наводит тот факт, что Чарский лично убеждается в волшебной способности итальянца только на другой день после того, как договаривается о месте его выступления и уже завербовав на него «половину Петербурга»*. Итальянец определённо ВНУШАЕТ доверие. Колоритная внешность его напомнила мне итальянского художника Сальватора Розу, каким он изобразил себя на лондонском автопортрете 1645 года. Его легко представить с бородой (у импровизатора густая борода), т. к. на картине под подбородком художника положена густая чёрная тень от его длинных волос. Остаётся только мысленно одеть Розу во фрак и вот вам готовый герой Пушкина. Главная тема этого произведения — взаимоотношения поэта и толпы — то, к чему Поэт возвращался неоднократно. Пушкин с замечательным грустноватым юмором (о последующем юмористическом уклоне предупреждает читателя эпиграф) описывает поведение Чарского, которому так надоели «приветствия, запросы, альбомы и мальчишки», что он «употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище» — стихотворец. Когда Пушкин сообщает, что в разговорах Чарский касался только самых пошлых тем и никогда — литературы, а кабинет его был убран, как дамская спальня, где «ничто не напоминало писателя», юмор начинает напоминать издёвку, и, похоже, Пушкин смеётся здесь не только над собой. Ну и, конечно, тема, предложенная Чарским импровизатору для испытания, та самая, вышеупомянутая — «поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением.» После чего следует первая импровизация, одно из лучших стихотворений Пушкина во всём его поэтическом наследии. Напоследок (во второй главе), ещё немного поиздевавшись над несчастным импровизатором и над собой (для Пушкина тема прибылей и гонораров была вынужденно и неприятно близкой), Поэт расстаётся с итальянцем до состоявшегося вскоре его творческого вечера, на котором он ещё раз демонстрирует свой необыкновенный талант. В заключение отмечу две любопытные детали. Итальянцу для начала декламации необходимо небольшое музыкальное вступление (увертюра), поэтому оркестр в третьей главе играет увертюру к «Танкреду» Россини (видимо, важно, чтобы звучала итальянская музыка). Но, когда он начинает говорить, музыка умолкает. Очевидно, что гитара и оркестр ему нужны лишь для прихода божественного озарения (что-то вроде схождения благодатного огня в Иерусалиме), при котором всё, что он теперь скажет, приходит ему в голову сразу и целиком. Но тут у Пушкина очевидное противоречие, т. к. в конце второй главы итальянец «обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивел Чарскому...», а такой человек скорее удавится, чем допустит делёж гонорара с целой толпой музыкантов.** Ему достаточно собственной гитары, а это бесплатно. Противоречие это очень существенное, в связи с ним вспоминается завещание Шекспира, совершенно не вяжущееся с образом автора сонетов и пьес. А другая деталь — это наличие в Петербурге первой половины 19 века значительного количества любителей поэзии, знающих французский, но не знающих итальянский язык. Чарский (так думает и сам Пушкин) уверяет итальянца, что если его и не поймут (даже точно, что не поймут), то это не беда, «главное, чтоб вы были в моде». Очень верно замечено, так всегда было и так всегда будет. *) В аннотации допущена далеко не пустячная, пожалуй, даже грубая ошибка. **) Видел ли Пушкин это противоречие? Не знаю, что говорили по этому поводу пушкиноведы. А что-нибудь да есть на эту тему, ведь, кажется, к настоящему времени в наследии Поэта не осталось ни одной не исследованной буквы. Осмелюсь высказать своё мнение. Уверен, что видел, — один из умнейших людей России как-никак. И он наверняка нередко сам испытывал подобные эмоции, но достоинство старинного дворянского рода не допускало такого падения (выражения этих эмоций вслух). Его импровизатор человек простой, поэтому Пушкин здесь смог выговориться по полной, намекнув тем самым на бури, происходившие в собственной голове.
|
| | |
| Статья написана 18 февраля 2020 г. 01:26 |
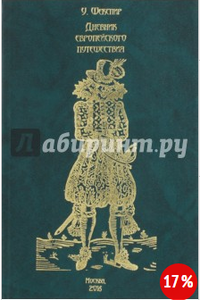 | | Книга содержит уникальные наблюдения над жизнью Европы конца XVI — начала XVII вв., венцом которых служит описание Венеции во всем великолепии эпохи ее расцвета. |
|
*) Фамилию Кориэт я пишу так, как она напечатана в книге, где написание "Кориат" не встречается ни разу. Откуда на странице произведения ФЛ взялся вариант с буквой "а" да ещё при том, что на обложке книги в качестве автора указан У. Шекспир, мне выяснить не удалось. «Когда в делах — я от веселий прячусь, / Когда дурачиться — дурачусь, / А смешивать два эти ремесла / Есть тьма искусников, я не из их числа.» Грибоедов «Горе от ума». Авторство Шекспира не доказано, тем не менее, как убеждённому рэтлендианцу, мне хотелось найти в этой книге аргументы в пользу авторства Роджера Мэннерса, графа Рэтленда. Собственно говоря, уже в панегириках дан ответ — Кориэт в одном из них (у Кирхнера) назван человеком, успешно выполнившим некую дипломатическую миссию в Дании, в другом (Бен Джонсон) прямо упоминается некий Роджер, на месте которого оказался «Правдовещатель Том». Интересно было найти и другие подобные зацепки. Должен признаться, что читать её я начал с середины, с описания Венеции, т.е. с наиболее интересных заметок. И почти сразу в рассказе о лестнице Гигантов наткнулся на следующее: «Наверху лестницу венчают две великолепные статуи. Справа по ходу стоит длиннобородой Нептун на дельфине, выныривающим из под его ноги, а слева Паллада в роскошном шлеме на голове.» [сохраняю не свойственную мне орфографию перевода — mr_logika]. Очень похожие статуи украшают и входной портал Арсенала. К указанию части тела, на которую надет шлем, я ещё вернусь, а сейчас отмечу лишь то, что, во первых, Нептун стоит не на дельфине, а над ним, касаясь его морды левой рукой, во вторых (и это не лезет ни в какие ворота), слева не Паллада, а Марс (!), он почти полностью обнажён и вообразить, что это женская фигура, может разве что инопланетянин. И ни один из четырёх докторов наук, перечисленных на обороте титульного листа, не дал поправку в сноске, как это часто встречается в книге по поводу намного менее крупных неточностей*. Есть в книге одна необъяснимая накладка. Описывая Монетный двор, Автор пишет, что у «первых ворот вас встречают две белокаменные статуи огромных страшных титанов с булавами...». Но от фасада Монетного двора всего несколько шагов до воды, никаких огромных статуй там нет и не могло быть. Вместо того, чтобы исправить эту дезинформацию, коллектив, работавший над переводом, сообщает в сноске, что «это статуи Марса и Нептуна без булав, и изваял их Якопо Сансовино». Эта сноска гораздо лучше смотрелась бы около описания лестницы Гигантов, и каким чудом она попала на другую страницу, одному Б-гу известно. У меня в связи с этим возникло ужасное предположение — уж не перепутали ли уважаемые доктора наук вместе с Автором Монетный двор с Арсеналом?!
Граф Рэтленд посетил Венецию в 1596 году и, видимо, полагаясь на память, не всегда записывал свои впечатления, а спросить у друзей в 1610-м году постеснялся (ну, ему же казалось, что он правильно помнит), друзья же, сосредоточившиеся на сочинении панегириков, книгу в рукописи прочитать не удосужились (этого нельзя сказать обо всех, судя по такому отрывку из одного панегирика: «Что из того, что ты прошёл полмира? / Хорош ходок, да с трещиною лира! / Прочтя твой труд внимательно и строго, / Поймёт любой: написан он убого.»), либо сами в Венеции не бывали. А учёным комментаторам ведь ничего не стоило по примеру Ийона Тихого произвести осмотр на месте, или, в крайнем случае, воспользовались бы одним из десятков альбомов с видами Венеции...Это мой первый и последний совет этим господам на будущее. В общем, мне стало ясно, что точности в описаниях от этих путевых заметок ожидать не следует. И вот ещё не столь существенная, но ошибка, не исправленная издателями. Сообщая об установленных на площади Сан Марко колоннах, Автор пишет, что они мраморные и привезены из Константинополя, когда венецианцы вместе с крестоносцами ограбили город (это было в 1204 году). На самом деле они гранитные и привезены из Сирии в 1127 году, задолго до разграбления Константинополя. Теперь несколько слов о шлеме на голове. Вот две цитаты из «Похвального слова путешествию» Германа Кирхнера (у Гилилова — Киршнер): «...собрать пожитки, натянуть башмаки, надеть прогулочную шляпу на голову и расправить крылья...»; «... прирождённый военный, в шлеме на голове, в латах, и знает, как управляться с мечом...». Эти два указания, как нужно употреблять шляпу и шлем (и здесь шлем) подтверждают, пожалуй, гипотезу о том, кто такой этот Кирхнер — не он ли и есть Томас Кориэт (эта фамилия приведена на сайте неправильно, в книге — Кориэт)?** Этого, разумеется, мало, чтобы что-то доказать, но выглядят такие обороты речи как-то не по логодедаловски. Столь же странно читать и вот это: «Когда я вошёл во двор Santo со стороны еврейской улицы, то увидел незабываемое, чтобы не сострить, а именно прекрасную бронзовую статую Гаттамелаты...». Какое слово тут должно стоять вместо «сострить»? Соврать? Тоже не годится. Ну а вот это кто написал: «...я мало что могу сказать об этом прекрасном и красивом городе»? А вот ещё: «Дворец Дожей квадратный, но вытянут в длину больше, чем в ширину.» Это написано гуманистом эпохи Возрождения? На шекспировский этот стиль мало похож, и я знаю, какую характеристику дал бы ему Михаил Зощенко. Это определение бессмертно не в меньшей степени, чем не вызывающие сомнений произведения Шекспира. Известно, что книги начала 17-го века, издаваемые в Лондоне, содержали много опечаток (например, издание Сонетов 1609 года). Книга, о которой я сейчас пишу, содержит неимоверное их количество, особенно для такого мемориального издания. Выше я привёл два примера (и могу привести ещё двадцать два), добавлю только такие никогда не встречавшиеся мне орфографические редкости, как Апиллес вместо Апеллес, Эннеида вместо Энеида, нечто ужасное в виде имени короля в творительном падеже — «королём Иаковым» и венец всего этого нагромождения — «...тонкий лингвист и неумный путешественник» (это об авторе одного из панегириков Лоренсе Уитакере; что в оригинале, догадайтесь сами). Короче говоря, не стоило бы в начале 21-го века подходить к изданию книг так, как это делалось 400 лет назад, благо технические возможности для этого появились. Переводчик С. Макуренкова пишет: «Человек, с которым предстоит путешествовать — милый и приятный собеседник. Он терпим, впечатлителен и милосерден.» В двух последних качествах сомнений нет. Что же касается терпимости...Автор сообщает о греках: «Мужчины и мальчики носят длинные волосы, как больше никто в Венеции. Мода неподобающая и подходящая только головорезам». Это ещё цветочки. Вот ягодки-выдержки из рассказа Автора о его беседе с раввином в еврейском гетто Венеции. « ... я решился призвать его оставить еврейскую религию и перейти в христианскую веру, вне коей он будет навеки проклят. [...] В конце он был раздражён на меня, ибо я плохо отозвался о несуразностях в их обрядах. [...] ...пока мы обменивались с ним зажигательными речами, вокруг собралась толпа ... евреев. Некоторые стали вести себя вызывающе и угрожать мне, ибо я дерзнул оспорить их религию.» Автор спасся от расправы благодаря двум английским джентльменам, случайно проплывавшим мимо в гондоле. Если это терпимость, то что такое тогда религиозный фанатизм и элементарная глупость? Уже через два года после посещения Венеции Шекспир является автором 12-и пьес, которые кажутся написанными мудрым и знающим жизнь человеком. Удивительно быстрая перемена личности. Неправдоподобно быстрая. К этому можно добавить характеристику, данную Кориэту его другом Ричардом Мартином, «златоустом и превосходным лингвистом», в рекомендательном письме к Послу Британии в Венеции сэру Генри Уоттону. Перевод письма вызывает вопросы, но интересующее меня сейчас место вполне понятно: «Во первых, В ДОРОГЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОВОЗКУ***, он лучше, чем голландская телега. Во вторых, он универсальный самозванец. В третьих, среди своих друзей он бесконечен и непреходящ.» Это явная насмешка и гораздо легче совмещается с образом скандалиста из гетто. Действительно похоже на нелепого шутоподобного Кориэта, и совершенно незачем было Макуренковой писать о Кориэте так, как можно написать только о самом Шекспире. Но она-то уверена, что Кориэт это Шекспир. Не рано ли? Человек, который всё время измеряет шагами и футами городские площади и расстояния то между стенами залов и комнат, то между колоннами, которые ещё и пытается время от времени обнимать, как будто его преследуют летающие змеи, человек, который всё время считает колонны, обрамляющие различные галереи (сосчитать 152 колонны — шутка ли?), — такой человек выглядит довольно смешно. А человек, который, говоря, что желает воздать должное замечательному певцу, не называет его имени, или который, приводя в качестве примеров великих конных памятников статуи Коллеони и Гаттамелаты, не называет имён их создателей****, а, восхищаясь венецианскими дворцами и храмами, не упоминает ни Палладио, ни Санмикели, ни Бона выглядит просто неприлично, и даже не хочется ломиться в открытую дверь, доказывая, почему это так*****. Тут Автор «Дневника...» явно переборщил в своём стремлении выставить себя шутом, если этот Автор в самом деле Шекспир. Не спасает даже его хороший музыкальный вкус. Так какой же можно сделать вывод? Шекспир — галопом по Европам? Может быть, поверхностность описаний, легковерие и неумение провести границу между шуткой и глупостью объясняется возрастом путешественника (20 лет)? А, готовя записки к изданию через 10 лет, граф махнул на всё рукой — автоэпитафия же, ну что тут мелочиться, пусть остаётся, как было? Да ещё эта ужасная болезнь, которая вскоре свела его в могилу. Илья Гилилов очень убедительно обосновал авторство «Дневника...». Только Рэтленд. Но Илья Менделевич пишет о полном Кориэте, а обсуждаемая здесь книга это только первый том «Дневника...». (Гилилов сообщает, что Кориэт «открыл англичанам многие работы Палладио, первым не только в Англии, но и в Европе обратил внимание на такие его творения, как базилика и ротонда в Виченце.» Гилилов читал дневник в оригинале, в обсуждаемом здесь переводе Кориэт лишь обещает рассказать о Виченце, но обещания не выполняет. Неужели описание Виченцы переводчиком просто опущено?). Да, местами кажется, что Шекспир не мог такое написать, но нужен, во-первых, хороший перевод (этот сделан, похоже, наспех) и, во-вторых, окончание записок Кориэта, в том числе упоминаемая Гилиловым его переписка с европейскими учёными. Вдруг да выяснится когда-нибудь, что всё-таки автор записок Кориэт******, а вся история издания книги и появление панегириков не что иное, как большая шутка принца Генри. Не сохранилось разрешение на выезд Кориэта из Англии? Это ничего не доказывает, как и многое другое в этой головоломке. Подождём второго тома «Дневника...» тогда и продолжим разговор.******* *) Мне встретилась только одна грубая ошибка, да и то не Автора этих путевых заметок, а Кирхнера (здесь не важно, это одно лицо или нет), которая была исправлена в современной сноске. Это утверждение, что «патриарх Иаков отправился в путешествие, дабы избежать домашнего предательства.» В действительности это было бегство от возможной мести за предательство, совершённое им самим. Возможно ли, чтобы Герман Кирхнер (или тот, кто скрывается за ним), «профессор красноречия и древностей в прославленном Университете г. Марпурга» ТАК знал Ветхий Завет? Ни на какое раблезианство или другого вида розыгрыш читателя это не похоже. Впрочем, как и Паллада вместо Марса. Приведу ещё один пример того, о чём существует поговорка «врёт, как очевидец». Речь об изображении около входа во дворец Дожей «четырёх албанских аристократов, которые были братьями». Автор рассказывает красивую историю о том, как они умертвили друг друга попарно, и уверяет, что это правда. На самом деле это два античных барельефа из тёмного порфира, изображающие четырёх правителей Римской империи (тетрархов) Диоклетиана, Максимиана, Галерия и Констанция Хлора. Жители Венеции называют эти барельефы «Четыре мавра». Есть в «Дневнике...» места, которые трудно назвать иначе, как полной ахинеей. Это, например, описание игры в «летающий мяч» (устройство, которым подбрасывается мяч, представляет собой деревянный круг размером во всю руку, да ещё с шипами) в сочетании с приведённой на с. 145, очевидно для пояснения, гравюрой, где у игроков нет никаких кругов, а изображённый крупным планом игрок держит в руке теннисную ракетку (тогда уже играли в теннис, об этом Кориэт упоминает в другом месте «Дневника...»). Ещё пример. «Магистратов всех уровней избирают демократически весьма необычным и странным образом. На возвышении ... устанавливаются три урны ... В боковых урнах находится много серебряных шаров и несколько золотых, в центральной то же самое, но их поменьше. Лица избираются согласно распределению полученных шаров. Вся процедура выглядит очень изысканно...». Это называется описанием процедуры выборов. По моему, дальше ехать просто некуда! **) Среди панегиристов не было Уильяма Шекспира и этим Шекспир «выдал себя с головой» пишет С. Макуренкова во вступительном слове. Не факт. Граф Рэтленд ко времени издания «Кориэтовых нелепиц» был уже тяжело болен и, может быть, не успел написать панегирик, но более вероятным мне кажется, что ему было просто неловко писать панегирик самому себе и он ограничился текстом под псевдонимом Герман Кирхнер, сочтя это достаточным для конспирации. А то, что панегирик произведению Тома Кориэта написал сам Кориэт, соответствует образу этого человека. ***) Выделенные мной слова даны в тексте на латыни с переводом в сноске. ****) Пара слов в связи с этим более чем странным умолчанием. Не называя в «Дневнике...» Андреа Верроккьо, его Автор лишил себя возможности рассказать своим соотечественникам замечательную историю, связанную с созданием памятника Коллеони, историю, которую в Венеции не знали, может быть, только обитатели городского дна. И ведь Рзтленд побывал в Венеции ровно через 100 лет после официального открытия памятника. Что же это за путешественник, который вместо интереснейшей правды втюхивает читателям заведомую ложь типа легенды об албанских братьях? Не зовут ли его Томасом Кориэтом? *****) Из великих художников названы лишь Тициан, Тинторетто, Сансовино. Упомянут ещё малоизвестный резчик по дереву Альберт де Брюль. Например, когда он пишет о церкви Иль Реденторе, построенной в ознаменование избавления города от чумы (эпидемия 1576 г.), то даже и здесь не упоминает её автора Андреа Палладио. Ну, а чего ждать от двадцатилетнего оболтуса? Вернее, оболтусов, т. к. Кориэт и Рэтленд практически ровесники. У меня сложилось впечатление, что Автору вообще безразлично, что в Венеции, да и где угодно, кем построено, изваяно и написано на холсте или штукатурке, он просто не разбирается ни в живописи, ни в скульптуре, ни в архитектуре, а все его рассуждения об этих искусствах (а он, если это Рэтленд, магистр искусств) весьма поверхностны. ******) Есть одно существенное соображение в пользу авторства как раз не Кориэта, а Рэтленда. Путаница с Палладой и Марсом это ведь не в насмешку, это действительно ошибка. И её не мог сделать Кориэт, если он путешествовал в 1608 году, т. е. совсем недавно. Значит он таки не был в Италии в это время, а ошибся Рэтленд, со времени поездки которого прошло больше 10-и лет. Как в таком случае объяснить идиотское поведение Автора в еврейском гетто? Очень просто — весь этот эпизод целиком выдуман. Таким образом кандидатура Рэтленда перевешивает и суд присяжных уже мог бы вынести ему вердикт «виновен», что означало бы «ты Автор этой крайне неаккуратно написанной книги, этой неудачной попытки совмещения несовместимого». Возможно, в каком-нибудь неисследованном архиве найдётся когда-нибудь признание обвиняемого. *******) Одна из веских причин для ожидания второго тома «Дневника...» такова. На стр. 220 Автор объявляет о намерении рассказать («теперь я расскажу») об оставшихся четырёх городах Италии, которые он посетил. После этого следует очередная нелепица — вместо четырёх перечислено семь городов, в том числе, почему-то, Падуя. А главное не это, а то, что никакого рассказа так и нет! То ли Автор мгновенно забыл о своём обещании, то ли этот рассказ об итальянских городах появится в описании путешествия по Германии, что вполне в духе всей книги, производящей в целом впечатление холодного «душа из града», как выразился Автор, описывая погоду в Венеции «первого июля в пятницу». PS. Резюме. Приведены интересные аргументы как в пользу авторства Кориэта, так и в пользу авторства Рэтленда, что ни на йоту не приблизило нас к истине. Но наши цели ясны, задачи определены.* За работу, товарищи шекспироведы! *) Ставилась ли такая, например, задача — поискать в датских архивах, не написала ли чего-нибудь о Шекспире королева Анна, жена Иакова I, своему брату Кристиану IV, датскому королю, которому граф Рэтленд вручал орден Подвязки?
|
| | |
| Статья написана 13 февраля 2020 г. 16:39 |
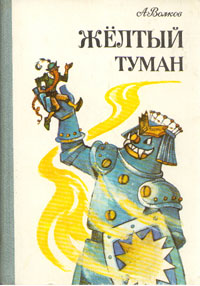 | | 1970, повесть, для детей Проспав пять тысяч лет, злая великанша и колдунья Арахна, проснувшись, обнаруживает вокруг себя Волшебную страну с добрыми беззащитными жителями. Она решает покорить их с помощью Жёлтого Тумана, закрывающего солнце и вызывающего зиму. Но Энни, Тим и Чарли Блек снова готовы прийти на помощь друзьям. Да не одни, а с Железным рыцарем Тилли-Вилли. |
|
Цикл Волкова может служить неплохой иллюстрацией к литературоведческой теории американцев Алексея и Кори Паншиных. Фантастика, согласно их представлениям, шла в своём развитии от «Деревни», области мистических и необъяснимых явлений, в направлении «Мира за Холмом», всё в большей степени получая опору на научные достижения, т. е. постепенно превращаясь в научную фантастику. От Уолпола и Мэри Шелли через Эдгара По и Жюля Верна к Уэллсу, сделавшему на этом пути своей «Машиной времени» решающий шаг, и далее к Хайнлайну, Азимову и другим отцам-основателям современной НФ. У Волкова поначалу о науке речь вообще не идёт, сплошная сказка и магия. Позже Урфин Джюс оживляет мёртвую материю с помощью случайно открытого им чудесного порошка.* Это уже начало пути, на котором управление силами природы постепенно переходит от потусторонних сущностей или местных магов к обычным людям, использующим силу науки и инженерной мысли. В повести «Жёлтый туман» впервые описано климатическое оружие со всеми страшными последствиями его применения и здесь же появляется прототип противогаза. И хотя свойства волейбольных мячей основаны пока ещё на волшебстве (будучи сшитыми из кожи, они не имеют накачиваемых камер, да и воздушного насоса никто пока не изобрёл), но зато сделан гигантский шаг вперёд в области двигателестроения, шаг практический и теоретический одновременно. Быстро обучающийся стальной рыцарь Тилли-Вилли, передвигающийся, как обыкновенная заводная игрушка, делает фундаментальное, даже революционное, открытие — он предлагает идею и метод перевода своих пружинных двигателей от пополнения энергией с помощью обычных заводных ключей (эту работу выполняли дуболомы) к подзарядке (или, вернее, подзаводу) от других совершенно таких же пружин. В повести об этом сказано несколько уклончиво, как это делают все писатели-фантасты в подобных ситуациях: «... гигант пустился в такие технические рассуждения, что мы с вами всё равно ничего не поймём и речь его передавать не стоит. Скажем лишь, что суть предложения состоит в следующем: одна рука, поднимаясь или опускаясь, заводит другую, левая нога заряжает правую и наоборот.»** Здесь Александр Волков решил проблему, которую пока, кажется, никто не осилил — создал механический perpetuum mobile. Только один намёк на несерьёзность этого открытия мне удалось обнаружить в повести. Дело в том, что Тилли-Вилли в отличие, например, от Страшилы, вообще не имеет мозгов. Никаких. Он оживает и начинает говорить сразу после рождения, такова сила магии создателя этого заповедника богоравного Гуррикапа. Но, чтобы ходить, говорить, сражаться и даже руководить государством, мозги не обязательны, последнее неопровержимо доказано биографией Страшилы. Для изобретения же вечного двигателя мозги предмет абсолютно излишний, их наличие изобретателю противопоказано и, возможно, по этой причине такой двигатель не изобретён до сих пор. Вот это, по-моему, и хотел сказать Волков, заставив именно Тилли-Вилли сделать столь грандиозное открытие. В последней повести цикла («Тайна заброшенного замка») Автор уже совершенно освоился в «Мире за холмом», там появляется звездолёт с пришельцами, лучевые пистолеты, вертолёты. А Урфин Джюс наблюдает звёздное небо с помощью телескопа. По мере усиления научной составляющей в цикле магия становится слабее. Арахна*** лишается многих своих колдовских умений за пять тысяч лет сна. Но, может быть, вектор развития НФ здесь и ни при чём — слишком долго спала, вот и всё. Но частичная потеря волшебных свойств ковром-самолётом, который теперь не способен преодолевать водные преграды, по каковой причине Арахна вынуждена переходить вброд канал, окружающий Изумрудный город, вместо того, чтобы приземлиться прямо перед дворцом ... — это очевидное следствие перехода в «Мир за холмом». Да и не ослабни ковёр так вовремя, Арахна разнесла бы Изумрудник на камушки и цикл был бы закончен задолго до появления Тилли-Вилли. И драконы в Волшебной стране не правильные, не огнедышащие, а будь они такими, преимущество Арахны в «авиации»**** мгновенно испарилось бы и опять-таки цикл закончился бы слишком рано. Процесс перемещения научной фантастики в «Мир за холмом» очень непрост и полон непредсказуемых нюансов. Например, проигрывая драконам "Деревни" в огневой мощи, по грузоподъёмности дракон из «Жёлтого тумана» сравним с ИЛ-76, ведь он перевёз на огромное расстояние тяжеленного Тилли-Вилли в разобранном состоянии и даже с запасными деталями. С книгой Паншиных я связал цикл Волкова не случайно. Александр Мелентьевич на 16 лет старше Хайнлайна, а когда появился русский перевод «Машины времени» ему было 20 лет. К тому же Волков математик по образованию. Он вовремя родился и вовремя написал свой фантастический цикл, с очевидностью подтвердивший правильность паншинской теории. В связи с этим ещё одно, последнее, наблюдение. Паншины уделяют много внимания роману Ж. Верна «Путешествие к центру Земли», как важному этапу на пути развития НФ. А разве путешествие Тима и Элли из Айовы в Волшебную страну по системе пещер и подземных рек не заставляет вспомнить путешествие профессора Лиденброка и его племянника? *) Джюс это такой новый Франкенштейн, поставивший на поток производство големов, а в книге Паншиных «Мир за холмом» роману Шелли отведено достойное место. Почему для оживления деревянных солдат понадобился какой-то волшебный порошок, а творение Чарли Блека ожило само собой — отдельный интересный вопрос. Вероятно, Волкову не сразу пришло в голову сделать оживление монстров искусственного происхождения одним из основных волшебных свойств созданного Гуррикапом мира. **) Чтобы ещё лучше представить значение этого открытия, предлагаю простую электротехническую аналогию. Есть два железнодорожных вагона. Когда колёсные пары одного из вагонов приводятся в движение двигателями постоянного тока, работающими от аккумуляторов, колёса другого вагона вращают генераторы, от которых заряжается вторая группа аккумуляторов. Первая группа разряжается и машинист переключает состав на движение от второй группы. Такой поезд, как можно легко догадаться, может двигаться сколь угодно долго, например, пока машиниста не заменит сменщик. Вот какую проблему решил по пути к логову Арахны модернизированный Железный Дровосек, и это уже чистейшая НФ, т. е. тот самый «Мир за холмом». Слова «модернизированный Железный Дровосек» нуждаются в небольшом комментарии. У Дровосека мозги-то были на месте, в его новой железной голове, куда их не забыл вставить кузнец. Дровосек, как мы помним, был обычным взрослым мужчиной до того, как Гингема заколдовала его топор. Поэтому модернизация здесь свелась к двум неравнозначным усовершенствованиям: первое и главное — отсутствие мозгов, а второе — существенное увеличение размеров, меч же вместо топора, с точки зрения конструктора, доработка не принципиальная. ***) Пара слов об этой, как некоторые считают, женщине. Предками её были, очевидно, гигантские пауки, а это означает, что не все человекообразные на Земле произошли от обезьян, была и другая ветвь эволюции. Эта научная проблема в повести не обсуждается, Автор лишь намекает на её существование, наделив свою героиню очень много говорящим именем. Возможно, Арахна — «последняя из могикан». ****) В повести сознательно «забыты» летучие обезьяны, которых боится Арахна. Если бы войне предшествовала более тщательная дипломатическая подготовка, и удалось бы заключить союз с обезьянами, то (снова попадаем на ту же развилку) отпала бы необходимость создания Тилли-Вилли, а фантастическое содержание повести сильно сместилось бы в сторону «Деревни».
|
|
|


 облако тэгов
облако тэгов