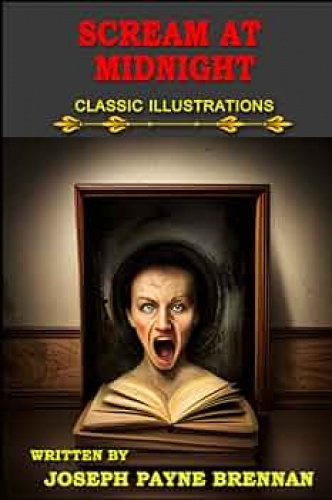Джозеф Пейн Бреннан
(1918-1990)
В самих камнях / In the Very Stones
из авторского сборника рассказов
Scream At Midnight
(1963)
Перевод на русский: Э. Волзуб (2023)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Об авторе: Родившийся в 1918 году в Бриджпорте, Джозеф Пейн Бреннан женился и жил в Нью-Хэвен, где он работал в Йельской библиотеке. Бреннан состоял в штате Theatre News, а также был редактором поэтических журналов Essence и Macabre, в последнем также печаталась химерная проза.
Его собственная проза и поэмы издавались в большом количестве журналов, таких как The American Scholar, The New York Times, Voices, Weird Tales, The Readers Digest, Coronet, Esquire, The Christian Science Monitor, Variegation, The Carolina Quarterly и во многих других.
Бреннан – автор двух книг поэзии, «Сердце земли» и «Гудящая лестница». Среди написанных им брошюр: «Г. Ф. Лавкрафт: библиография», «20.000 футов над историей» и «Г. Ф. Лавкрафт: оценка (его творчества)».
Бреннан признавал ностальгическую привязанность к антикварным районам городов и посёлков старого Коннектикута. Подобно растущему числу его современников, он возражал против замены прекрасных исторических достопримечательностей безликими пустошами бетона и похожих на коробки из-под яиц многоквартирных домов. Сочинения Бреннана часто отражают его проницательное чувство времени.
**********************************

«Для меня непостижимо», — писал мой друг Луциус Леффинг, исследователь парапсихических феноменов, — «чтобы кто-либо, обладающий достаточным уровнем восприятия и чувствительности, мог бы провести долгий период жизни в каком-либо месте и не оставить там часть себя, не впитать свою жизнь в самые камни, дерево и известку своего жилища.»
Сколь живо вспоминалось мне это его утверждение позднее! Но позвольте мне начать с самого начала.
Я был вдали от Нью-Хэвена многие годы, вернулся же, находясь в довольно усталом состоянии, преисполненный воспоминаний и сожалений. Моё здоровье было не в порядке. Ревматическая лихорадка моего детства в конце концов повредила моё сердце. К тому же, у меня были проблемы со зрением. Зрительные нервы были по непонятной причине воспалены. Яркий свет вызывал у меня болезненные ощущения. Тем не менее, в тусклом или приглушённом освещении я мог видеть очень даже сносно. Причём до такой степени хорошо, что я начал приходить к идее, что моё зрение становится неправильным.
После того, как мне удалось арендовать комнату в одном из нескольких ещё оставшихся жилых кварталов города, не охваченных расползающейся заразой человеческой и социальной дегенерации, я начал предпринимать длительные, бесцельные прогулки по городу. Обыкновенно я ждал дня, когда солнце было скрыто за тучами. Когда небо было пасмурным и свет был серым, нежели золотистым, мои глаза переставали дрожать, и я мог прогуливаться в относительном спокойствии.
Город значительно переменился. Временами я едва мог понять, где нахожусь. Целые акры знакомых прежде зданий были снесены. Памятные улицы исчезли. Громадные новые постройки, эффективные, однако безобразные, вздымались тут и там. Новые шоссе загибались в петли и кривые линии во всех направлениях. В недоумении я часто отступал к ещё не захваченному центральному скверу Коммон, или Грин, как его ещё называли. Однако, я понимал, что даже это последнее лиственное убежище уже было в осаде. Разные интересы сходились на том, чтобы покрыть травяной полог цементом, в целях создания гигантской платной автопарковки.
Однажды после полудня в конце октября, когда в воздухе висела угроза дождя, я вышел на прогулку. Мои глаза отдыхали в отсутствии солнца; холодный воздух как-то успокаивал. Час или около того я шатался без какой-либо цели. По внезапной прихоти я решил посетить городской район, которым столь долго пренебрегал. Я жил в этом квартале, когда был совсем ещё ребёнком – больше сорока лет назад. Хотя мне едва ли исполнилось больше трёх, когда наша семья переехала, у меня сохранились яркие воспоминания об окрестностях и о самом доме.
Дом наш был двухэтажным, из красного кирпича, крепкой кладки, расположен он был по адресу Стэйт-стрит, 1248. Когда я жил там, на лужайке перед домом рос большой вяз. В задней части дома находился крупный пустырь, тянущийся до соседней улицы, Сэдар-Хилл-авеню, и бывший идеальным местом для игрищ. Впоследствии вяз срубили, пустырь почти что целиком заполнился дешёвым многоквартирным зданием, и вся округа стала приходить в упадок.
Пока я приближался к старому кварталу, то был потрясён его внешним видом. Некоторые дома были снесены под корень; прочие стояли пустыми, демонстрируя выбитые окна, сломанные двери и рухнувшие веранды. На одной улице пустовал и частично развалился буквально каждый дом. Я был удивлён и расстроен. Мне не доводилось встречать такую заброшенность ещё с военных лет.

Под этим серым октябрьским небом, с уже начавшим опускаться вокруг меня тонким шлейфом тумана, это была, пожалуй, самая мрачная сцена, какую только можно себе вообразить. Я испытал отчётливый упадок духа, и пока продолжалась прогулка вдоль тех странных пустынных улиц, моё настроение подавленности только углублялось.
Наконец мне встретился пешеход, уже закутанный в зимнее пальто. Он подозрительно прищурился на меня, когда я спросил его, почему столь много домов стоят покинутыми и раздолбанными. «Маршрут 91…» — пробормотал он, спеша прочь.
Хотя я узнал, что было вполне себе рациональное объяснение этой разрухе, мне легче не стало. Я был твёрдо убеждён, что всего лишь лёгкое изменение в чертежах нового шоссе могло бы увести его прокладку на несколько миль в сторону, через пустынные болотные просторы. Причём стоимость этих работ, несомненно, равнялась бы всего лишь части общих затрат на обширное судопроизводство по конфискации зданий.
Я всецело ожидал, что кирпичный дом моего раннего детства уже лежит в руинах. Я ощутил тихую радость, найдя его всё ещё стоящим на своём месте. Я сказал «тихую», ибо, конечно же, мне было понятно, что и он тоже обречён. Его окна уже были разбиты, дверь провисла, а часть передней изгороди была сровнена с землёй трактором или бульдозером.
Пока я стоял так, вспоминая отчётливо эпизоды сорокалетней давности, мне пришло на ум соображение о той беспочвенности, отсутствии корней, что является характерной чертой среднестатистического городского жителя. Руководствуясь выбором, или же, что более часто, необходимостью, этот архетипический горожанин движется от одного дома к другому. У него нет якоря, нет никакой преемственности. Когда он навещает свой старый район, то может обнаружить, что его бывшего дома уже и след простыл. На месте того может уже быть какой-нибудь финансируемый городом «проект» для перманентно обеспеченных классов, или же гараж из шлакоблока, или же унылая парковка. Дом, деревья, задний двор, сами бордюры и пешеходные дорожки могут полностью пропасть.
Возвращенец может пережить пугающее чувство утраты, ощущение путаницы, хаоса. Он может наконец начать ощущать, что теряет даже свою собственную идентичность, что, по факту, у него и нет никакой идентичности. Он будет ощущать потерянность во времени, не имея ни будущего, ни прошлого. Нет ничего, к чему он мог бы вернуться, как нет и ничего постоянного, что он мог бы проследить в неопределённом будущем.
Изолированный, мимолётный, бродяга по сути, этот горожанин должен будет пережить одиночество духа, которое ничто не способно утишить. Тысячи ему подобных населяют современный город, и всех их гложет чувство их собственной бескорневищности, и тщётно жаждут они оказаться дома, в обители, где ощущается аромат времени, в постоянном и заветном месте на земле, которые бы связывало их собственное прошлое с каким-либо исполненным надежды будущим.
Одолеваемый этими депрессивными мыслями, я стоял перед покинутым домом моего детства из красного кирпича. У меня был импульс войти, но я предположил, что это может быть небезопасно, и скорее всего, под запретом.
Опустились сумерки. Туман стал плотнее; я же по-прежнему находился в этом квартале. Двигаясь прочь от обречённого дома, который был мне знаком, я бродил вдоль тех пустующих улиц, глядя через треснутые окна, сквозь покосившиеся двери, которые никогда уже не откроются дружественной рукой.
В некоторых окнах видны были истрёпанные, почернелые занавески, оставшиеся висеть в беспорядке по причине принудительного выселения, развевающиеся на холодном октябрьском ветру. Странные кусочки сломанной мебели, столовой посуды и орнаментов валялись повсюду вокруг. В некоторых из этих домов были прожиты целые жизни от начала до конца. Ныне же они стояли подобно пустым скорлупам, в ожидании абсолютной и финальной деструкции.
Вся округа казалась вымершей, безмолвной, лишённой всяких признаков жизни. Даже обычные городские шумы казались здесь странно приглушёнными и отдалёнными.
Я брёл без перерыва на отдых, ошеломлённый запустением, что окружало меня, и одновременно с этим не желая покидать его. Туман уплотнился, и вот уже наступила ночная темнота. А я всё оставался там.
Несмотря на тьму, я мог прекрасно видеть. Эта аномальная способность, очевидно, была связана с необычной чувствительностью моих глаз к сильному свету. Я ощущал, что оба этих состояния происходят от воспалённости оптических нервов; недуга, ранее мною упомянутого.
Я прошёл по аллее, странно поблескивавшей из-за кусочков разбитых оконных стёкол, и стал созерцать покинутое жилище по соседству, которое невероятным образом перекосила просевшая крыша. Это был небольшой белый каркасный дом дешёвой постройки, и всё же я заметил, что кто-то тщательно ухаживал за ним прежде. Краска была яркой; маленький почтовый ящик выглядел так, будто его недавно вымыли. И вытоптанные останки некогда ухоженного садика окружали это строение.

Пока я стоял так и предавался раздумьям, глядя на эту печальную развалюху сквозь всё возрастающий слой тумана, мне почудилось лицо в одном из двух передних окон первого этажа. Это было лицо старика, белёсое, исполненное скорби и невыразимого отчаяния.
Я взирал на него в остолбенении. Моей первой мыслью было, что какой-то пожилой бродяга пробрался в остов белого дома, намереваясь провести там ночь. Вероятно, сырость заставляла его старые кости ныть.
Лицо продолжало глядеть на меня. Я побрёл прочь, испытывая смутное чувство беспокойства. По пути меня передёрнуло, и я тут же списал это на холодный туман.
Я прошёл меньше половины улицы, когда увидел женщину. Ненормально полная, она сидела в плетёном кресле на полуразрушенной веранде двухэтажного особняка. На ней были очки с очень толстыми линзами, которые, казалось, отражали свет, шедший из некого невидимого источника. Луны, разумеется, не было видно, и я не видел каких-либо искусственных источников света вокруг.
Я был изумлён, однако предположил, что, должно быть, несколько жителей всё ещё могли нелегально проживать в своих старых домах, ожидая окончательной договорённости о выселении их в новые апартаменты.
Какой-то импульс заставил меня ускорить шаг, смотреть прямо перед собой, а не по сторонам. Тем не менее, я проявил упрямство и воспротивился этому, пойдя наперекор собственной интуиции.
Вместо этого, я остановился, прочистил горло и заговорил.
— Добрый вечер! – обратился я к женщине.
Толстуха не ответила. Она даже, казалось, не услышала меня. Вероятно, рассудил я, в дополнение к своим слабым глазам, она ещё и тугоуха.
Я прошёл несколько шагов вверх по дорожке, ведущей к её дому, и кивнул.
— Добрый вечер! – повторил я, уже громче.
После чего я моргнул, не веря своим глазам. Плетёное кресло было пусто! Я застыл как вкопанный и вперился в него. На мгновение перед этим я кинул взгляд вниз на дорожку, чтобы убедиться, что не наступаю на обломки. Возможно, что в эти несколько секунд толстуха вскочила с кресла и втиснулась внутрь дома?
Я не знал, что и думать. Для человека её телосложения женщина эта двигалась с непостижимой прытью. Развернувшись, я побрёл обратно на тротуар и продолжил свою прогулку. Мне пришло на ум, что женщина эта была осведомлена о том, что продолжает занимать конфискованную жилплощадь. Поэтому она тут же скрылась в доме, чтобы избежать любой возможности обсуждения этой темы с незнакомцем.
Удаляясь прочь, я обернулся. И вновь я увидел проблески света на тех очках с толстыми линзами. Полная женщина вновь была в своём плетёном кресле.
Что-то помимо вихрящегося тумана заставило меня содрогнуться. Хмурясь, я прибавил шагу. Уже поздно, говорил я себе, и мне лучше бы сейчас покинуть эти заброшенные, заполненные туманом улицы и пойти, наконец, домой, чтобы выпить несколько кружек горячего чая с бергамотом.
Я шёл быстрым шагом, однако не мог противиться желанию смотреть на пустующие остовы домов, мимо которых проходил.

Внезапно я остановился. Моё сердце застучало. Ледяной поток страха вызвал покалывание кожи моей головы. Широко раскрыв глаза, приоткрыв рот, я взирал сквозь эту тонкую пелену тумана и ощущал, что логика и трезвый ум покидают меня.
Около половины тех поломанных и заброшенных домов внезапно наполнились жильцами. Я видел печальные бледные лица, глядящие на меня из дюжины разных окон. Неясные, окружённые туманом фигуры сидели на нескольких скамейках. Какой-то старик, скрюченный от артрита, с трудом занимался своим крошечным садиком перед домом. Женщина средних лет, белая как смерть, однако с выражением безнадёжной ярости, отпечатанной на её лице, глядела на меня, стоя у сломанных ворот.
Ещё хуже, чем это, были другие явления. Я увидел, как кресло-качалка движется туда-сюда на крыльце, хотя в нём никого не было. Я увидел похожую на клешню руку, хватавшуюся за кирпичную стену здания. Рука переходила в смутный рукав, который, в свою очередь, ускользал в пустоту. На заднем дворе полуразрушенного особняка я уловил нечто, что было похоже на отделённую от тела голову женщины в большой соломенной шляпе. Та медленно проплывала над спутанным клубком зачахшего цветка в горшке.
Я ощутил хватку приближающегося безумия. У меня более не было ни малейшего желания находиться здесь. Моим единственным императивом ныне было немедленно убраться прочь отсюда.
Не помня себя от ужаса, я бросился через те заброшенные, хотя и не совсем, улицы, страх же мой был подобен псу, гонящемуся за мной по пятам. Я бежал, пока моё сердце не забилось гулко, и меня не одолело головокружение. Наконец, оставив далеко позади тот проклятый район с глядящими белыми лицами, липнущим туманом и странной тишиной, будто наполненной чем-то, я ввалился в дверной проём.
Спустя часы после того я достиг дома и упал в постель. Я проболел несколько дней. Моё сердце вновь испытало перенапряжение, и вдобавок к этому у меня проявились симптомы плеврита. Пока я лежал в кровати, то размышлял о своём гротескном опыте на той улице, полной молчащих домов. Я говорил себе, что мои глаза, воспалённые и сверхчувствительные, сыграли дурную шутку со мной, что тому виной были дрейфующий туман и моё собственное воображение.
Однако недели спустя, когда я поведал о своём городском приключении моему другу-парапсихологу, Луциусу Леффингу, он только покачал головой в ответ на мои объяснения.
— Я совершенно уверен, — сказал он, — что те фантомы, которые ты описал сейчас, не явились плодом ни твоего воображения, ни твоих воспалённых глазных нервов.
Как я уже писал тебе ранее, для меня невообразимо помыслить, чтобы любая личность, обладающая достаточным уровнем восприятия и чувствительности, могла бы прожить долгий период в каком-либо месте и не оставить после себя хотя бы что-то, запечатлев это что-то в самих камнях, дереве и известке.
То, что ты видел, было психическим остатками несчастных сгинувших душ, которые в совокупности прожили сотни лет в тех конфискованных домах. Их психические скорлупы всё ещё цепляются за свои единственные земные якоря, что у них остались. Причём, как ты описываешь, некоторые из них уже уменьшились и истёрлись до состояния отдельных фрагментов.
Он покачал головой.
— Бедные души!
Конец