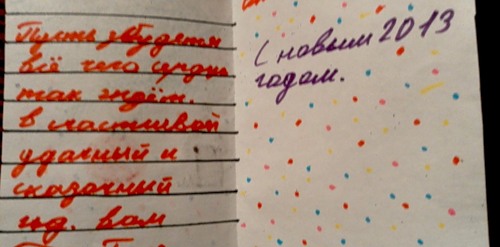Пусть здесь полежит, тем более, что для конкурса я один эпизодик вырезала ради краткости.
Исповедник
Таня ошеломленно оглядывала опустевшее селение.
– Никогда такого не было! Даже в первый раз, когда Дэнни им показался. Приняли, как жданного гостя. И после, когда мы новичков приводили…
Ей было неловко перед стариком – профессор Чэн был ее научным руководителем, чтобы навестить ученицу, выбрался за тридевять планет в тридесятое небо, она от радости нахвасталась, мол, контакт прошел как по маслу, аборигены нисколько не стесняются этнографов – и вот, едва завидев на тропе гостей, селяне опрометью разбегаются по домам, захлопывают двери…
– Возможно, день табуирован на общение чужаками? В ваших отчетах о системе табу не упомянуто, однако весь мой опыт знакомства с культурами этого уровня, – Чэн обвел взглядом приземистые сакли из сланцевых плит, окруженные крошечными огородиками, – подсказывает, что без религиозных запретов они не обходятся.
Таня смутилась.
– Вот верований мы пока не сумели нащупать. Конечно, это всегда закрытая область, но у линнов после годичного знакомства не выявлено ни одной закрытой темы. А сегодня – нате вам, закрытые двери! – она вдруг рассердилась. – Что там гадать – спрошу! Вот у Ми-о и спрошу. – Она кивнула на ближайшую саклю, и, шагнув к узкому окну, поскребла ногтем по слюдяной пластине. – Ми-о, ор нэ Та-ня!
Ее голос изменился, выпевая слоги с резкими переменами тона.
Из-за окна глухо донесся ответ. Чэн, изучавший язык по записям и отчетам экспедиции, не сумел разобрать слов – стоял поодаль, а слух с годами притупился.
Таня почему-то виновато покосилась на старика и тоже понизила голос, забормотала, встав на цыпочки, прямо в щель окна. Новый ответ прозвучал четко и резко – теперь и Чэн разобрал:
– Ха! Гир но!
«Нет, уведи его!». Значит, жителей селения напугал именно он, Чэн. Этнограф наскоро прикинул в уме, что могло с первого взгляда выделить его среди землян, уже принятых аборигенами. Оттенок кожи? Узкий разрез глаз? Но отец Дэна, монгольский антрополог Ким передал сыну черты своего народа, а Дэн первым вступил в непосредственный контакт. «Как по маслу», – вспомнил Чэн и невольно усмехнулся, погладив узкую седую бородку. Таня Кринг славилась среди студентов обыкновением вплетать в речь старинные идиомы, порой беззастенчиво подправляя их под стать новым обстоятельствам.
А вот сейчас девушка явно смущена и не решается признать очевидного. Чэн вывел ученицу из затруднения.
– Вернемся на базу, Таня, там и обсудим.
От поворота уходящей к верхней террасе тропы земляне обернулись. Жители селения уже вышли из домов, но не вернулись к привычным делам, а стояли, обратив лица в одну сторону – и не вслед отправленным восвояси гостям. Все они, взрослые и дети, мужчины и женщины, смотрели на причудливую скалу, замыкавшую скалистый цирк.
Селение уже скрылось за поворотом змеившейся по обрыву тропы, когда сверху послышалась задорная песня. Таня узнала голос: длинноногий Ну, которого вечно гоняли вестником на плато, к хлеборобам – а в последнее время у парня, похоже, завелась там зазноба – сам искал заделье, а то и без дела мотался на полдня пути.
Подавать голос на спуске, предупреждая встречных, было в обычае, но парень орал во все горло, видно, что от души, а не по обязанности. Небось летит со всех ног – надо бы и его предупредить.
– О-о-а, Ну-о! –, выкрикнула Таня, задрав голову
Услышал – песня стала тише, и из-за поворота Ну вышел чинной походкой. Он хитро улыбался – видно, собрался отпустить шуточку в адрес давней приятельницы, – а увидел перед собой поднимавшегося первым Чэна.
Парень резко остановился, шарахнулся назад в сторону – и ступил ногой мимо тропы.
Он сорвался бы в обрыв – если бы старый Чэн не сохранил в свои девяносто молодую реакцию. Этнограф успел подхватить горца под мышки – и сам упал, сдернутый на колени тяжестью крепкого тела.
Таня подскочила секунду спустя. Вдвоем они помогли Ну выбраться на тропу. Гонец утвердился на ногах – расцарапанный, вымазанный в пыли – но вместо естественного благодарственного движения – ладонями за локти спасителя – выкрикнул вдруг: «Трай! – отшатнулся, насупленный, кривя губы, словно хотел заплакать – и вдруг, бросив короткий взгляд на Таню, опрометью помчался вниз, быстро скрывшись за перегибом.
Девушка смущено обернулась к учителю:
– Да что же это с ними?… – и ахнула, не договорив.
Чэн привалился лицом к скальной стенке, его темное лицо подернулось нехорошей зеленью, глаза смотрели в пустоту.
– Чэн… профессор… вам плохо?!
Чэн словно очнулся, вздрогнул, перевел взгляд на ученицу.
– Нет, ничего.
– Я же вижу… вы ушиблись? Или сердце?
Таня в панике соображала, что делать. Карманная аптечка? Или бежать к ребятам за помощью? Нет, оставлять старика нельзя…
Чэн поймал всполошенный, почти безумный взгляд ученицы и болезненно улыбнулся. Придется успокаивать девочку, объяснять…
– Ничего, Таня, – повторил он. – Это так… вспомнилось кое-что. Мы с сыном как-то… это было давно… наговорили друг другу много лишнего. Было и прошло, я забыл, и он никогда не напоминал. А тут … тот же взгляд и движения. И даже слова – он ведь крикнул: «Пусти!», да? Только Ли тогда добавил очень грубое слово. Этот юноша воспитан лучше. – Профессор улыбался уже почти натуральной улыбкой.
Таня с облегчением вздохнула и невольно перешла на тон «паиньки», какой приберегала на Земле для объяснений с бабушкой.
– Да уж, мы, дети – те еще цветочки! Я вот тоже иногда родителям такого наговорю – стыдно вспомнить.
– Да, дети… рассеянно повторил старик. – Ну, ничего. Пойдем, Таня, нам еще разбираться – что же со мой не так.
Маленький экспедиционный отряд собрался за столом. Молодой состав: старшему, Дэну, тридцать два, Таня и Симон много моложе, недавние студенты. Джону чуть за сорок – впрочем, художник не входит в основной отряд. Этнографа из него не вышло – языковая глухота – зато его жанровые и портретные зарисовки зачастую не только выразительнее, но и информативнее видеосъемки. Для этой четверки девяностолетний Чэн – патриарх, молодежь не так давно штудировала его монографию «Контактная ксеноэтнография гуманоидных экзокультур».
Утренняя неудача основательно сконфузила ребят, сейчас ни один не решался предложить свою версию – говорили о пустяках, перешучивались на тему поднадоевшего консервированного пайка – при всем внешнем сходстве жизненных форм местная органика земными организмами не усваивалась.
Чэн решительно прервал обмен неловкими остротами:
– Таня, я не расслышал. Повтори, пожалуйста, что сказал тебе этот Ми-о?
Девушка покраснела.
– Попросил вас увести. Чем-то вы ему не понравились.
– Таня, дословно, пожалуйста!
Таня послушно воспроизвела несколько фраз на лаконичном местном языке. Чэн задумчиво повторил на терралингве:
– «Ты пришла с плохим человеком. Линны не любят смотреть на плохих людей. Пока он здесь, мы не выйдем. Возвращайся одна». И что ты ему ответила?
– Сказала, что вы – хороший человек, мой учитель. Попросила выйти и познакомиться. Заверила, что вы никому не сделаете зла.
– Ну, ответ я слышал, – кивнул старик. – Хорошо уже то, что тебя пригласили вернуться. Значит, можно не опасаться, что мое появление нарушит установившийся контакт. Будем надеяться, что старой знакомой линны объяснят, что их так напугало, однако для начала не повредит поискать разгадку самим. Разумеется, острая ксенофобия характерна для стагнирующей культуры, однако… – Договорить старику не дали.
– Я бы не назвал эту культуру стагнирующей! – в голосе Симона звучала обида. – Мы предпочитаем термин «стационарная».
Чэн снисходительно улыбнулся.
– Новые времена – новые термины. Я сам в молодости видел в каждом изучаемом племени неповторимое своеобразие, а любая попытка ввести его в рамки систематики представлялась мне оскорбительной. Но, коллега, без выделения типичных признаков наша наука превратится в хаотическое описательство. Я вывожу определение из ваших же отчетов. Бесписьменная культура, общинная организация на основе «большой семьи», консервативные технологии… впрочем, на местах иногда виднее. Прошу вас, попробуйте обосновать необходимость особого термина в вашем случае.
– Прежде всего – взял слово Дэн, – стагнирующая культура предполагает регресс от более высоких стадий развития в прошлом. Известный пример – культуры великих мореплавателей, регрессировавших в патриархальные коммуны на островах земной Океании. Здесь же мы не видим признаков регресса. Геологи утверждают, что опускание единственного на планете большого материка, оставившего на поверхности только высокогорное плато, произошло не менее полутора миллионов лет назад. Развитие аборигенных сапиенсов практически с самого начала шло в этих, весьма своеобразных условиях. Возможно, именно сужение ареала и привело к адаптации за счет развития когнитивных способностей. И на выходе мы имеем культуру с высокой приспособленностью к местным условиям, стабилизировавшую свою численность на уровне, практически не нарушающем хрупкую экосферу. Развитие технологии до стадии ранней бронзы вполне обеспечивает потребности населения, аграрная культура высоко развита – собственно, почти до замкнутого цикла. Вы обратили внимание, как чисто в поселке?
Чэн кивнул.
– Да, необычно высокий уровень санитарии.
– Двойной бонус! – подхватил Симон. – Вся органика, вплоть до козьих орешков, отправляется в компостные ямы и со временем возвращается на огороды. Тем самым они предотвращают распространение эпидемий – и создают себе вполне комфортные условия существования.
– Необычно, – поглаживая бородку, признал Чэн. – Впрочем, в селении все же попахивает.
– Потому что топят горючими сланцами, – вступился Джон. – Запашок еще тот, зато горные леса не выводят под корень, как иные «прогрессивные» культуры. – Художник откровенно язвил – тоже обижен за своих «натурщиков»?
– И общинная культура – совсем не типичная, – горячо подхватила Таня. –Свободная экзогамия, ни малейшей враждебности между селениями, товарообмен между аграриями плоскогорий, нашими скотоводами, рыбаками с побережий – и я ни разу не слышала о мошенничестве при обмене. А уровень философии? Эта «бесписьменная» цивилизация сумела создать вполне адекватную картину мира – настолько адекватную, что появление человека с другой планеты приняли как должное – больше того, наблюдая посадку челнока, сделали верные выводы. Легенду Дэна разоблачили мгновенно – правда, они, кажется, и не заметили попытки обмана – решили, что Дэн допустил неточности в рассказе по незнанию языка – и «помогли» ему объясниться, уточнив сами! А полное отсутствие религиозности – это в стагнирующей-то культуре!
– Таня, – мягко остановил ученицу Чэн, – последнее настолько невероятно, что я склонен заподозрить ошибку. Иногда религиозные и мистические обряды скрываются от посторонних настолько тщательно, что даже многолетнее наблюдение не всегда их выявляет. Но полное отсутствие было бы воистину беспрецедентным. Кстати говоря, утренний инцидент проще всего объяснить именно религиозными верованиями. Сдается мне, что-то в моем облике вызвало у селян ассоциации со злой мистической сущностью. Обратите внимание, паника в селении началась, едва аборигены завидели нас на тропе. Она явно была вызвана именно моей наружностью. Джон, – обратился старик к художнику, – вам не приходит в голову, какие черты так резко отличают меня как от аборигенов, так и от сотрудников экспедиции?
Джон ответил не задумываясь.
– Старость.
– Тогда почему он не ходит к исповеднику? Только очень плохой человек боится пойти к исповеднику!
– Ла-о-га, – взмолилась Таня, – мы опять друг друга не понимаем. Если достойный Чэн не ходит к исповеднику – то и никто из нас тоже не ходит. В нашем мире не все ходят к исповедникам. А в вашем – я впервые слышу это слово. Может быть, тут ошибка? Наш языковед Симон говорит: ди-о-ра-на – тот, кому открывают «душу». – Слово «душа» Таня произнесла на терралигве и тут же пояснила: – Душа – это мысли, чувства, память. Мы правильно поняли?
– Правильно поняли. – Ла-о согласно повел рукой. – Только плохой человек не может открыть свои мысли, чувства, память. На моей памяти у рыбаков жил такой человек. Он столкнул друга с лодки, которую унесло в море, чтобы ему досталось больше воды. Рыбак выжил и рассказал людям, но к исповеднику пойти не хотел. Он жил еще много лет. У него кожа стала как сухая чешуя, волосы побелели, спина согнулась. А потом он умер. Плохо умирал, долго. Всем было больно это видеть. Никто не хочет такого видеть. Мы не хотим. Мы не знаем, что он сделал, ваш Чэн, но у него белые волосы, жесткая кожа, негибкие колени – он очень давно не был у исповедника. Пусть возвращается умирать в ваш мир – или пусть идет туда.
Ла-о махнул рукой в сторону возвышающейся над крутыми склонами цирка скалы. Этнографы обернулись к ней. В привычных изломах выветренного камня всем вдруг почудилась грозная фигура бородатого старца – и каждый вспомнил, что среди аборигенов они ни разу не видели людей старше сорока лет с виду.
Собравшиеся на беседу селяне молчали – и в их молчании слышалось согласие.
Дэн, поразмыслив, нарушил тишину.
– Я уверен, наш учитель Чэн не делал в жизни ничего такого, о чем не мог бы рассказать открыто. Но в наше мире стареют все – все становятся с прожитыми годами беловолосыми и негибкими. И все умирают от этого.
– У вас нет исповедников? – с ужасом вскрикнула молодая Та-а.
– Таких, как у вас, точно нет, – покачал головой Симон. – Мы открываем душу друг другу – есть люди, которые только тем и занимаются, что выслушивают чужие признания – но никто от этого не молодеет. – Чуть запнувшись, лингвист добавил: – Хотя кое-кто делается здоровее.
В глазах собравшихся линнов явственно читалась жалость.
Сочувственное молчание нарушил Ли-о.
– Теперь вы пришли к нам и сможете ходить к нашему исповеднику. Вы – наши друзья, он не отвергнет вас. Пусть ваш учитель откроет ему «душу» – Ли-о тоже вставил слово на языке землян, – быть может, еще не поздно, и он вернется к вам крепким и гибким, как вы теперь. И никому из вас больше не придется так страшно умирать. Пусть люди вашего мира прилетают к нам на своих летучих кораблях – мы готовы принять их.
Дэн сделал благодарственный жест – и тут же пошевелил пальцами, выражая сомнение.
–Мы очень разные, Ли-о. Мы не можем есть мяса ваших коз, не можем есть вашего хлеба. Сумеет ли наш соплеменник вернуть себе молодые силы вашим способом?
– Пусть ваш учитель попробует, – настаивал Ли-о. Кто-то в кругу шепотом повторил его слова:
– Никто не должен так страшно умирать.
– Но разве смерть не в природе вещей? – спохватился вдруг Дэн. – Если бы люди не умирали, им скоро не хватило бы коз и земли под огороды. Ведь у вас рождаются дети?
Линны грустно заулыбались.
– Ты сам наивен как дитя, – проворчал суровый Тач-о. – Мир суров, он убивает нас. Разве не при тебе положили в землю охотника Да-о, упавшего со скалы? А незадолго до вашего прихода Чу-а не смогла родить ребенка – он разорвал ей чрево и умер вместе с матерью. Ее муж Гас-о не захотел жить без нее и тоже отдал свое тело земле. Люди умирают каждый год – но это быстрая смерть, чистая смерть. А то, что вы называете «старость»… – слово опять прозвучало на терралингве, и говорящий споткнулся на нем, прервал речь, будто бы в отвращении.
Дэн вздохнул. Все это следовало обсудить с опытным специалистом. Он не сомневался – старого Чэна теперь и силком не выгонишь с базы, пока он не разберется в происходящем.
– Пусть будет так, – сказал молодой этнограф. – Я передам Чэну ваши слова и, уверен, он захочет пойти к исповеднику. Но кто-то должен научить его, что делать. Как нам быть, если вы не желаете не только говорить с ним, но даже его видеть?
Тач-о выступил вперед.
– Я не раз бывал у исповедника, и не всегда это было легко. Я расскажу ему – пусть придет ко мне в кузню, будем разговаривать.
Чэн провел у кузнеца пять часов. Вернулся задумчивый.
– А вы говорите – нет религии, – грустно усмехнулся он в ответ на вопросительные взгляды молодых коллег. – Вера, которая лечит не только от болезней – от старости!.. Знаете, сколько лет вашему крепышу Тачу? Если он не сбился со счета – двести тридцать один.
Молодежь дружно захихикала.
– Не верите? И кажется, напрасно, работа в кузнице тяжелая, но не слишком опасная. Смертельных рисков нет. Однако наш Тач-о лет тридцать назад проводил в землю последнего сына и говорит, что устал жить. Обучает подмастерье – тот еще молод, мой ровесник. – Чэн, хмыкнув, подмигнул девушке. – Думает, что лет через тридцать передаст ему все, что знает, и сможет уйти. Вот так-то.
– Профессор, – нерешительно подала голос Таня. – Вы хотите сказать, что они в самом деле…
Чэн укоризненно глянул на юную ученицу.
– Ну, особенности физиологии, вероятно, кое-что значат, а кроме того, аутопсихотерапия, эффект плацебо… Из истории о состарившемся рыбаке следует, что потенциально возможность старения в их организмах присутствует. Все это заслуживает очень внимательного изучения. Я рад, что мой визит помог выявить столь удивительный аспект существования аборигенов. Конечно, мне хотелось бы задержаться у вас. Очевидно, чтобы убедить местных жителей, что я не «плохой человек», придется мне посетить исповедника. Думаю, если молодость ко мне и не вернется, они признают это за особенность моего инопланетного организма. Ваши линны показались мне очень рассудительными индивидуумами. – Старик усмехнулся. – Я уже не удивляюсь, что их культура внушила вам такое почтение.
Помолчав, он добавил.
– Тач-о объяснил мне дорогу. Завтра с утра пойду.
Завтра рано вставать, надо бы уснуть, а он все лежит, уставившись в потолок. Сутолока мыслей заставляет до боли напрягаться мышцы, дыхание сбивается. И… страшно? Да, страшно. Тач сказал – надо прожить заново все, что не дает тебе покоя, что всплывает в памяти непрошенным. Исповедник поможет, – сказал он. Там, у его ног воспоминания становятся живыми. Такое место. В нашем мире, сказал Тач, есть такие места.
Нет, это не религия, скорее психопрактика. Такие места... они есть и на Земле. Места, где мысли о дне насущном смолкают, и в тишине, охватившей душу, всплывает прошлое. Та зеленая лощина у горного ручья, где Чэн мысленно прощался с покойной женой. Откуда бежал, когда вслед за мыслями о любви всплыла память об измене. Жена так и не узнала – умерла, веря, что муж – образец верности. А он насмехался над «своей толстухой» перед молодой любовницей… как стыдно, как стыдно! И ничего уже не исправить. Из той лощины он вернулся не помолодевшим – состарившимся. А если бы остался до конца, избыл бы стыд? Как знать.
Прожить заново, с новыми мыслями – и исповедник затянет раны, превратит стыд, страх, боль – в понимание, в опыт, в мудрость. Тело портится от боли внутри, – сказал кузнец. Когда боль уходит, к телу возвращаются силы. Но мы живем долго, мы делаем новые ошибки, жизнь приносит новую боль – и надо снова идти к исповеднику
Да, за девяносто прожитых лет накопилось немало боли. Немало стыда. Можно просто сходить и вернуться. Сказать – не помог исповедник, мы, земляне, устроены иначе. Да, иначе. Мы предаем, обманываем, причиняем друг другу боль – и копим память в глубине души. Не любим ворошить былое. А что тело стареет – мы привыкли.
Обмануть аборигенов не трудно – они не знают обмана. Даже тот рыбак не додумался скрыть от людей свою трусость и подлость. А вот к исповеднику не пошел. Прожить заново… с новыми мыслями. Когда жажда огнем печет внутренности, кажется пустяком – толкнуть в спину склонившегося над водой друга ради лишнего глотка. Сколько таких пустяков, оправданных обстоятельствами, скопилось за жизнь? Взбудораженная память вскрывал все новые язвы и болячки. И, заглушая боль, всплыла новая мысль
Не подлость ли – избавляться от стыда и боли за совершенное зло? Заменить их хладнокровным пониманием, принятием? Превратить в холодный опыт? Ради вечной молодости избавить себя от расплаты?
Нет, так низко Чэн не опустится. Скажет завтра, что счел недопустимым поддерживать своим примером ложные верования аборигенов – и улетит с ближайшим челноком. Оставив за спиной примитивных туземцев и дикую планету, на которой не убивают и не обманывают, не предают и не сводят под корень леса.


 облако тэгов
облако тэгов