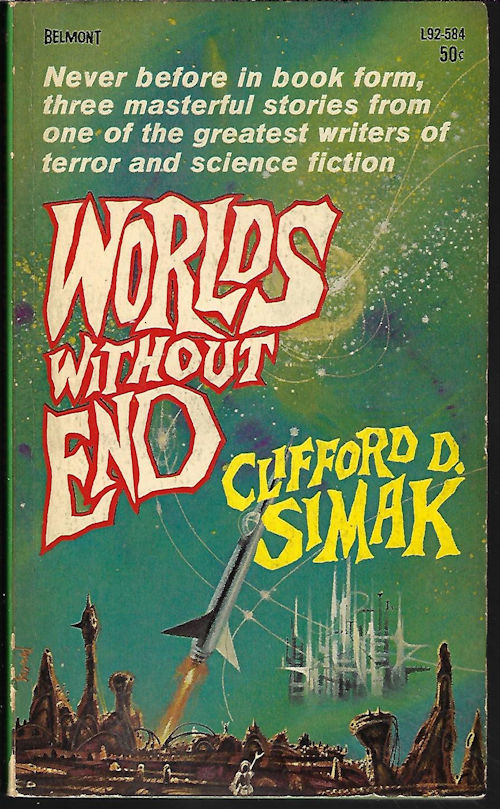Авторство: Adrian Eckersley
Перевод: Жан-Лескетт Гамшу
 |
Кто или что такое художники? Что есть природа воображения – дар ли это или проклятие? Художники имеют сношение с вещами, которых нет: они вызывают голоса из воздуха или слагают пейзажи и подобия из ничего. Достаточно беглого взгляда на некоторые образчики фолклора, чтобы понять, что интерес к моральному статусу артиста уходит в глубь столетий, и что поэтическая сила в прежние времена была связана с потусторонним миром. К примеру, средневековый немецкий миннезингер Таннгейзер черпал свою бардическую манну из неприглядной греховной жизни в Венусберге и был достаточно близок к тому, чтобы быть проклятым за это. Точно так же шотландский Томас Стихоплут обретал силу поэтического пророчества, совершая визиты в подземную страну эльфов и пользуясь особой милостью её Королевы. Эти примеры могут напомнить нам, что в традиционном коллективном мировоззрении художники могут наделены как божественным даром, так и быть колдунами окаянными.
В середине XIX-го века большинство населения европейских столиц воспринимало художника в ипостаси блаженного. Многие ощущали нарастание цунами НТР как дегуманизирующего фактора и расценивали воображение как утешительное противоядие против его холодной брутальности. Некоторые понимали под воображением дар Бога, с помощью которого люди могли познать Его в более совершенной форме. Работа художника, по сути, была подобна ремеслу священника: оба подпитывались верой в Невидимое. Потому, видимо, прерафаэлиты изображали библейские сцены в фотографическом ключе, наиболее близком пониманию их современников. Тем не менее, метафизические поиски XIX-го века не стояли на месте. Поздние прерафаэлиты стали изображать уже не страсти христовы, а сюжеты из классической греко-римской мифологии, сцены, вызывающие к жизни языческие ценности тех древних культур, что могли вполне оскорбить чувства зрелых и пожилого возраста викторианцев. Эти авангардисты подняли на знамёна девиз «искусство ради искусства», гораздо более раскрепощающую формулу, чем прежняя «искусство ради религии». Они прозывали самих себя «эстетами» и создали культ Красоты, вышедшей за пределы нравственности. Если эстет-художник и оставался святым человеком, то это был языческий святой, не являющийся по сути достойным христианином. Несмотря на это, художникам всё сходило с рук, не в последнюю очередь в силу того, что поздневикторианская эпоха была тем временем, в котором старые, жёсткие стандарты общественной морали ветшали и выбрасывались за борт Ноева Ковчега гуманистической науки.
Движение эстетов стартовало в 1860-ых и неуклонно шло по нарастающей. Его кульминация пришлась на первую половину 1890-ых, на т.н. «эру Жёлтой Книги», время широкой, но хрупкой вседозволенности. Тем не менее, в 1895-ом, атмосфера обманчивой раскрепощённости внезапно сгустилась и потемнела самым драматическим образом на фоне общественного отрицательного резонанса. Чаще всего старожилы в связи с этим коллапсом указывают на падение Оскара Уайлда. Если нужно проиллюстрировать дух вседозволенности 1890-ых на одном человеке, то Уайлд подходит в качестве аватары как никто другой. Он был чрезвычайно успешен и невероятно моден одновременно. Он заточил тонкие аморальности эстетства в городские хрустящие острячества, и через его пьесы лихих 1890-ых, «Веер Леди Уиндермер» (1892), «Идеальный Муж» (1895) и, кроме всего прочего, «О том, как важно быть серьёзным» (1895), он пожинал славу, которая сосредоточила на нём фокус массового внимания, которой он наслаждался и которую лелеял.

Будучи, таким образом, крайне публичной и за счёт этого крайне уязвимой персоной, Уайлд подал в суд на маркиза Куинсберри за клевету о якобы склонении того к гомосексуальным связям, что являлось в то время уголовным преступлением. Иск по делу о поруганной чести Уайлда провалился, и последующая криминальная контракция закончилась его общественным позором и тюрьмой. Как бы это ни было трагично, падение Уайлда сигнифицировало о большем, нежели о просто карательных мерах, позорящих одного человека; его воздушные и часто раздражающе легкомысленные третирования потенциально закоснелых моральных догм сделали из его имени персонификацию художника «непослушных девяностых», и с этой точки зрения его детронификация может быть расценена как прямая атака на множество позиций и взглядов, общих для более широкого круга творческих лиц, атака, которая приведёт в итоге к смене культурной парадигмы.
Падение Уайлда можно расценить как первый симптом нарастающих изменений морального климата. Одновременно это может быть понято, как результат сил, уже находящихся в движении. Фактор, беспокоящий автора статьи в данной проблеме – растущее неодобрение либерального деятеля искусств научным сообществом, которое, как будет изложено ниже, имело склонность изображать его как нечто гораздо худшее, чем просто «мальчиш-плохиш».
Корни этой оппозиции лежат в далёком 1859 году, когда «Происхождение видов» Чарльза Дарвина провозгласило теорию естественного отбора, придавшую авторитета эволюционному учению. Работа Дарвина привела к постепенному торжеству эволюционной теории, в том числе сопутствующей ей идее о происхождении человека от неких обезьяноподобных предков. Но не бывает монеты об одной стороне: нога в ногу с теорией эволюции шагала её инверсия – теория дегенерации. По эволюционистам, человечество поднялось над животным царством и имеет шансы вскарабкаться ещё выше. Но есть ещё и опасность низвержения, эволюции, ведущий обратно к обезьянам, и тут-то и подразумевается энто самое слово, «вырождение». Выходит, дегенератами могут быть отдельные зарождающиеся подвиды, отличающиеся от остального нормального большинства.
Так же, как сама идея эволюции, идея дегенеративных атавизмов предшествует Дарвину, хотя она и приобрела значительную легитимность из его теории. Опираясь на её фундамент, социальные мыслители-дарвинисты привыкли видеть более успешные группы людей, которые определялись ими как расы или классы, как более продвинутые в эволюционном плане: так, например, зажиточные средние классы были признаны более развитыми, чем городская беднота, а европейцы в целом более продвинуты, чем «дикари». Криминология конца XIX-ого столетия в значительной степени опиралась на эти идеи: мысль, что преступник был эволюционным атавизмом, была досконально изучена и всесторонне задокументирована через экспериментальное наблюдение ведущим итальянским криминалистом Чезаре Ломброзо. Типичный преступник мог быть распознан, исходя из школы Ломброзо, по целому ряду говорящих внешних признаков, как то: асимметричные черты лица, низкая лобная доля, выступающие надбровные дуги и так далее. Это были очевидные, вопиющие дегенераты.
 |
Энная сумма энергии была брошена в топку мысли в ближайшие декады после выхода «Происхождения» на восстановление гордости человеческого рода путём открытий и провозглашений со всё большей дотошностью всё новых и новых различий между человеком и животным. Среди возрастающей армии дарвинистов имело широкое хождение мнение, гласящее, что наиболее фундаментальным различием между человеком и животным является человеческое нравственное чувство. Животные такового чувства не имеют; они попросту действуют в своих собственных интересах, но люди же способны и могут действовать альтруистически, во имя блага группа, а не эгоистической самости отдельно взятой особи. Люди во Христе понимали нравственное чувство, как и воображение, даром Бога, но многие учёные, подверженные эволюционной теории, подчёркивали, что это моральное чувство, самым очевидным внешним признаком коего являлась потребность человека в одобрении от других, было последним подарком Эволюции человеческому роду, и при любом дегенерационном катаклизме оно будет первым, чему суждено пропасть. Таким образом, могут существовать люди, не имеющие явных признаков низкой преступности, но, тем не менее, имеющие громадный криминальный потенциал, поскольку они напрочь лишены какого-либо морального чувства. Они были названы «высшими дегенератами» и их опасность для общества столь же заключалась в обширной сфере их способностей, сколь и в их способности маскировки под обычных мужчин и женчин.
В 1890-ых наблюдалась возрастающая пагубная тенденция наклеивать на многих, если не вообще на всех художников и писателей, ярлык принадлежности к этой опасной группе. В своей книге, «Человек гения», Ломброзо аргументирует, что нравственное чувство, хотя и являющееся определяющей характеристикой человека для отличения его от животного, может иметь сдерживающее влияние на креатифф. Лишённые морального чувства могут иметь то, что мы зовём сейчас психопатическими тенденциями, но через само отсутствие тормозящего механизма они могут быть наиболее оригинальными мыслителями своего поколения. Ломброзо утверждает эту связь между гениальностью и дегенеративностью, используя примеры, взятые им из научной и художественной культуры девятнадцатого столетия. Так, к примеру, под его критический скальпель попадает поэт Шарль Бодлер, которого он обвиняет в патологической психической нестабильности, навязчивой мании величия и «болезненных вкусах» в амурных делах. От этой книги остаётся привкус охоты на ведьм; как излишнее количество сосков было в своё время наглядным признаком служения дьяволу, так и в Век Разума не только физические симптомы, но движения ума и факторы поведения были привлечены к доказательствам демонической природы в медицинских терминах.
Ломброзо присвоил себе право судить Бодлера, как человека, в его привычках, его эмоциях, его интимных предпочтениях (к «уродливым и страшным бабищам»), но он не делает никакого суждения о его творчестве. Его самый преданный подован, Макс Нордау, медик-энтузиаст, но также и активный участник культурной жизни, в свою очередь не уклоняется от подобного секзорцизма. В его книге «Дегенерация», опубликованной в Англии-матушке в 1895 году, год падения Уайлда, он исследует не только черты характера его современников из числа богемы, как медицинские симптомы, но также и их работы в отдельности. Нордау обвинил современных ему художников и писателей – эстетов, трущобных реалистов, прерафаэлитов, французских импрессионистов и прочий сброд – ни много ни мало в вырождении и предоставил особенности их творчества как наглядные доказательства своей правоты. В центре современного искусства и изящной словесности он видел артистов, страдающих гиперактивностью, истероидностью, грёзоодержимостью, не владеющих логическим мышлением, структуризацией и пониманием тех или иных явлений. По его мнению, эти дегенеративные артисты неспособны к фокусированному, избирательному вниманию, что и приводит к экстатическим мистифицированным видениям, часто имеющим оттенок «болезненно-раздражающей» сексуальности, которая не может быть контролируема, как не может быть приостановлено кровоснабжение перевозбуждённых клеток головного мозга. Он также видел это «вырожденное» искусство как нечто, приближающееся к теории заговора. По его мнению, имела место быть договорённость между дегенератами из среды богемы и их поклонниками из числа вырождающейся публики, работающими сообща, чтобы обеспечить торжество своего рода культуры, которая будет почковать свои подобия, подрывая устои государственной нравственности.
Влиятельные труды Нордау репрезентируют широкий шлейф постдарвинистского взгляда на реальность и представляют авторитетное мнение в вопросе охоты на артистов-дегенератов. Таким образом, в 1895-ом не одним Уайлдом стало меньше после судебной инквизиции, но гонениям подвергались едва ли не все распущенно-ориентированные авангардисты. При ближайшем рассмотрении таких знаковых фикций, как «Доктор Джекил и мистер Хайд» Р.Л.Стивенсона (1884) и «Бракула» Грэма Стокера (1897) мы можем убедиться, что в те времена Европа была охвачена паническим хоррором перед зверем в костюме денди. Сам художник может быть идеально подогнан под роль, как и любой из его героев.
Теперь – к теме статьи. Артур Мэкен был писателем фантастического и оккультного жанра, чья карьера была отмечена этим драматическим сдвигом в литературном и не только климате 1895-ого; однако, не будь этого испытания, он не создал бы, пожалуй, своих лучших шедевров. Рождённый в 1863 году в семье деревенского викария, в славном Каэрлеоне-на-Аске, маленьком городке приграничного района Южного Уэльса, Гвента, Мэкен был учёным от природы, но его семья была слишком бедна, чтобы он мог последовать по стопам своего отче в Оксфорд. Заместо этого, он ещё в подростковом возрасте отправляется в Лондон-таун, официально – чтобы стать журналистом, но в действительности — чтобы жить жизнью, посвящённой литературе. В своих ранних сочинениях мятежный молодой человек отвергает сам язык своего времени, предпочитая вместо этого писать на архаическом, «фантастическом» наречии XVII-ого столетия. Затем, внезапно, в 1890 году, он бросает этот подход, перейдя на современный стиль повествования молодых модных прозаиков, язык Роберта Стивенсона и Конана-Дойла, и начинает кропать вполне себе колоритные истории, которые приносят ему некоторый успех.

Публикуясь у Джона Лэйна, в его пресловутой серии «Лейтмотивы» («Keynotes”), с дизайном обложек и иллюстрациями шокирующего общественность художника Обри Бёрдсли, работы Мэкена вливались мощной струёй в общее русло авангардной сцены первой половины 1890-ых. На первый взгляд, залогом их читабельности был игривый, но вместе с тем нормативно-любезный стиль его повествования и подход, с каким эти нарративы обрабатывались. Подобно шерлокианским похождениям почти современного ему Конана-Дойла, нить сюжета вежливо и равномерно развивается. Сюжеты начинаются практически always в уютной обстановке респектабельного Лондона, но по мере развития они приводят читателя к наиболее отдалённым краям человеческого сердца, городской социальной географии или тому и другому заодно. В ранних 1890-ых Мэкен придумал себе альтер-эго не хуже Холмса: им стал м-р Дайсон, прилежный исследователь человеческой природы, которого часто можно было обнаружить ужинающим со своими знакомцами в лучших ресторанах лондонского Уэст-Энда, но он же был глубоко искушён в познании наизлачнейших городских мест.
Тем не менее, Мэкен был куда более чётким представителем авангардного течения 1890-ых, чем тот же Дойль, не столько благодаря своей урбанизированности, сколько — местам его фиктивных приключений. В то время, как в кейсах Холмса мы каждый раз спасены от террора тотальной неизвестности, ибо в конце туннеля всегда есть разгадка тайны, финалы мэкеновской прозы менее успокоительны. Здесь мы встречаем тревожных, будоражащих божеств, тайные сообщества, женщин демонического происхождения, вещества, погружающие реципиента в пучину ведьмовских шабашей, запретные хирургические операции, которые могут поставить нас лицом к лицу с ужасом, который не так-то просто сдержать. Но то, что делает Мэкена настолько явным представителем авангарда своего времени, так это его манера описания сексуальных коллизий.
Приведём пару примеров. Во-первых, его новелла 1894-го, «Великий Бог Пан»: центральной фигурой является женщина, которую читателю предлагается лицезреть в амплуа воплощения Дьявола. В тексте устанавливается, что она, Хелен Воган, являет собой соблазнительную и беспорядочную в половых связях натуру, хотя мы и видим, что после встречи с ней состояние её любовников оставляет желать лучшего: они бледны, перепуганы до смерти, на грани суицида. Нам никогда не сообщается, что же именно происходит в спальне, но факты по делу функционально ставятся перед нами в таком порядке, что мы должны попробовать домыслить подробности самолично. Технический приём Мэкена заключается в том, чтобы скрыть всё, что возможно скрыть, но одновременно заставить читателя напрячь все свои мысленные усилия, чтобы увидеть общую экспозицию.
Второй пример: в шедеврально исполненной короткой вещице 1890-го года «Двойное Возвращение», женатый человек, бывший в длительном отъезде, возвращается в Лондон к своей жене и узнаёт от неё тот факт, что она уже считала его вернувшимся прошлой ночью. Мы можем выбрать, следует ли читать этот рассказ как фикцию сверхъестественного содержания, повествующую о преследовании доппельгангером, и история призывает нас видеть вещи таким образом, на примере того, что герой был убеждён, будто видел самого себя из поезда. Но если мы — зрелая публика, то, двигаясь по нити повествования, at once придём к пониманию, что самозванец, замаскированный под главного героя, провёл ночь с его незабвенной, хотя это и не выводится в тексте как данность. Супружеская чета потрясена своим открытием – и занавес опускается. Следует краткая аллюзия на «сущность беседы», которая происходит между ними, но эпилог просто сообщает нам, что жена скончалась, а муж её эмигрировал. История эта положительно стимулирует размышление по поводу того, что происходило в спальне, исходя из того, насколько сексуальные партнёры должны или могли бы быть в состоянии признать друг друга, хоть ничего из этого и не сформулировано в самом тексте. Опять же, Мэкен использует приём комбинирования крайней сдержанности с дюжими дозами сексуальной суггестии.
Этические тенденции, при которых процветали эти рассказы, действительно представляли собой весьма хрупкую вещь. Их удивительная сдержанность предполагает чувство стыдливости, которое постоянно пронизывает проблемы сексуальности, в то время, как навязчивый характер любопытства, к которому эти рассуждения приглашают, предполагает взрывной потенциал того, что сдерживается. Работы Мэкена образца начала 1890-ых, таким образом, как бы намекают самым прозрачным образом, что сексуальность имеет демоническую природу. Анализируя детали новелл, не мудрено прийти к подобному умозаключению. Зверь в человеческой форме, это постдарвинистское народное пугало, наглядно присутствует в примерах, изложенных выше: трикстер, провёдший ночь с чьей-то женой в «Двойном Возврате» как раз и есть то самое существо, раскидывающее своё семя вопреки нормам и правилам общества, восстающее против альтруизма, и демонстрирующее характерную ломброзовскую комбинацию таланта, аморальности и отсутствия заботы о других.

Другие мужские фигуры в трудах Мэкена охвачены по преимуществу столь же яростной аномальной чувственностью. Женщина-демон из «Великого Бога Пана» входит в мир через махинации учёного-садиста, который подвергает операции собственного изобретения молодую девушку-служанку, бывшую перед ним в долгу. Текст неискренне задерживается на презумпции её невинности, из-за которой она и соглашается к участию в нечестивой практике, «чувство покорности взяло над ней верх, сложив […] её руки на груди, будто юное дитя приуготовилось к молитве». В сопутствующей новелле, «Сокровенном Свете», зловещий доктор Блэк производит подобную операцию на собственной жене, чтобы удалить из неё душу. Мэкеновские работы этого периода изображают учёных как извращенцев, которые, истекая слюной садистской похоти, совершают акты морального и физического надругательства над симпатичными молодыми дивчинами. Тем не менее, есть здесь классическая амбивалентность: читателю предлагается осудить отвратительный садизм учёных-психопатов, но то, каким образом описаны сами сцены, позволяет невольному присяжному одновременно разделить и само преступное возбуждение от этих ужасных опытов. Как это часто бывает в нашей жизни, жестокий и осуждающий морализм существует бок о бок с тем, что он же сам и осуждает. Обвинения Макса Нордау в истерии легко найдут здесь достойное место.
Мэкен самолично к этому времени готов сыграть в опасные игры с концептом «художественное», освещая его потенциал для получения аморальных обертонов. Один из нарраторов мэкеновского мультиромана 1895-го года «Трое самозванцев» презентует себя читателю в роли «артиста» преступности. Притча, которая повествуется от его лица, «История Железной Девы», касается коллекционера орудий пыток, у которого весьма искушённый художественный (если здесь вообще уместно слово «художественный») вкус к своему делу. Он погибает при ужасном инциденте в соответствии с названием вставной новеллы: симптоматично, что садизм читателя призывается на службу для справедливого наказания этого коллекционера.
Художественная литература – это хрупкая платформа для инициации либеральных или этически-допустимых отношений. Когда мораль истории осуждает отвратительное или ужасное, читатели могут легко дезавуировать или же обратиться против неё. Писатель может попытаться сделать то же самое, утверждая, что сочинил свой текст только чтобы удовлетворить аппетиты почтенной публики, но с весьма малой долей вероятности его заверения примут всерьёз. В 1895-ом, Мэкен, возможно, был подвергнут анафеме просто благодаря своим знакомствам с авангардистами и в особенности с Уайлдом: его работы иллюстрировал сам Бёрдсли, известный по графике к «Саломее» последнего. Но эти коннотации не относятся к делу: работы Мэкена вполне заслуженно могли быть осуждены как нездоровые по их собственным достоинствам, что и имело место быть. Этот факт наглядно показывает, что моральный люфт поздних 90-ых XIX-го века был направлен не только на мужеложество, но и вообще на любых авторов, чьи тексты могли быть расценены как «развращающие».
Проза Мэкена в период 1890-95 гг. представляет собой однородную проблематику: всё здесь вежливо, захватывающе, богато амбивалентностью, истериогенно. В 1895-ом он приходит к выводу, что данная метода исчерпала себя, и начинает поиски чего-то нового. Нет чётких доказательств, что Мэкен когда-либо читал Нордау, но текст, который был им придуман, «Холм Грёз», часто считающийся его лучшей работой, словно бы создан в ответ на обвинения немецкого психиатра. «Холм Грёз», возможно, написанный для защиты, намного менее истеричен, чем те же работы Мэкена 1890-ых, и, кроме всего прочего, прошёл долгий путь к принятию перспективы своего научного оппонента. Это особенно удивительно, когда, памятуя о ненависти Мэкена к учёным, находишь хвалебные речи в их честь в позднем его творчестве.
Герой романа – молодой писатель Луциан Тэйлор, который, не в состоянии взаимодействовать с окружающей средой, в конце концов терпит неудачу и умирает. Мэкен не был единственным автором своего времени, кто развивал тему художника, не могущего добиться признания. Повесть Джорджа Гиссинга 1891-го года, «Нью-Граб Стрит», изображает двух вполне подходящих под данный критерий персон, молодых новеллистов Эдвина Риардона и Джона Биффена, обоих заканчивающих жизнь подобно Луциану; однако, мы не можем быть до конца уверенными, что Гиссинг возлагает вину за этих потерянных душ на равнодушный мир, а не на недостатки самих писателей. «Холм Грёз» же приближается к этой точке зрения с богатым багажом двусмысленности.
Постепенно выясняется, что Луциан является дегенератом. В начале романа, в обжигающе знойный летний день, он взбирается на одноимённый холм, засыпает или впадает там в транс и к нему нисходит видение богини, которое мы в силу нашей фрэйдистской шовинистичности можем трактовать как эротическую фантазию. Часть Луциана, которая отвечает на призыв эротической богини воображения, представляется читателю образом фавна, получеловека, полукозла, целиком сексуализированное божество рощ и лесов греко-римских времён. Этот фавн является, во всяком случае поначалу, не вполне сознательной частью Луциана, но как живой потенциал внутри него, как Хайд внутри Джекила. Но вот что важно: фавн, что скрыто обитает внутри юноши, есть эссенция имаджинативной творческой силы Луциана. Хотя эта метафора гораздо более симпатично описывает художественный гений, чем что-либо в сочинениях Нордау, сами идеи последнего, без сомнения, приняты к сведению: Луциан – писатель в силу того, что нечто атавистическое, какие-то пережитки древнего мышления цветут и пахнут в нём. Альтер-эго фавна компрометирует юношу, решительно настаивая на переходе Луциана в его собственный мир грёз, а не на обратной тенденции – растворении себя в личности молодого человека. Если нам нужно нацепить на это дело какой-то ярлык, то мы можем сказать, что Луциан – явный шизоид, но та неуловимая тонкость, с которой «Холм Грёз» играет с читателем, позволяет наметить две не вполне конфликтующие, но и не целиком сопоставимые рельности, становящиеся непримиримыми только лишь к концу романа. Луциан, конечно же, сходит с ума, но есть длинные пассажи в повествовании, через которые мы можем и скорее всего будем следовать за ним в его безумии, хотя бы только потому, что его безумие – это искусство.
Художник есть мечтатель. Даже прежде, чем он перебирается в Лондон, который в конечном итоге сокрушит его, Луциан обитает в мире фавна, буквально видя вокруг себя заряженные эротизмом и морально нездоровые красоты римского Каэрмаэна, в отличии от прозаической провинциальности, доступной другим. Эти видения – продукты воображения, и они-то и делают его художником, хотя они же и заставляют его жить за пределами навигации социальной системы координат. Когда Луциан, движимый своей писательской судьбой, едет в Лондон, он не менее преследуем видением фавна. Ибо фавн имеет власть видеть свой мир, а не ту цивилизацию, что зрима простым смертным; чрезмерная реакция женщины, удивлённой его появлением из тумана, приводит его к мысли о «запечатлённом на его лбу стигмате зла», а её крик кажется ему «ночным Саббатом». И далее появляются моменты, когда Лондон преображается в «один серый храм ужасного культа, кольцо в кольце заколдованных камней, сконцентрированных вокруг некоего лобного места, каждый круг – инициация, каждая инициация – вечная потеря.»

Прошлое – это не только объективная история, оно также спит в форме памяти и потенциала в личности, доступное через воображение. Фавн является возвратом к языческим римским временам, прежде чем эволюция нравственного чувства привела к христианству и была им продолжена.
Направленное на другой фокус зрения, видение фавна, которое мы можем более прозаично понимать как компульсивное и противоречивое воображение молодого человека пуританского воспитания, связано с сексуальностью, и именно оно разрушает его. В заключительных главах романа он становится любовником современной гетеры, но деликатная натура юноши, что не связана с фавном, не может вынести реальности этого, и склоняется к тому, что мы называем «разводом». Таким образом, в конце романа Луциан действительно разделяется надвое: фавн, который, как и мистер Хайд, всегда пребывает в режиме готовности, приводит Луциана в своё жилище, и молодой писатель выбирает безумие и смерть, только бы не видеть этого.
Луциан в точном смысле аристотелевского понятия является трагическим героем. Ему нельзя не симпатизировать, но вместе с тем нельзя и не понимать его нежизнеспособность. Некоторые утверждали, что, напротив, он весьма сходен с героями Гессинга – благородный, священный дух, запертый в ловушке отвратительного падшего мира, но такая точка зрения не слишком убедительна. В конце романа мы имеем возможность взглянуть на Луциана как бы извне, понимая, что многое из того, что он не сделал – его вина. Но лучшим свидетельством, претендующим на мысль, что Луциан может рассматриваться в качестве чемпиона непосредственного эстетизма, аватары, живущей в мечтах, будет сравнение жизни вымышленного героя с жизнью его создателя, самого Мэкена.
При сравнении быстро выясняется, что Луциан является проекцией его собственной несостоявшейся линии развития, которую автор предпочел не продолжать. Раннее сходство между биографиями писателя и персонажа значительно: оба родились в Уэльсе в семье священника, оба наделены научным темпераментом, оба не способны посещать университет, оба, получив небольшое наследство, переезжают в Лондон, в поисках литературы. Здесь сходство заканчивается: Мэкен желает признания и добивается его, Луциан же терпит крах.
Вполне возможно, что дальнейшее уточнение эволюционной теории побудило Мэкена написать текст в таком виде. В эволюционной теории успех является самоцелью и самооправданием: когда белый человек вторгался в новые земли, а их примитивные аборигены вымирали (очевидно, имеется в вдиу эпоха Великих Географических Открытий), это просто явилось естественным законом очистки природы от всего непригодного для Великой Арены Жизни. Луциана можно оплакивать, но сам его создатель, тем не менее, выживает и к концу 1890-ых имеет имя, жену и положение в обществе.
Мы не можем точно узнать, как Артур Мэкен понимал или оценивал своё собственное предотвращение судьбы Луциана. Видел ли он причину этого в коренной разнице между собой и своим героем, или же она проистекала только из разных степеней восприимчивости? Смыслил ли Мэкен себя проклятым из-за мест, которые посешало его воображение? Издателям, конечно же, всё было понятно. Хотя можно привести веские аргументы в защиту позиции, что книга посвящена художнику-дегенерату, а не есть сама по себе образец дегенеративного искусства, к моменту завершения рукописи, в 1897-ом, не нашлось не единого издателя. Вероятно, к тому времени только полностью отрицательный портрет подобного артиста мог бы встретить благосклонность публики. Отказы длились вплоть до 1904-го года, когда волна негативной реакции в известной мере схлынула, и редактор журнала, друг Мэкена, осмелился опубликовать усечённый вариант, а позже, в 1907-ом году, наконец-таки, полная авторская версия «Холма» была издана отдельной книгой.
После критического шторма 1895-го года выжили только сильнейшие эстеты, и то лишь путём адаптации. Клуб Рифмачей был распущен: его минорные поэты закончили свои пути преждевременной смертью или же пригородным алкоголизмом, в то же время как клубный гигант, Уильям Батлер Йитс, совершил полный пересмотр ценностей и превратил себя в кого-то совершенного другого. Декадентские периодические издания, сначала «Жёлтая Книга», а за ней – «Савой», отцвели и кончились. Мэкен оставался художником эстетской выразительности, хотя его стиль изменился на корню, сообразуясь с угрозой, об которую разбились многие его сподвижники. В период с 1895 по 1899, вместе с «Холмом», он писал и другие тексты, которые в не меньшей мере, чем все прочие вещи, созданные до 95-ого, могут быть названы декадентским, эстетическим, вызывающим ужас своим откровенным эротизмом искусством. Но существуют свидетельства, что Мэкен ощущал себя обладателем проблемного имаджинария – постепенно он отворачивался от того, что мы зовём паганским вирдом, из которого росли цветы зла, и заместо этого развивал нечто более «здорово-духовное», приемлимое для более широкого, если не сказать – менее возбудимого круга читателей.
Так, к примеру, весьма скоро после «Холма Грёз» он написал «Фрагмент Жизни», повесть, в которой женатый семьянин мещанского происхождения (схожий с м-ром Киппом Герберта Уэллса или г-ном Полли) находит свою истинную духовную судьбу в мистическом поклонении своим предкам и валлийским долинам. Это фикция, которая имеет определённую силу, но она проигрывает по части богатой неоднозначности и сложности видений тому же «Холму». На рубеже веков и последующих за ним лет Мэкен был одним из многих правщиков и компоновщиков своих собственных ранних колоритных черновиков, пока он не сосредоточился всецело на мистицизме, который стал новым лозунгом наступивших 00-ых XX-ого столетия.
Мэкен собственной персоной, как и многие покаявшиеся эстеты, возвращался к своим прежним побуждениям, становясь всё более заинтересованным в религии. И вот он уже облачается в стихарь первосвященника Древней Кельтской Церкви, религиозной веры своих предков, а также с головой занят пробуждением потенциала духовного возрождения в сердце материализма. В этой точке колесо описывает полный круг: опальный и получивший грозное предзнаменование артист обращается к своему прежнему пре-эстетскому богословию. Это может показаться чем-то вроде победы научной культуры, которая неуклонно набирала вес, начиная с середины XIX-ого века: наука идентифицировала себя с голосом моральной ортодоксии, бросила вызов эстетам от искусства и загнала тех в тупик. Но это не была окончательная победа учёных. Мистицизм, который приняли оставшиеся в живых адепты эстетства, был одним из аспектов свергнутого декадентства, разгромленного Нордау и компанией. Но пост-эстеты уже не так боялись гнева учёного сообщества, имея под рукой кельтский крест.
---
Сага о Великом противостоянии Поэтов и Учёных (Вставная новелла)
– Стремление или.. мм.. скажем, тяготение к одному виду искусства должно быть обусловлено тем, что у человека-поэта флюидный восприниматор (иначе – мозг) настраивается на принятие определённых цветоволн из спектра Воображения. Сила или самосущная потенциальность, названная Воображением, неделима и едина в своём высшем пра-принципе, насколько это можно себе представить вам на данном этапе вашей осознанности. Дифференциации подвергается она, лишь приходя в наш, изначально разобщённый и разграниченный мир следствий. Мы – единственные виновники того, что в большинстве своём неспособны своим конечным сознанием ухватить целиком всю панораму спектра Воображения, хотя и интуитивно чувствуем Его Неделимость. Проблема не в объекте – проблема в субъекте познания.
А вот, как вам уже должно быть известно из курса альтернативной истории, красочная иллюстрация моих мыслей: блистательные гении Ренессанса, древние иерофанты Египта, вдохновенные пророки Серебристой Эпохи русской мысли, все до единого, настраивались на принятие всего диапазона частот Творчества – и это наделяло их души поистине безграничным могуществом Созидания!
Звучный, певучий и приятный, как добрая улыбка преданного друга, глас сквозил сквозь благоуханную рощу Западных Соловьиных Трелей, которая с наступлением сумерек одевалась в таинственно мерцающую тёмным сапфирным цветом материю Гипноса.
Здесь, в этой дивной роще, находилась замечательная в своём роде Академия Девяти Муз, где духовные сущности, пришедшие в мир сей Поэтами, готовыми со-творить Джахове (в противоположность разрушающим всё вокруг и себя включительно Учёным а.к.а. Школарам) развивали свои естественные от Природы навыки, тренируя свои примитив (нефеш), императив (нешаму) и связующее между ними или медиум (руах). К сожалению, Школары пришли к убеждению, выявив Поэтов и классифицировав их в своих Циклопопедиях, что эта разновидность людей, одарённая чем-то недоступным их логическому пониманию и потому заведомо опасная и непредсказуемая, является их, Школаров, основным оппонентом и соперником по видовому признаку. “Что не похоже на нас – то подлежит немедленному опытному наблюдению и обязательной дальнейшей нейтрализации.” – вывели Архетипичные старейшины Учёных ультиматум, следуя священной букве чистого учения о Естественном Отборе.
Сначала Школары отлавливали отдельных особей подвида Homo Poeticus и исследовали, подвергая жертв его превосходительству несокрушимому СверхПсихоФизАнализу. Слаботелые Поэты редко выживали после бесчеловечных опытов. Главным пунктом в изучении враждебных биологических существ у Школаров стояло следующее: “Открытие любой ценой истинной природы самобытности поэта как вида”. Для этого резонно было поставить перед своим пытливым умом меньшие задачи: “Выявление опытным путём мыслительных процессов поэта” и “Нахождение причины коренного различия поэта и учёного”. Разрешившись от бремени этой поистине великой тайны тайн, Школары уже могли претендовать на Знание всех законов этой бесконечно изменчивой Вселенной и на понимание, наконец, собственного бытия в ней. Пока же их собственное бытиё исчерпывалось представлением о себе, как о случайном сцеплении химических элементов, одаренном некой абстрактной категорией – интеллектом, заключённом в мозгу – и постоянно изменяющимся в своих биологических и психических свойствах в пространственной и временной прогрессиях под давлением внешних, опять же случайных, факторов. Большего Учёным не было дано осмыслить.
Таковы были первоочередные вопросы, которые должны были попадать с дерева Тайной науки, как зрелые груши, прямо в раскрытые зева Учёных, дабы они насытились Гнозисом.
Но сенсации не произошло. Даже первый малый пункт, о выявлении мыслительных процессов, осуществить никак не удавалось. Поэтопленные внушали самоуверенным халатникам и пробирникам какие-то тёмные мысли о невозможности ответа на подобные запросы Интеллекта (они называли его Руахом и Ка) ввиду несовершенства самого познающего Аппарата, заводящего в тупик самого себя тернистыми тропами Алмазной Логики. Школаров самозабвенные речи Поэтов только бесили пуще прежнего, и они утраивали муки подопытных.
Но вот Поэты, почувствовав умом-сердцем-душой непримиримую враждебность давящего на них со всех сторон континента Дедукции и Апостериория, решили покинуть общую для обеих сторон Цивилизацию и своих заблудших братьев, живущих по однобокому принципу Yin, иначе “Разделяй и властвуй”. Люди Духа собрали свои нехитрые пожитки: лиры, флейты, кисти, краски, книги, чаши и мистерии – и уплыли на мифических крылатых кораблях-скарабеях на затерянный в мировых водах остров. У него было много имён, но более всего шло ему именоваться островом Авалон, он же Нефритовая Земля.
Жрецы Бога из Машины, апологеты Технократии направили все свои изощрённые помыслы на создание идеального средства для тотального и беспощадного удаления “поэтического нарыва” с лица Планеты…
Конец ли?
Людвиг Бозлофф-Эрдлунг