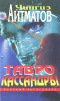Чингиз Айтматов «Буранный полустанок»
- Жанры/поджанры: Фантастика (Планетарная фантастика ) | Сказка/Притча | Реализм
- Общие характеристики: Философское | Психологическое | Социальное | С использованием мифологии (Арабской ) | Производственное
- Место действия: Наш мир (Земля) (Россия/СССР/Русь | Азия (Центральная Азия )) | Вне Земли (На орбите Земли | Ненайденные (вымышленные) планеты | Открытый космос )
- Время действия: 20 век
- Сюжетные ходы: Становление/взросление героя | Контакт | Конфликт отцов и детей
- Линейность сюжета: Параллельный
- Возраст читателя: Любой
Проникновенная история жизни Буранного Едигея, тесно связанная с судьбами жителей буранного полустанка в Сарозекских степях. Герои становятся свидетелями не только следования поездов с запада на восток и с востока на запад, но и космических полётов, крушения системы тоталитаризма, а также её последствий на конкретных людях. Рядом с освоением космоса живут легенды о Чингисхане, кладбище Ана-Бейит, загадочной птице Доненбай. И только следование традициям, передача опыта от стариков молодым может удержать всё это вместе.
Содержание цикла:
|
||||
|
||||
|
- /языки:
- русский (54), английский (1), словацкий (1)
- /тип:
- книги (53), периодика (2), аудиокниги (1)
- /перевод:
- Е. Кришкова (1), Г. Уиттакер (1)
Периодика:
Аудиокниги:
Издания на иностранных языках:
Отзывы читателей
Рейтинг отзыва
![]() Стронций 88, 7 октября 2019 г.
Стронций 88, 7 октября 2019 г.
Как известно, запоминается последняя фраза. А последняя фраза этого цикла не просто испоганила мне его, но и отвернула от самого автора, которого я, не много не мало, боготворил…
А ведь не будь этого… «этюда вольной философии»… Ведь заглавный роман – это было то, за что я уважаю и люблю (увы – любил) Айтматова – вся тягостная мощь жизни с её несправедливостью, с мелкими щемящими душу радостями, с её неоднозначностью и изгибами. И всё это – помноженное на философскую величину вставок-легенд, от которых всё приобретало высоту вечного, важность вечного… Да, было и то, что не позволяло мне поставить роман выше повестей автора. Мне, например, казалось, что он в чем-то повторяет структуру хотя бы той же повести «Прощай, Гульсары!». Да и некоторые вставки в романе не так уж пришлись мне по душе – та же «Песнь о любви» своими повторами и пафосом; а «Программа «Демиург» так и вовсе выглядела для меня неживым чужеродным элементом, и даже мысль возникала: может так автор пытается сказать, что фантастика это такой вот мёртвый, неживой жанр (что меня, как любителя фантастики, не могло не огорчать)? Но всё равно, для меня это был роман достойный той славы, что он имел. «Зацепивший» меня своей жизненной сложностью и драматичностью, «зацепивший» мощной философской глубиной. И герои его были для меня как живыми – я за них радовался, я по ним горевал.
Я прекрасно понимаю, что такие вещи не проходят бесследно и для самого автора, что они живут в нём долго, требуют продолжения. И потому появление «Белого облака Чингисхана» было неизбежным. Не столько повесть, сколько следующая глава (так что, не читая первый роман, понять её было, конечно же, можно – но понимание было бы неполным), она окончательно вывела – главный герой цикла всё-таки не Буранный Едигей, а появившийся ближе к середине романа Абуталип Куттыбаев. Через него в романе проведена его главная линия – о силе родства и силе народных корней. И его дальнейшая судьба – главная в повести. Читать это было конечно страшно, однако, по-моему, оставаясь за скобками в романе, она казалась ещё страшнее – через полную неизвестность, через тревогу и страдания близких ему людей. А ещё, подчиняясь и структуре романа и его философской глубине – в центре его легенда о белом облаке Чингисхана, о его походе к «последнему морю» и его поступке против жизни, которую невозможно остановить по велению одного человека. Да, это всё тоже очень сильно. Впрочем, уже тогда у меня легкий осадок возник, ведь было кристально ясно, на что намекает автор, с чем он сравнивает историю о Белом облаке, но тут же – странное дело, да, он принимает бесчеловечный закон, устраивает жуткую казнь, боги отворачиваются от него, но при этом Чингисхан всё равно остаётся «народным героем». В отличие от известного на лица, конечно же. В чём дело? Может быть, просто по тому, что Чингисхан для автора – «свой»?
Ну а дальше, спустя восемнадцать лет, появилось и «Перепоручение Богу» ¬– для меня камень в ботинке этого цикла; кирпич, что прилетел мне в душу и разбил всю мою любовь к Айтматову. К чему появился этот «Этюд вольной философии»? Понять его отдельно от предыдущих произведений цикла ещё труднее чем «Белое облако Чингисхана», оттого отдельно он смотрится эдаким огрызком. Начало очень патетическое, но потом всё перешло во вполне себе приятную философию, к мысли об ответственности человека перед природой, перед всем живым и сущим, ответственности разума (разума человека) перед материей (это автор и назвал «Перепоручением Богу»). Но дальше всё стало уходить в политики – НКВД, безбожность советской власти… Я и это приемлю, всё-таки, много было такого, что заслужило таких слов… Но самый конец – сказать, что Сталин развязал войну вместе с Гитлером! Да потом и прибавить ¬– не Гитлер, а Сталин главный душегуб!.. Вы знаете, я не питаю особой любви к Сталину, но это уже нечто большее, это то самое пресловутое искажение истории, в след которой пойдёт и то, что Россия напала на Германию и всю Европу (хотя почему «пойдёт»? уже! – ведь тут же сказано, что они на пару войну спровоцировали, значит это Сталин напал на Европу!), что она понастроила газовых камер и устроила холокост… Это вот самое заявление, от которого на душе рождается ярость – от его наглой несправедливости (действительно вот за Державу обидно!). А к человеку, сказавшему такое – стойкое отвращение.
Вот этот «Этюд вольной философии» – последнее слово, плюнувшее в душу и под корень срубившее и всё отношение к циклу, и всю любовь к Чингизу Айтматову.
![]() sam952, 27 июля 2018 г.
sam952, 27 июля 2018 г.
ЧИНГИЗУ АЙТМАТОВУ
Сегодня наш буранный полустанок
Порошей белой-белой замело,
И стаи нашей маленькой подранок,
Упал на перебитое крыло.
Великий мой земляк, то жизни плаха,
Где ты стоял, отбрасывая тень,
Стоит палач, на нем красна рубаха
И дольше века длится его день.
Как пегий пес, бегущий краем моря,
Уходит жизнь, седыми сделав нас,
В краю, где горы падают от горя,
Где солнце щурит свой верблюжий глаз.
Ветра подуют яростней, сильнее,
И ночью убивая нас, и днем,
На Материнском поле нас посеяв
Мы тополями к небу прорастем.
(Тимофей Черкас)
![]() Anastasia2012, 1 декабря 2011 г.
Anastasia2012, 1 декабря 2011 г.
Замечательная история Буранного Едигея, его друга Казангапа, их семей и людей, случайно или нет живших рядом с ними. Жизненный опыт, приобретённый героями сквозь войны, крушения политических систем и каждодневные заботы, предстаёт в один день на пути к древнему кладбищу. Всё становится родственным: люди, животные, космические корабли. Легенды, вплетённые в роман, делают его колоритным, глубинным, связанным со стародавними временами. При этом в то же время смелые космонавты вступают в контакт с внеземной цивилизацией. Много грутсного и нежного, смешного и трагичного, реального и фантастического. Но течение жизни не изменить: вечны рождение и смерть, а остальное — бусины, нанизанные на нить жизни. Хлипкой она оказалась у Абуталипа Куттыбаева, но и у его палача не крепче. А вот Буранный Едигей и его верный наставник и друг много вынесли, до старости дожили.
Однако одна мысль автора не идёт у меня из головы после прочтения: «Нет больше таких Казангапов.»