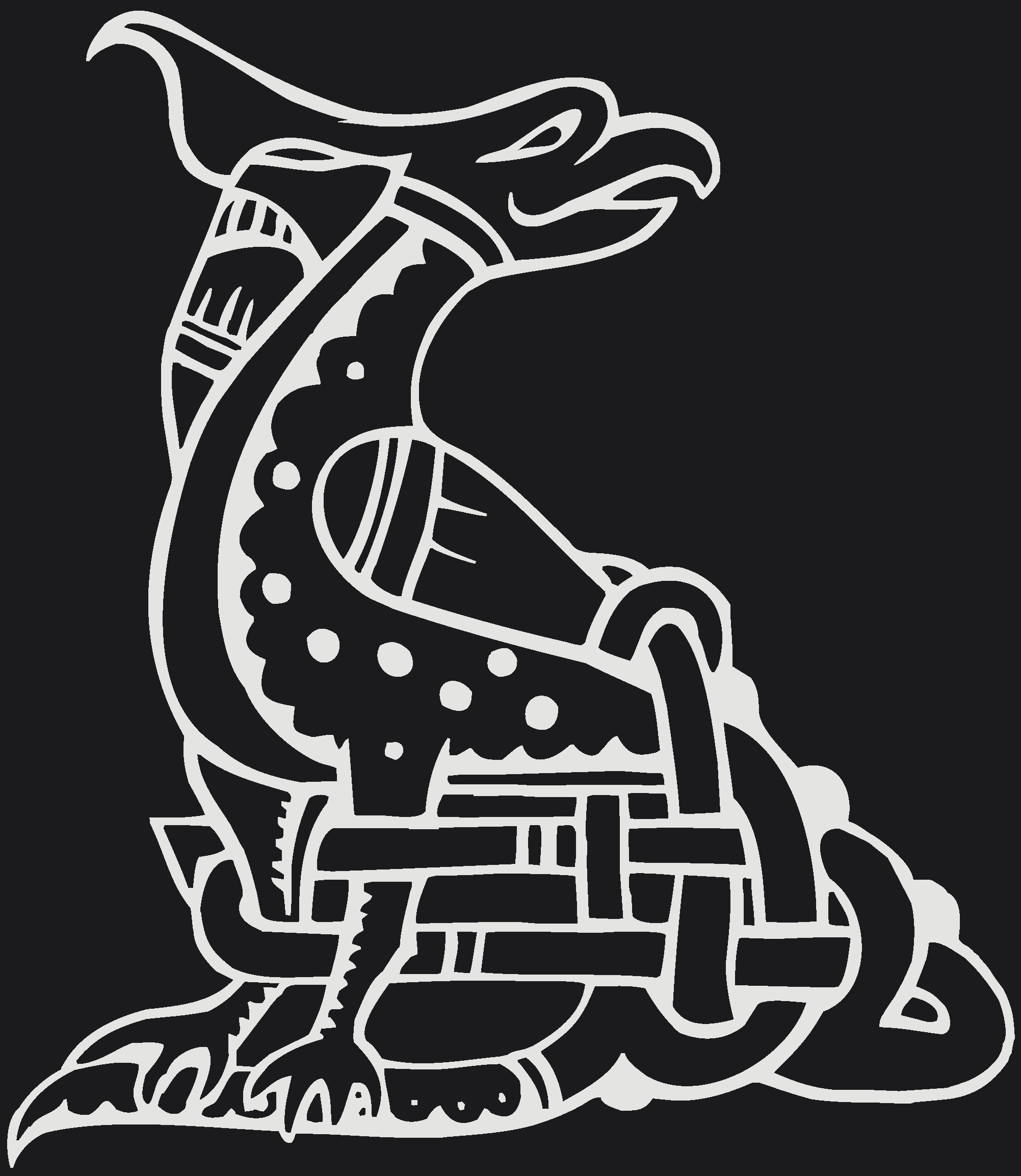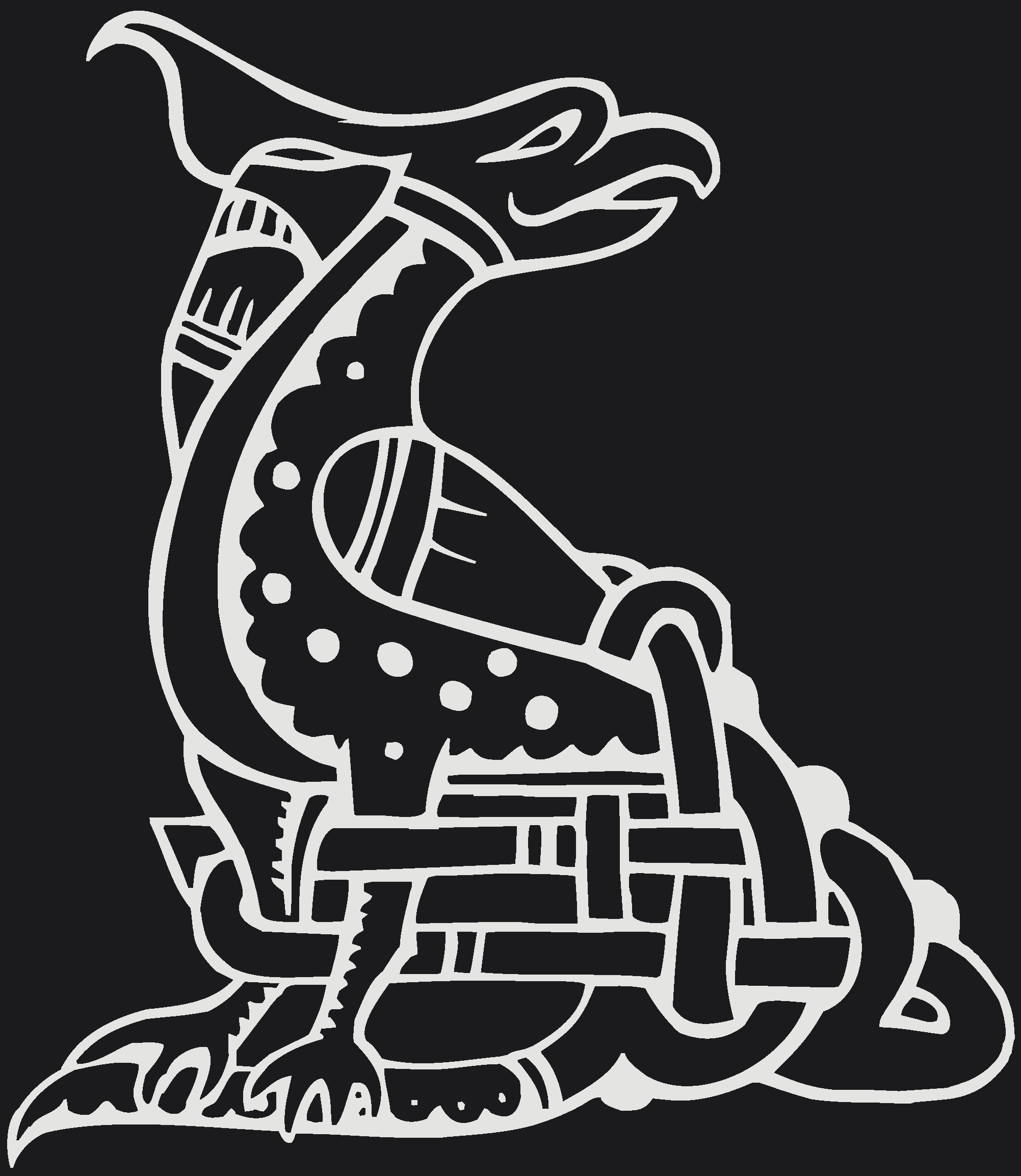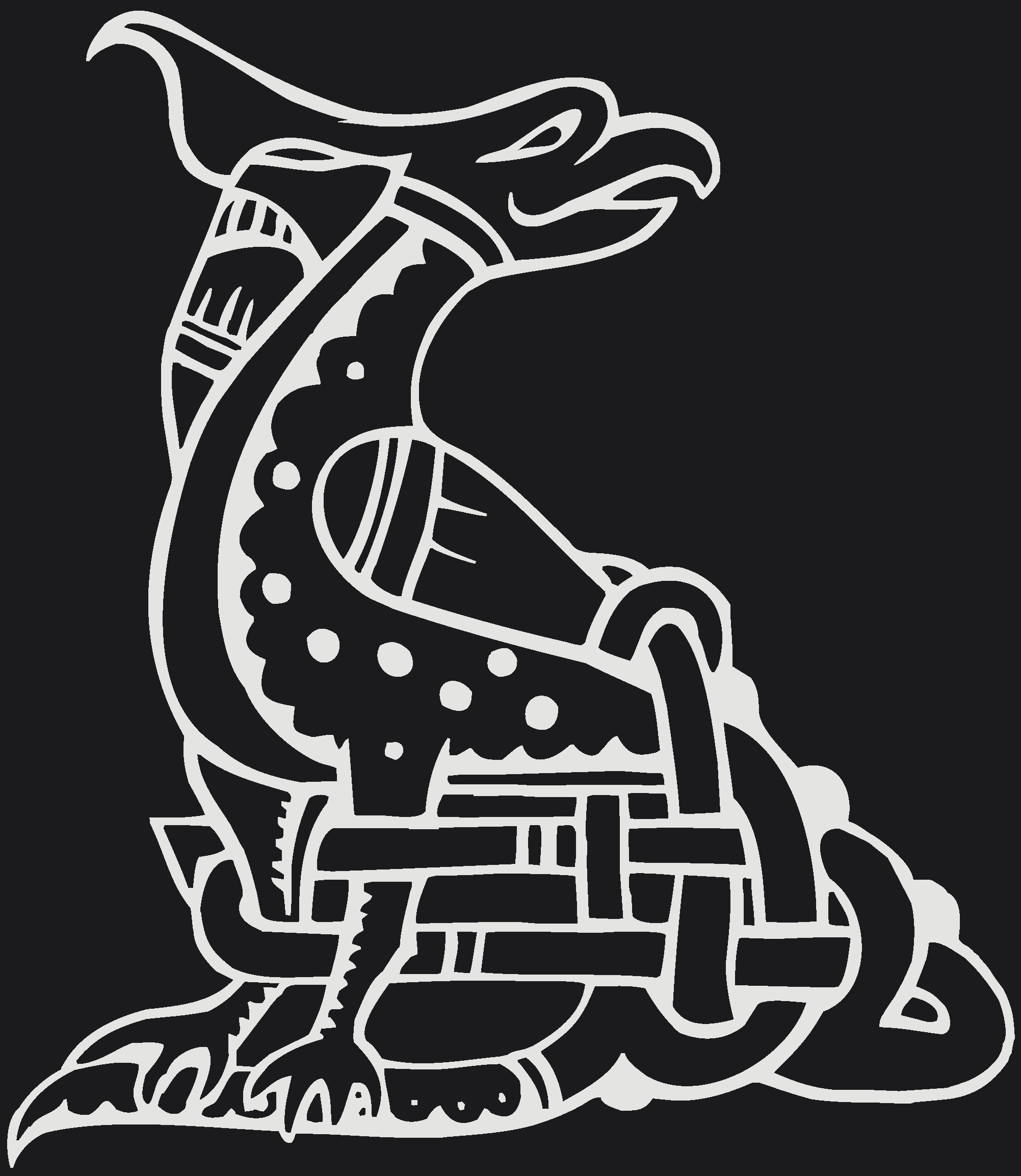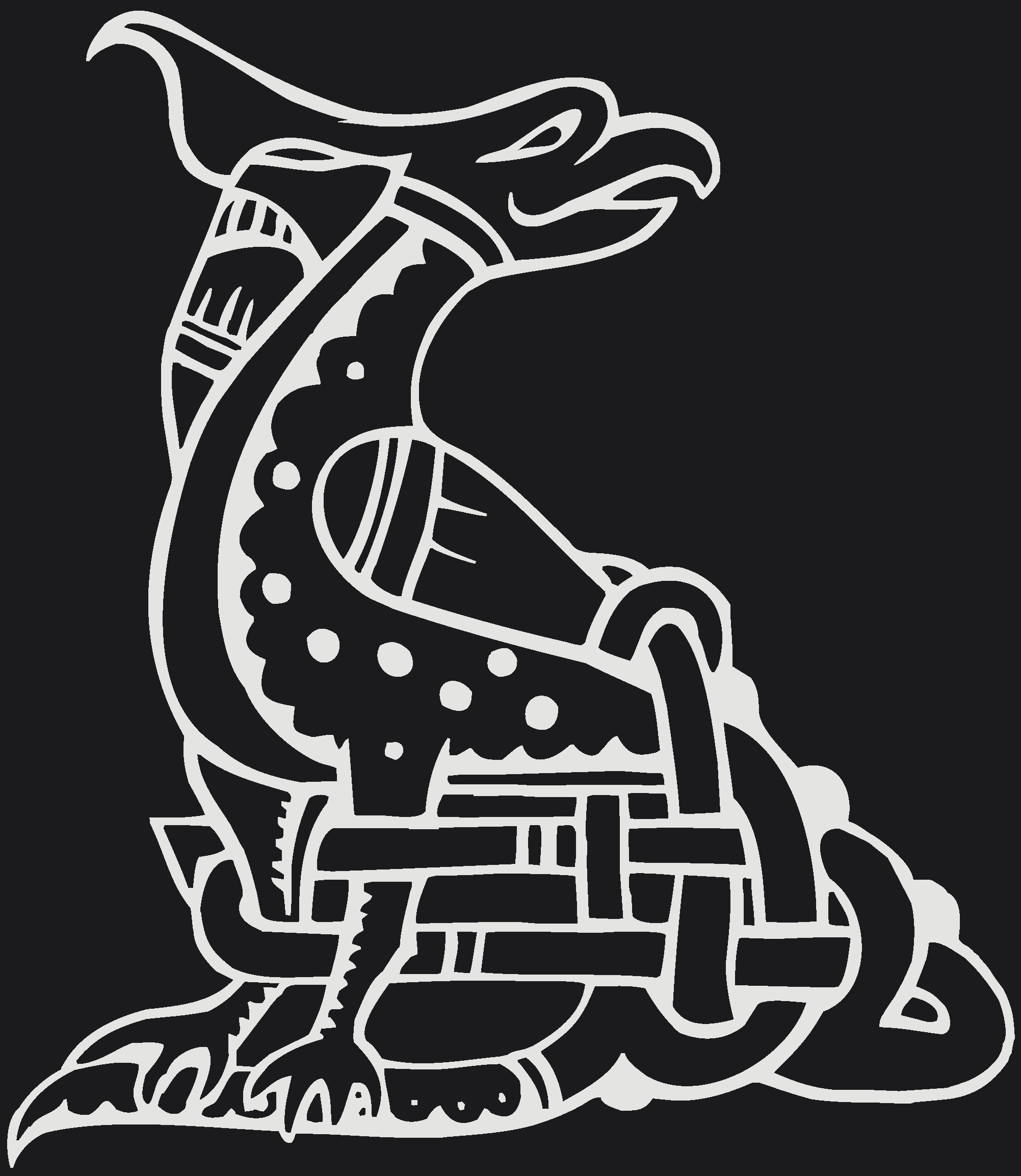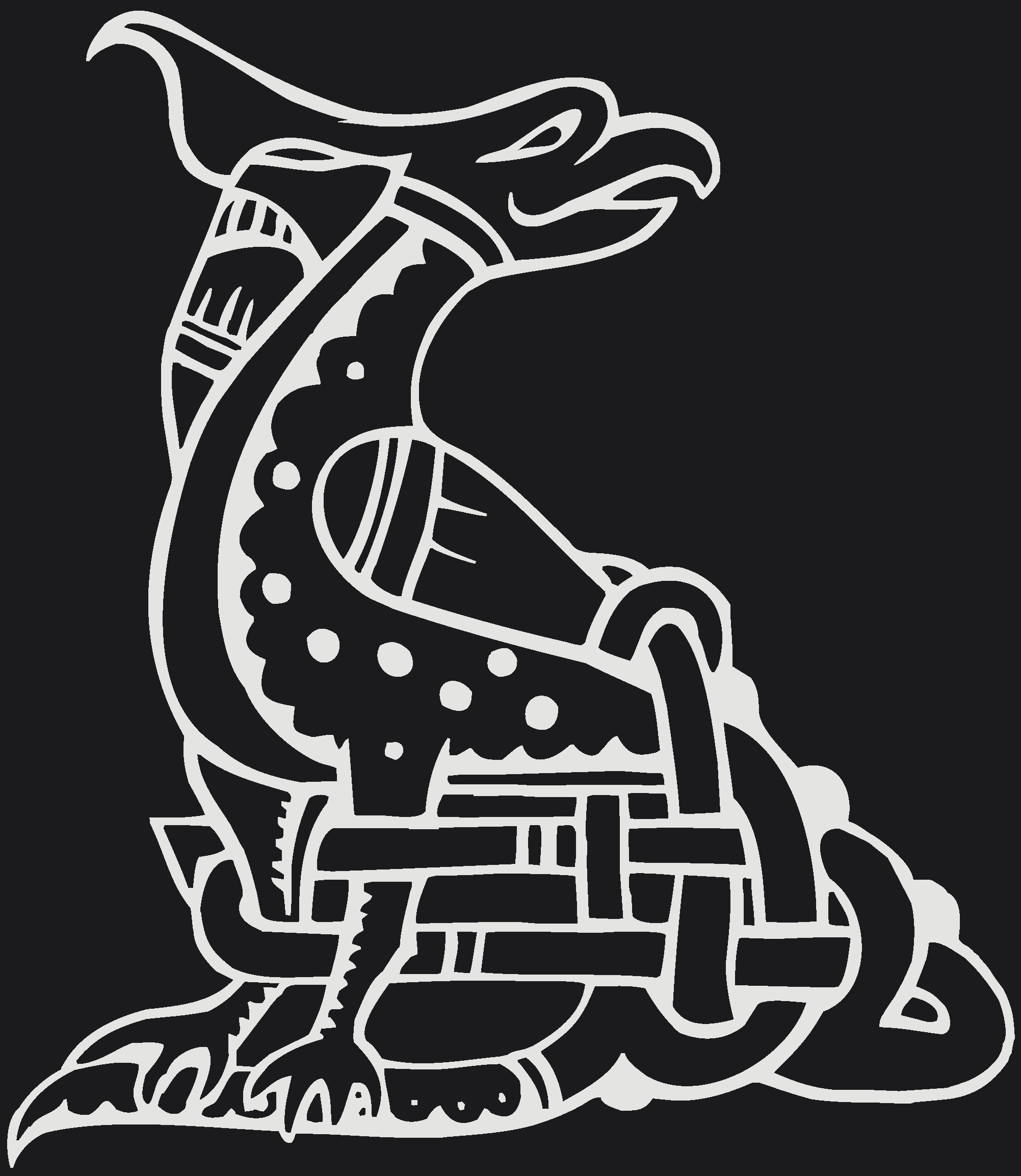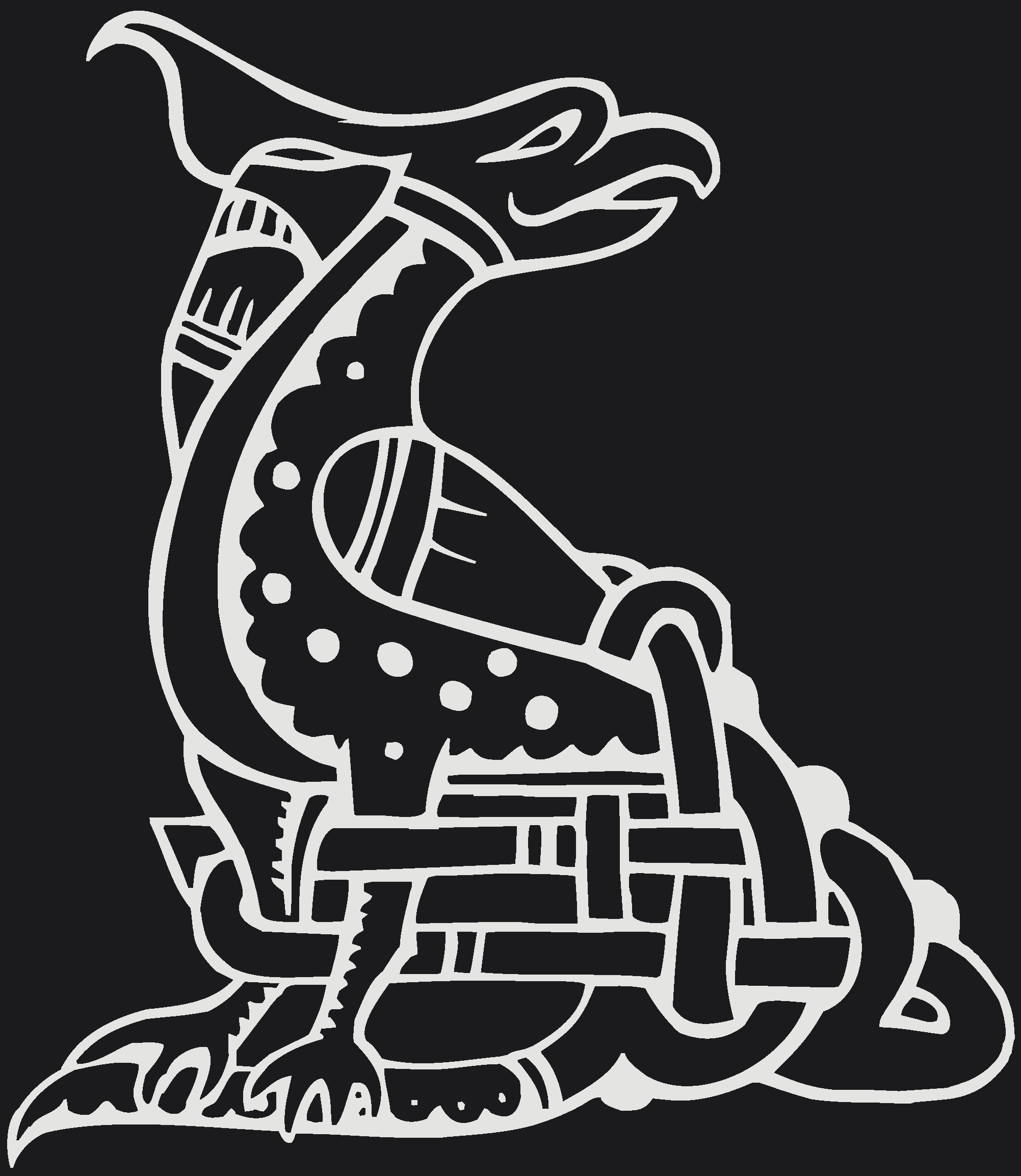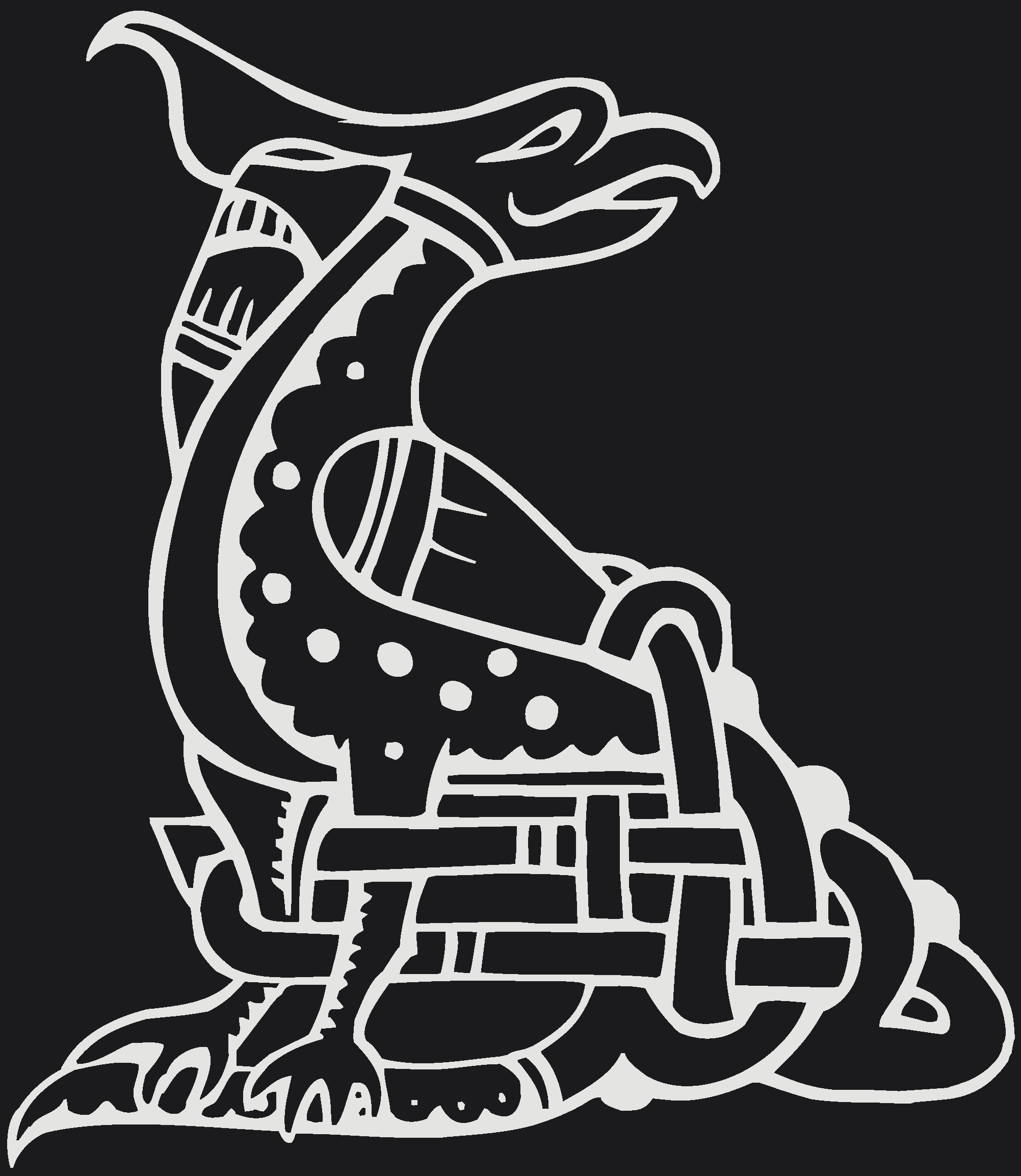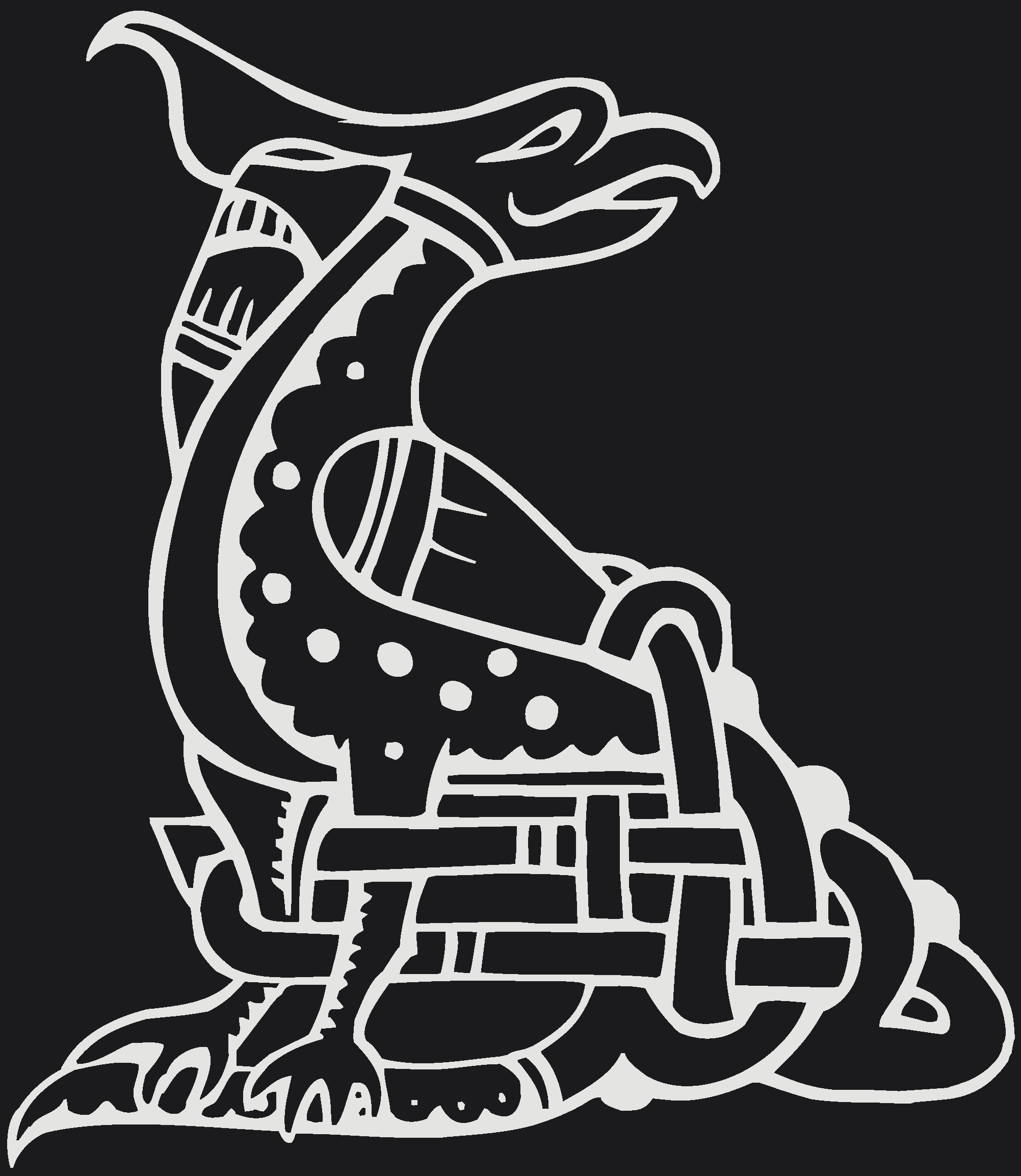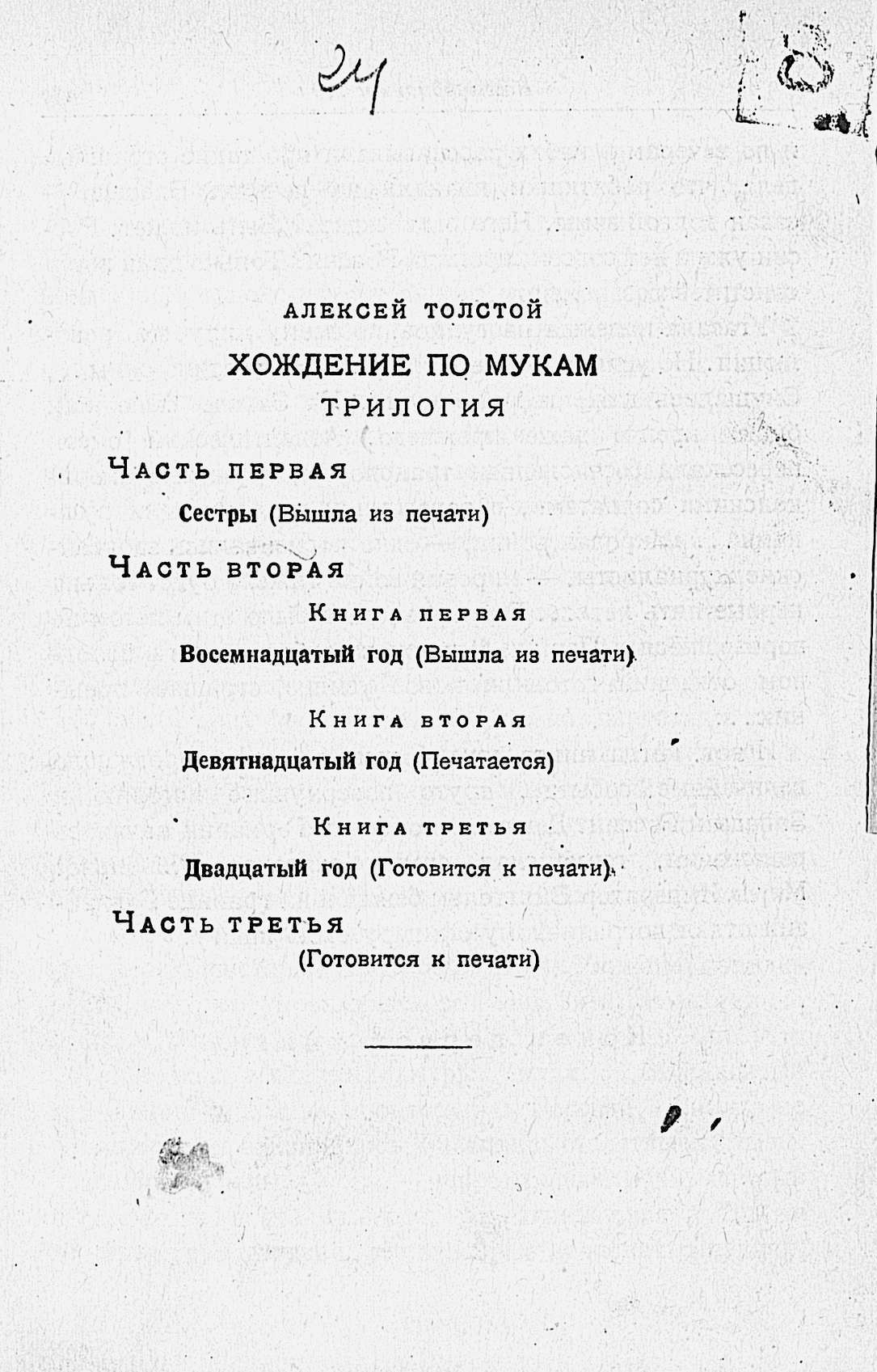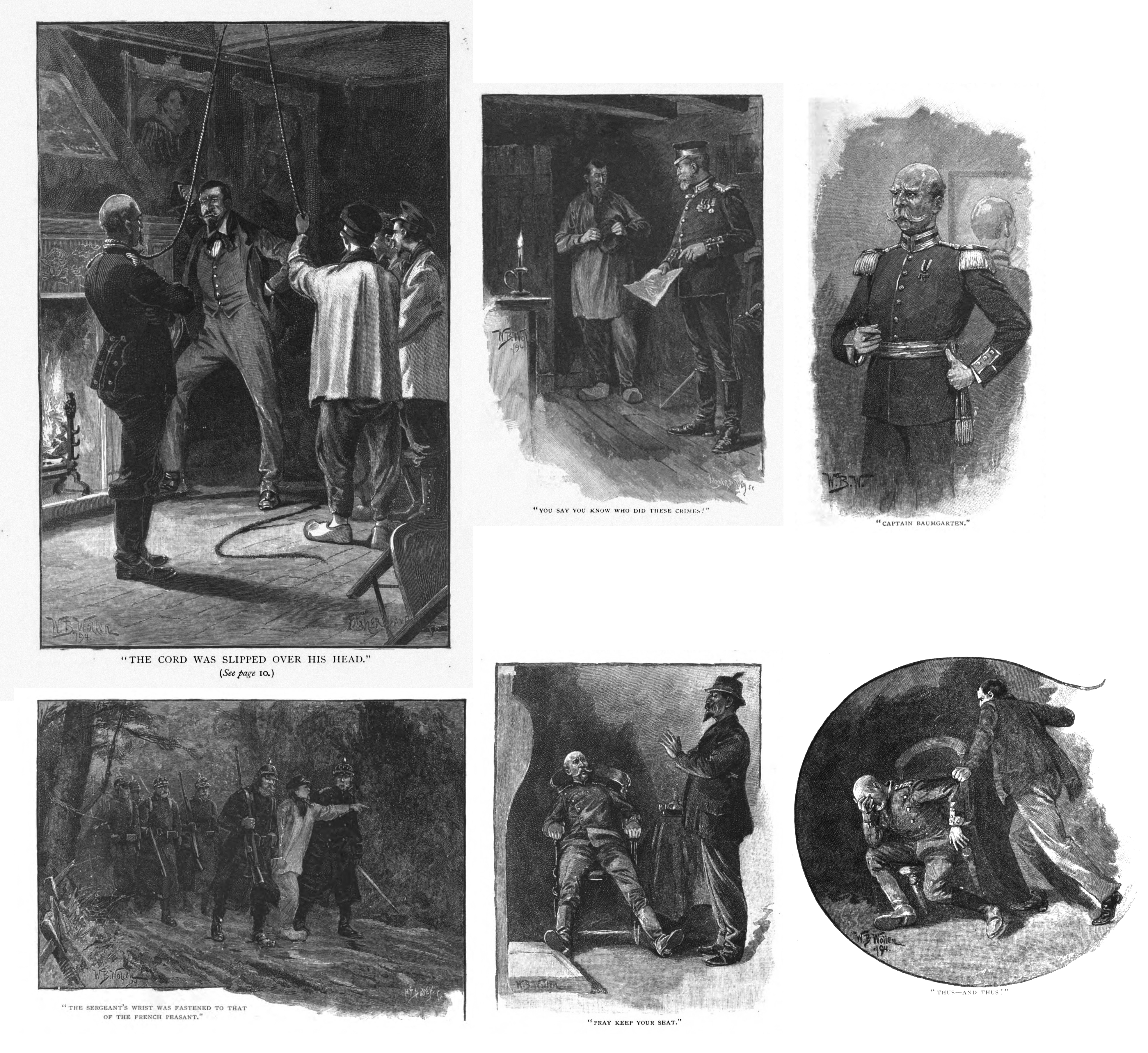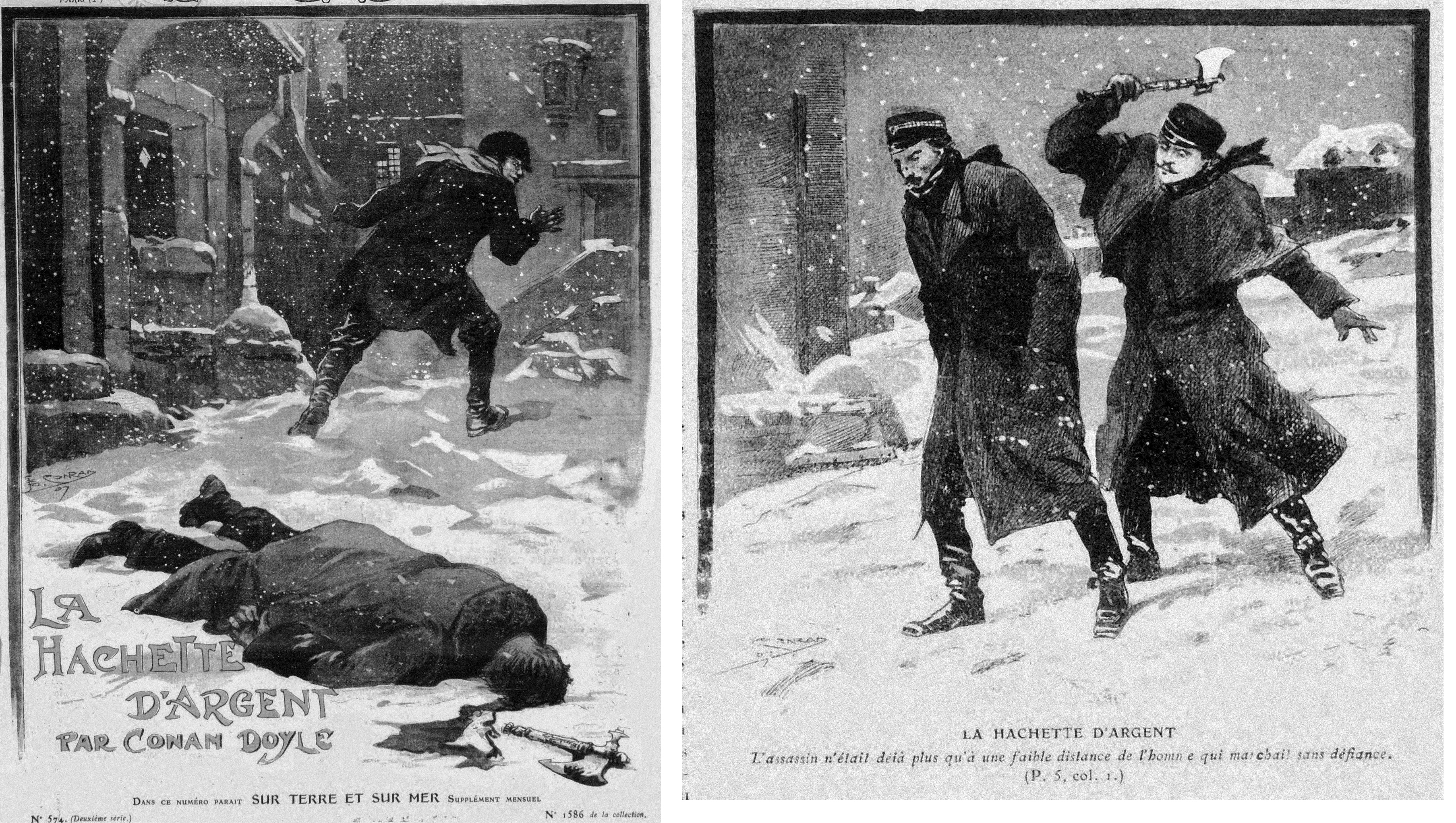|
Опять сюрприз, начало третьего журнала, текст который есть только в первом журнальном и почти без изменений в первом книжном, и всё. Большинство людей даже не подозревало, что он в книге был.(большой зараза...)
Весна 18 года была наиболее смутным и трудным временем. Россия вышла из войны, как избитый и окровавленный человек, бросающий драться: «не желаю больше и не могу, делите сами, чего не поделили». В этом сказался первобытный обнаженно человеческий инстинкт самосохранения. Понятия о военной чести, о национальной гордости и прочее, все сложные надстройки барской культуры полетели в туманную пропасть отжитой истории. Не перед своими же было в деревне ходить, выпятив грудь с солдатским Георгием, полученным где-нибудь на Гнилой Липе! Русский человек оказался в чем мать родила, как будто выброшенный бурей на неведомую землю. На свою землю. Голым и безоружным.
И то и другое было очень страшно. Кругом, на всех границах, на берегах всех морей стояли смертельные враги, — мощно вооруженные армии. Одним тянуло в нос из хлебных губерний ядреным запахом сала и пшеничного хлеба. Другие ожидали часа, чтобы покарать сынов Каина, славян, за вероломство. Третьи готовились прикончить навсегда с опасным соперником, стоящим одной ногой в Азии, и так далее…
Уверенность в том, что беспримерный в истории поступок русского народа, бросающего оружие в разгаре войны (и если не всюду— с братским объятием ко вчерашнему врагу, то, во всяком случае, решительно повернувшего к нему задницу), вызовет такое же ответное движение в Германии, Франции, Англии, — эта уверенность была в Питере, Москве, у головки партии, а в особо трудные минуты— у одного, быть может, Ленина. На митингах (по городам, в армиях, на заводах) опьяняла надежда на мировую революцию. Но то бывало на митингах. А черт его знает на самом-то деле — перекинется ли пожар на Запад? Там, не ослабевая, бушевала война, рабочие безмолвствовали, солдаты подчинялись и умирали. Нет, — как будто нигде еще и не начинало трещать.
Россия треснула до основания. Дошли, — так тогда казалось, — до конца, до точки. Замирились и — шабаш. Была неимоверная усталость. В разоренных войною хозяйствах мужики только кряхтели и почесывались. Землю получили, поделили кое-как, да черт ли в одной земле, когда гвоздя не купишь, портки хоть капустным листом латай. И многим тогда приходило на ум: на это кряхтенье и почесыванье придет немец и голыми руками возьмет, что захочет. Обороняться нечем и нет сил. А из Москвы прилетают агитаторы, кричат: «Углубляйте революцию!». Брала одурь, — куда же еще, куда же глубже-то? Чего хотят большевики? К чему их бешеная ярость? Чего еще ждать?
Весна 18 года была страшным временем переключения энергии. То, что раньше соединяло десятки народностей, населяющих Россию, — имперский государственно-политический аппарат, — распалось на тысячи самоуправляющихся аппаратиков. Стало, — казак на Дону, мужик в своей волости, черкес в родном ауле. Не стало видать краев земли. Каждый ткнулся носом в местный интерес. Была нужда тужить сибирскому переселенцу — пойдут ли, не пойдут ли немцы на Украину, или помору на Белом море — займут ли англичане Кавказ! Выпила русская империя кровушки в свое время, наломала косточек, воевать теперь не погонишь никого. Тот же обнаженный человеческий инстинкт тянул к покою, отдыху. Новое, свое, трудовое отечество еще не народилось. Было просто 150 миллионов смертно уставших людей на земле. Это значило — гибель страны, гибель всех надежд, рожденных революцией, гибель городов, заводов, рабочего класса. Россия — колония. Железная ночь опускалась над русскими равнинами.
Авантюристы, люди с темным прошлым, искатели приключений, люди решительные и жадные, кому война отшибла все человеческое, а революция развязала руки, — лезли к власти на местах и часто добивались ее, хотя бы на час. Они совершали преступления именем советской власти и расшатывали и без того еще слабый, местами призрачный, советский аппарат. Ни в ком не было уверенности. Военной комиссар Ростова, Войцеховский, оказался с послужным списком неудачника актера, шулера, темного дельца, уголовного убийцы и бандита. Разоблаченный, он бежал, и где-то на узловой станции (в нужнике) был расстрелян. Но что из того? Командующий Кавказским фронтом Сорокин—оказался предателем. Люди изменяли с фантастической легкостью. Было удивительно — как еще держались в этом море анархии островки советской власти!
Только творческая мысль могла противостоять анархической стихии ста-пятидесяти-миллионного народа, бороться с ней, сколотить из нее жизнеспособные формы. В Кремле, в Кавалерском корпусе, непрерывно заседал Совнарком. Создавалось новое законодательство, в основу его легла формула: «Кто не работает, тот не ест». В ответ на взрывы анархии, на роковые, казалось, неудачи, на угрозы всеобщей гибели,— из Кремля слались декреты. Они проникали в толщу народа и действовали своей решительностью. В конце концов это были только клочки бумаги, но в них была магия новых и неумолимых слов. Из Кремля силой веры в историческую закономерность поворачивали скрипучий рычаг, переключая так называемую «славянскую расхлябанность» на большевизм.
|