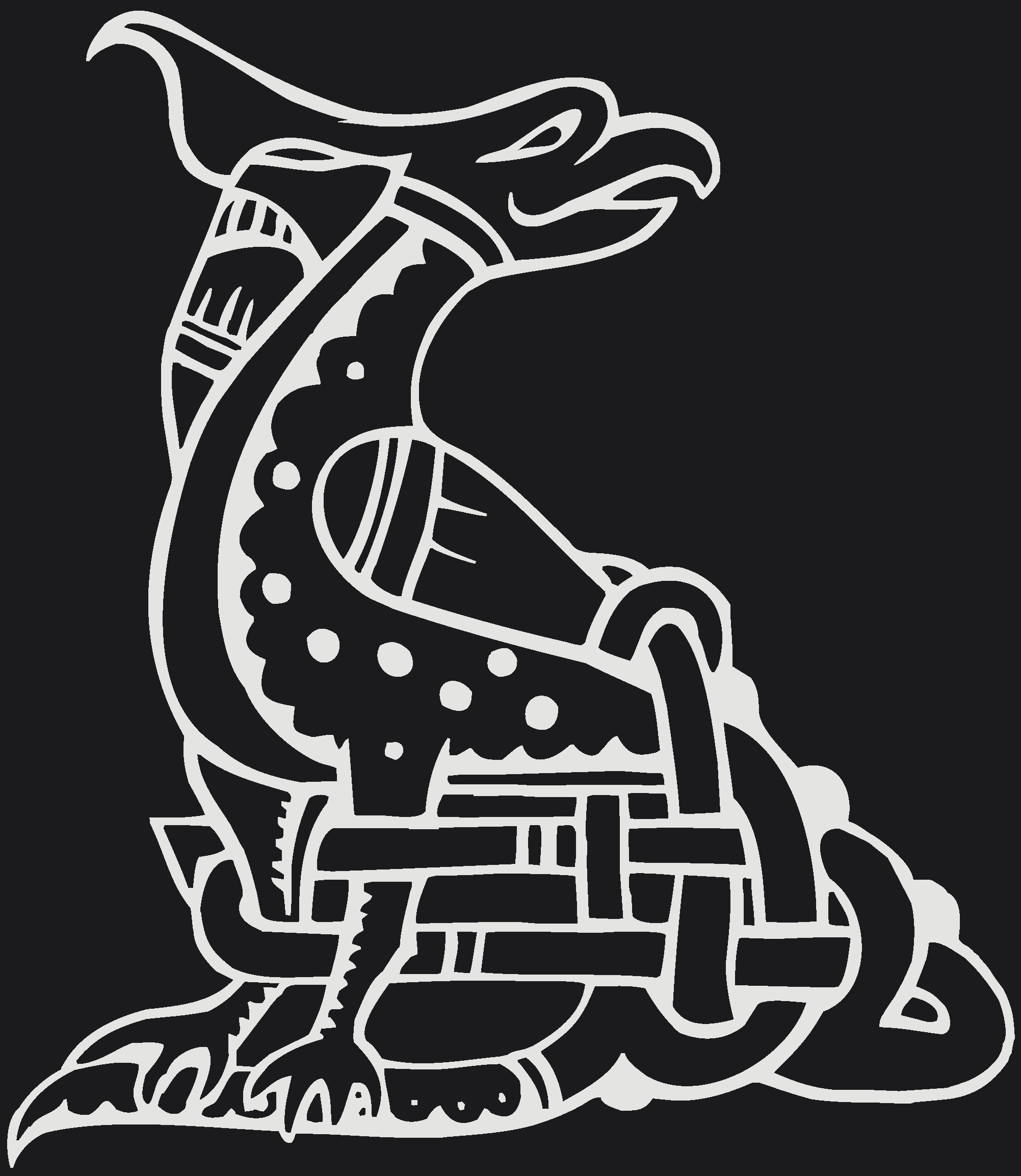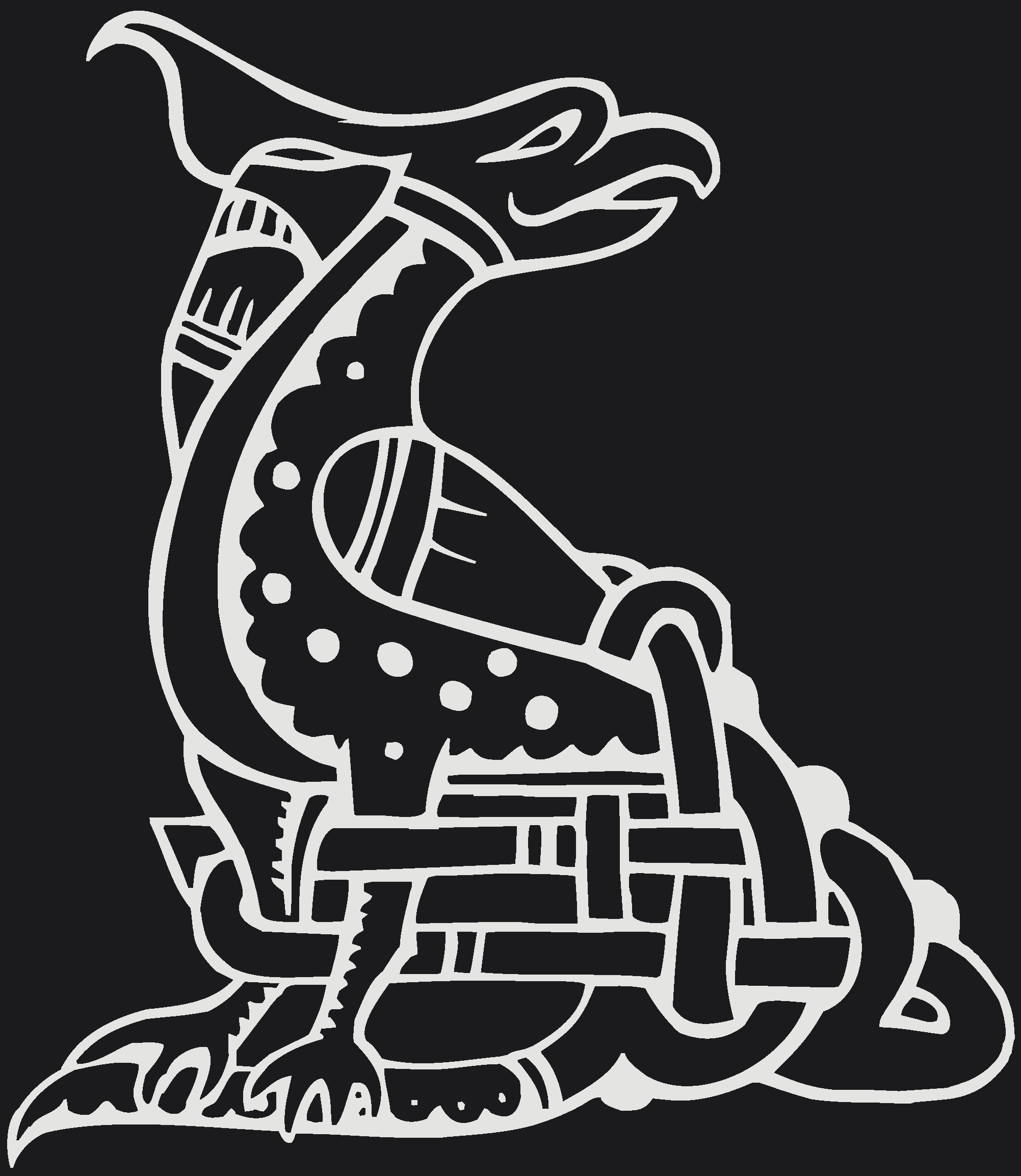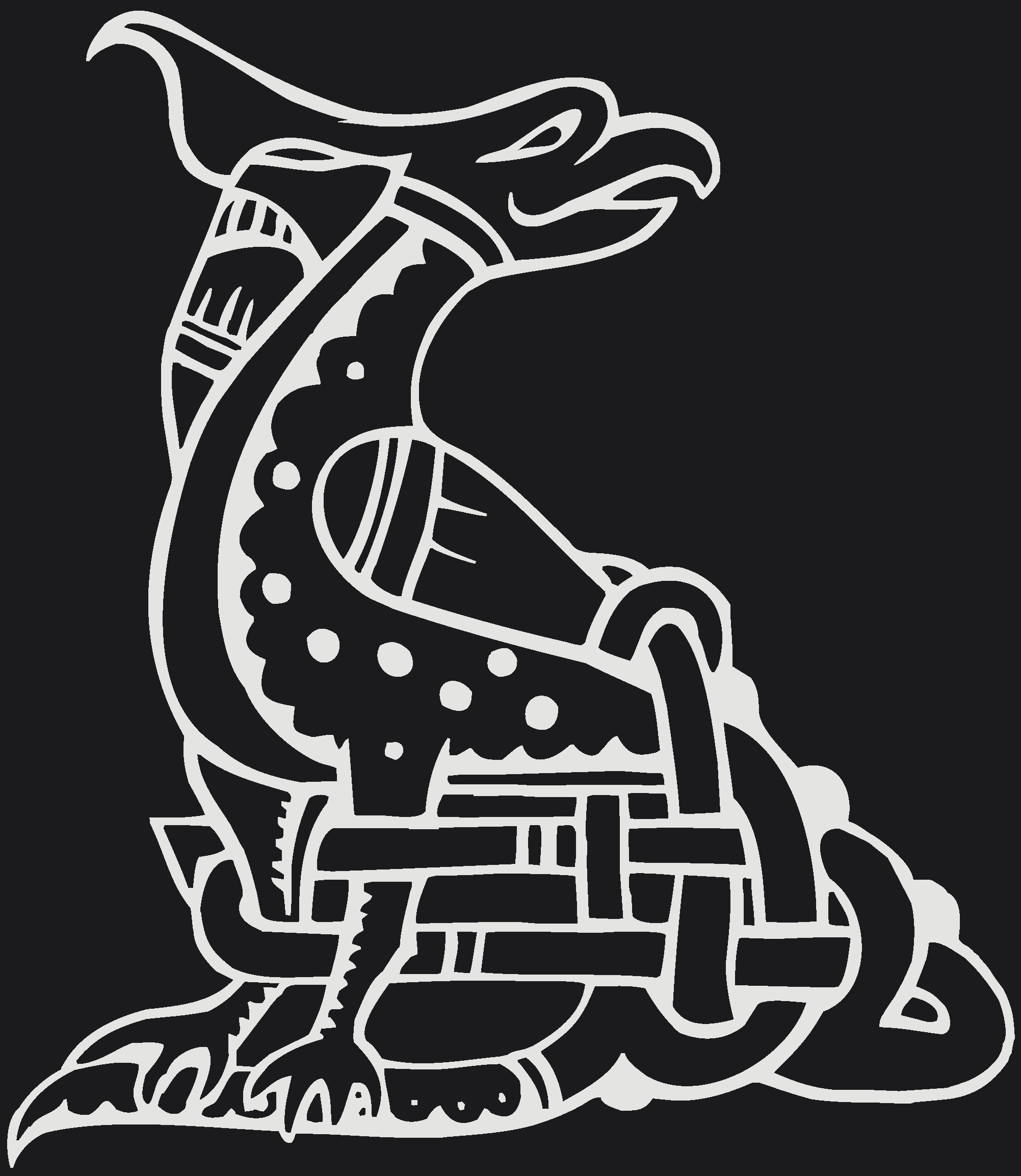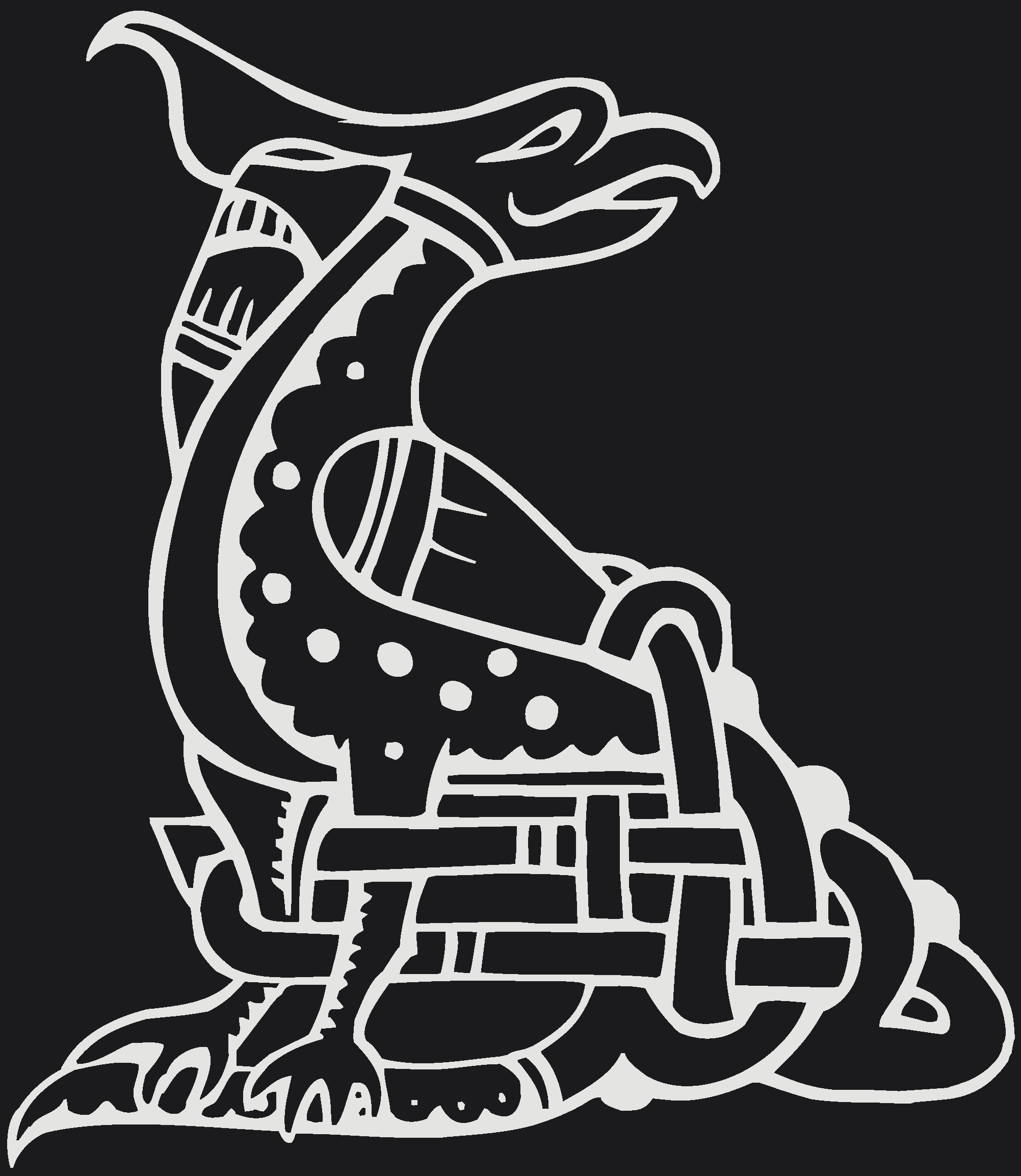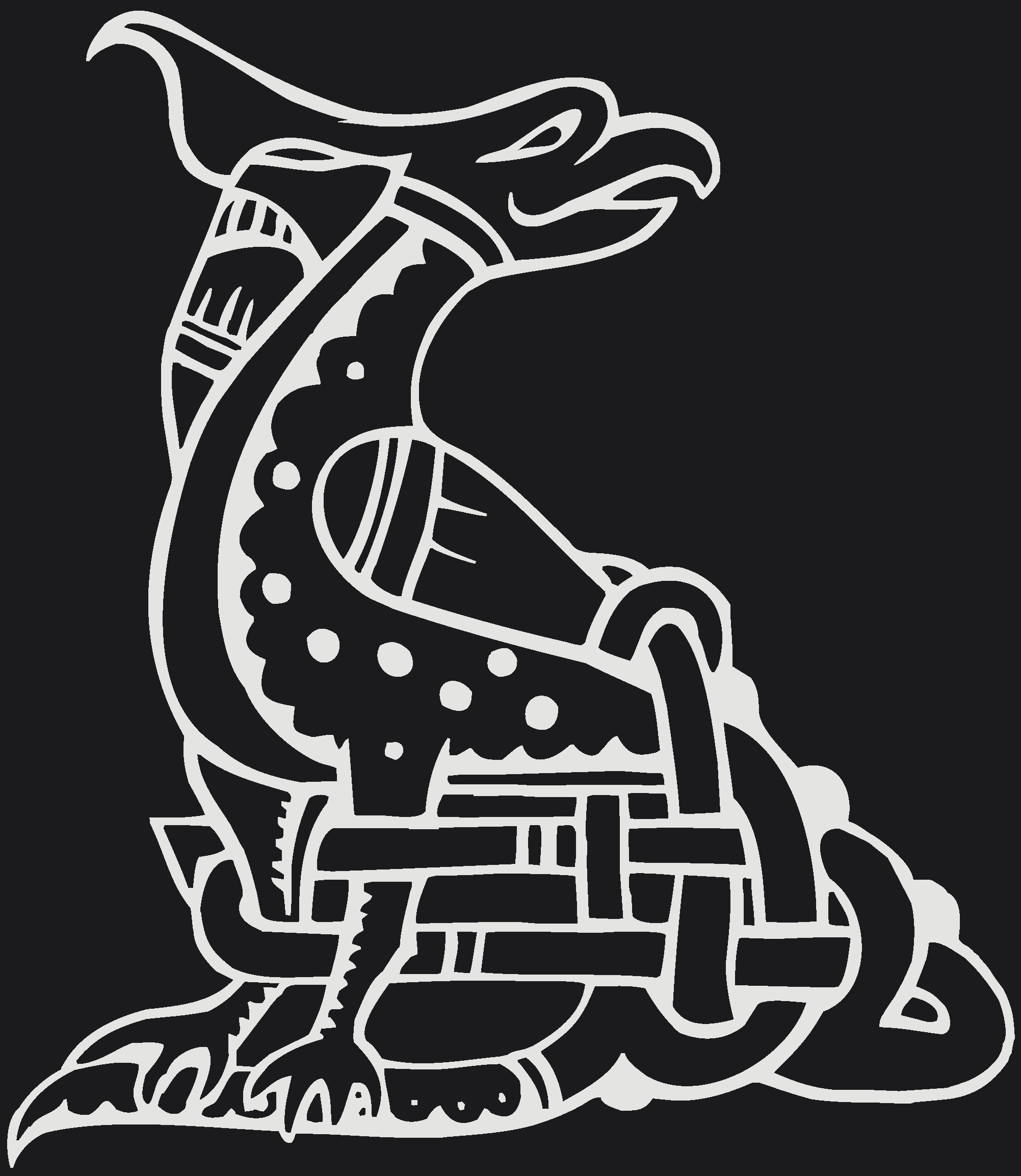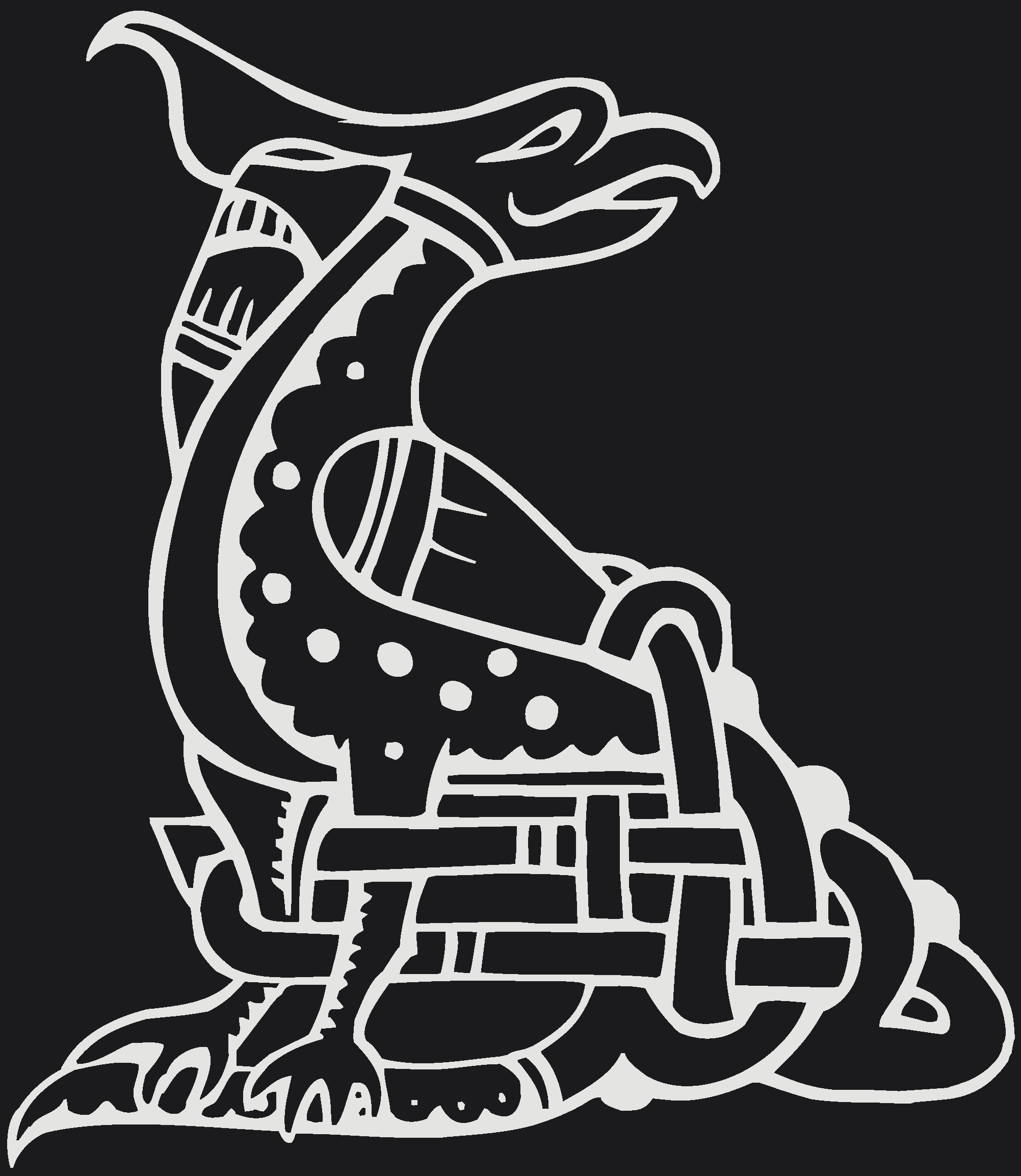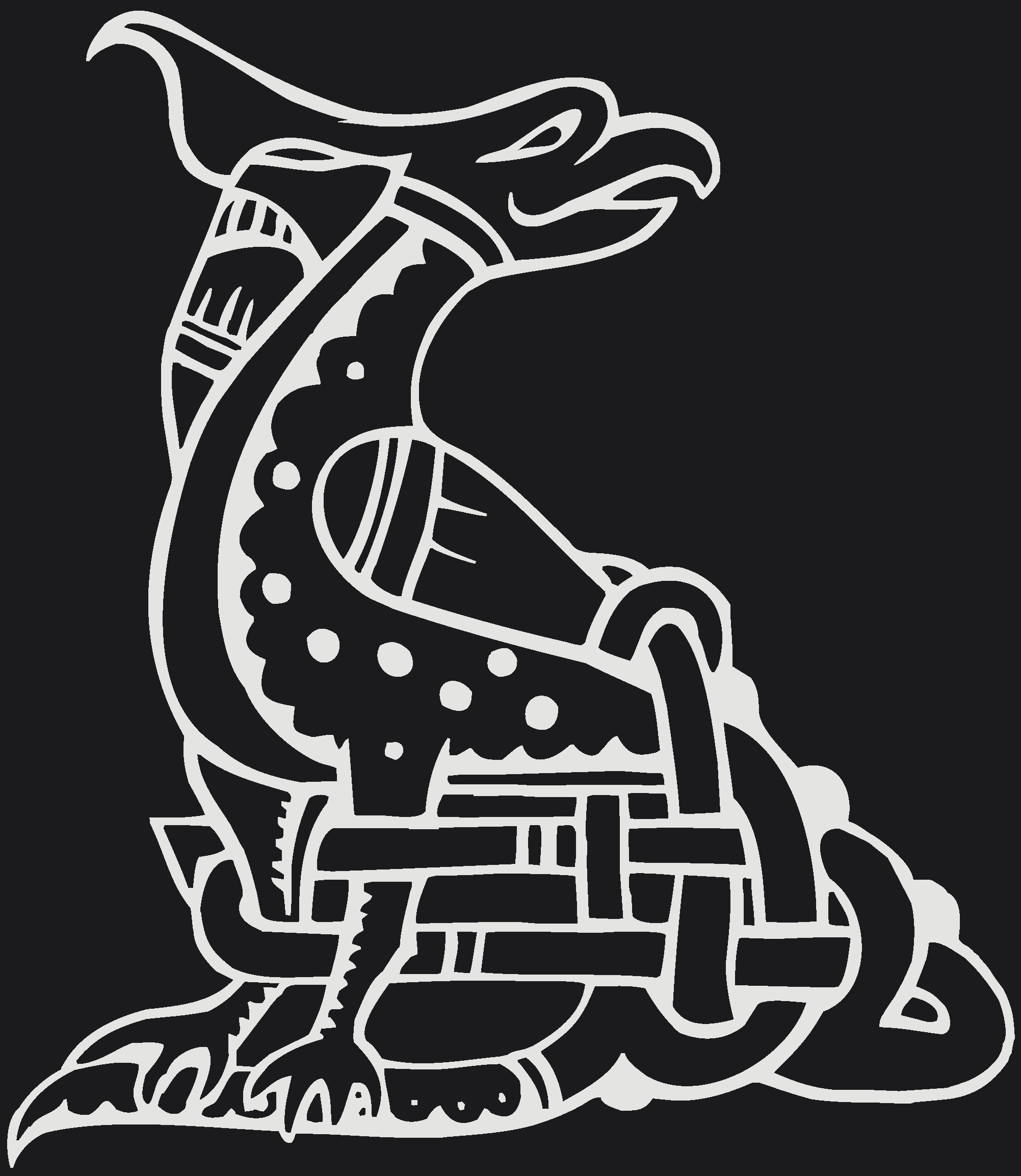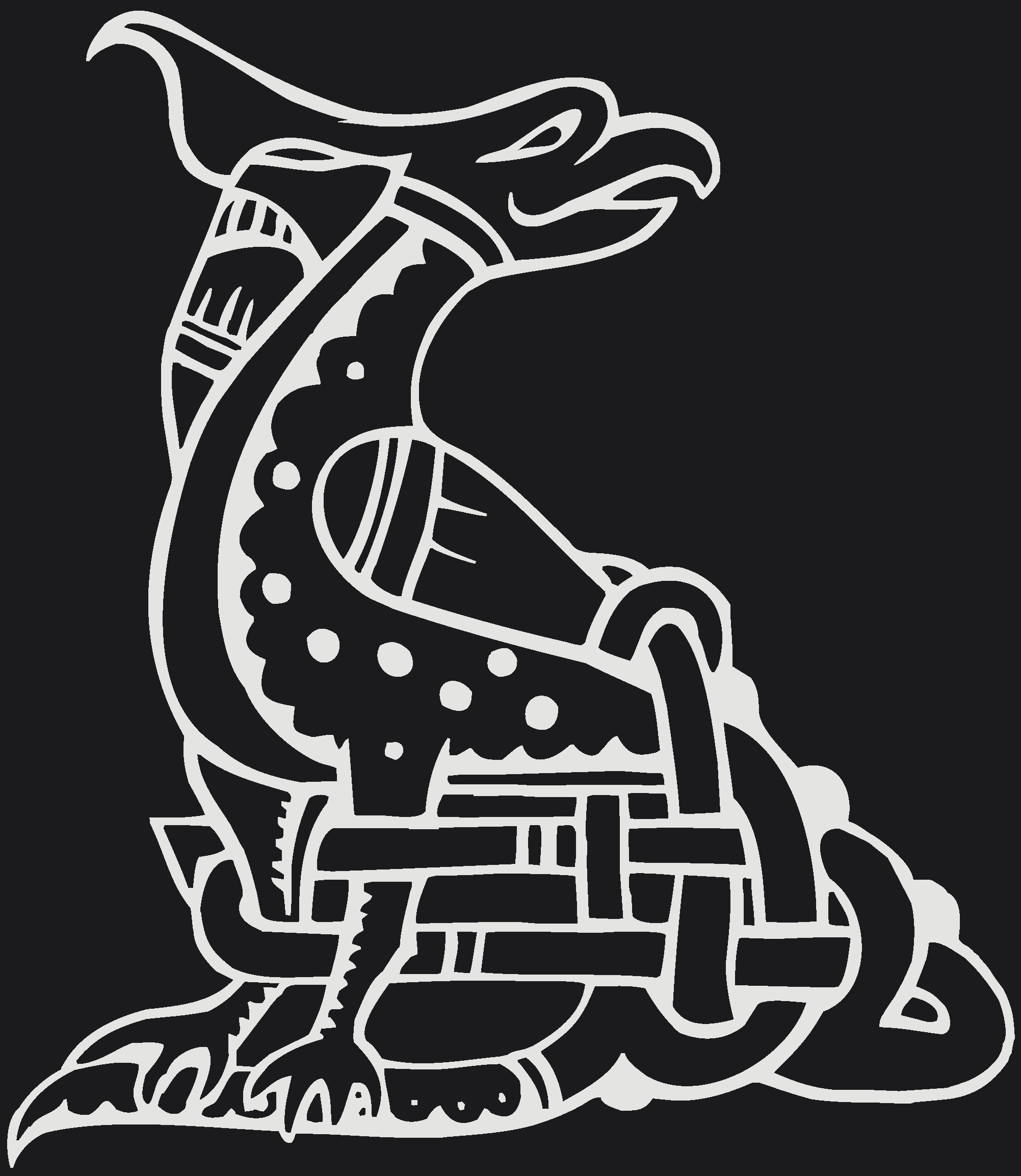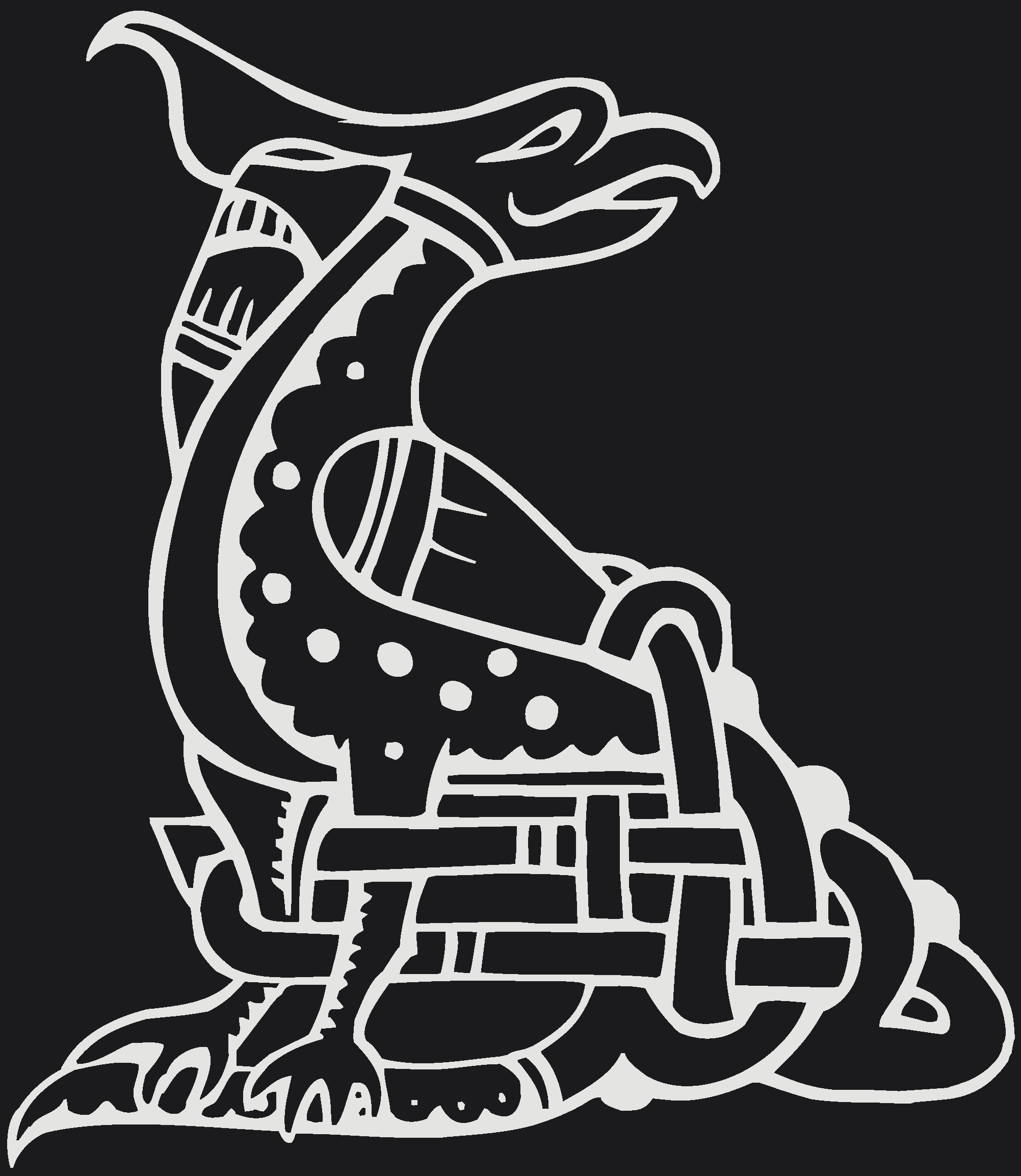|
"Братишки" Важное для Барто, стихотворение, может разделим Скобелева+Елисеев, а остальное как приложение к "Запискам детского поэта" Барто
Дневники 1974 года:
"Рассматриваю в газете дружеские шаржи. Смотрю на свое изображение и вздыхаю: неужели эта туповатая личность с полным отсутствием интеллекта действительно я? Моя внучка, еще неопытный грамотей, заглядывая в газету из-под моей руки, старательно читает: 'Дружеский шараш'. Это верно: я и впрямь ошарашена.
***
После затянувшегося собрания и бесплодных споров вернулась домой усталая. Перечитала детское письмо: 'Я вас люблю и обворачиваю в бумагу, когда вы порвались, я вас склеила'.
Вот он, мой 'универсальный клей',— прочла письмо, и что-то во мне восстановилось."
"Варианты... Они есть у каждого поэта. Выбрав лучший из них для печати, поэт обычно остальные уничтожает или же, в расчете на бессмертие, оставляет их для будущих литературоведов. Нередко поэты исправлиют стихи от издания к изданию. Многие редакторы и критики расценивают это как явление положительное, как признак растущей требовательности поэта к себе. А читатели? Недавно я слышала, как одна любительница поэзии, волнуясь, высказывала другую точку зрения. Вот примерно ее монолог:
'Я впервые прочла это стихотворение, когда была студенткой, у меня в памяти сохранилось не только оно, но и я сама, какой была тогда, и чувства, им вызванные. Оно многое мне дало и оставалось дорогим. Мне трудно сказать, может быть, новые строчки и лучше, но для меня они чужие'.
Я готова разделить ее точку зрения. Попробовала было себе представить: а что, если б Константин Симонов переделал несколько строк в стихотворении 'Жди меня'?! Я бы протестовала! Ведь у меня в памяти остались njже не только строфы стихов, но и те военные дни, когда они появились, и вызванный ими отзвук в сердце чуть ли не каждого из нас.
Закономерны ли изменения в поэтических изданиях — вопрос спорный, каждый поэт вправе решать его по-своему. Для меня он решен. Переделала я для переиздания, изменила несколько строк в одном из моих старых стихотворений, оно стало лучше, точнее. Неожиданно позвонил мне недовольный молодой отец и рассказал о своем 'конфликте' с дочерью. Услышав, что знакомое ему с детства стихотворение дочка читает по-другому, отец сказал: 'Ты неправильно читаешь. Вот так надо'. А дочка отвечает: 'Нет, не так! Это ты неправильно'. И показывает книжку.
По моим наблюдениям, если ребенок любит стихотворение, знает его наизусть, то в другом варианте он его не принимает. Сердится, раздражается, если в новом издании что-то не сходится с тем, что так прочно утвердилось в его памяти. Может быть, для 'взрослого' поэта улучшенный вариант — заслуга, а детскому приходиться сразу печатать в окончательном варианте. Что поделаешь, для его читателя изменения неприемлемы. Такую роскошь детский поэт может себе позволить разве только в собрании сочинений."
Есть выражение 'переломный момент',— в моей жизни был 'переломный вечер'. От него сохранилось у меня вещественное доказательство: самодельный альбом, от корки до корки исписанный стихами. Читая их, трудно себе представить, что писались они после революции, в ее первые напряженные годы. Рядом с озорными эпиграммами на учителей и подруг спокойно и прочно чувствовали себя в моих стихах многочисленные сероглазые короли и принцы (беспомощное подражание Ахматовой), рыцари, юные пажи, которые рифмовались с 'госпожи'... Но если перевернуть этот альбом, так сказать, 'задом наперед', то вся королевская рать исчезнет как по мановению жезла.
На оборотной стороне альбомных листков совсем иное содержание, а вместо аккуратных четверостиший строчки идут лесенкой. Метаморфоза эта произошла в один вечер: кто-то позабыл у нас в передней, на столике, небольшую книжку стихов Владимира Маяковского.
Я прочла их залпом, все подряд, и тут же, схватив карандаш, на обороте стихотворения, посвященного учительнице ритмики, кторое начиналось слозами:
Были вы когда-то
Розовой маркизой...-
написала 'Владимиру Маяковскому':
Рождайся,
Новый человек,
Чтоб гниль земли
Вымерла!
Я бью тебе челом,
Век,
За то, что дал
Владимира.
Строчки, конечно, были слабыми, наивными, но, наверно, я не могла их не написать.
Новизна стихов Маяковского, ритмическая смелость, удивительные рифмы потрясли меня и пленили. С этого вечера и пошла лесенка моего роста. Была она для меня достаточно крутой и неровной.
Живого Маяковского я впервые увидела много позднее. Мы жили на даче, в Пушкино, оттуда я ходила на Акулову гору играть в теннис. Меня в то лето с утра до вечера мучили слова, вертела их по-всякому, и только теннис выбивал из головы рифмы. И вот однажды, во время игры, приготовившись подавать мяч, я застыла с поднятой ракеткой: за длинным забором ближайшей дачи увидела Маяковского. Сразу узнала его по фотографии. Оказалось, что он живет здесь. Это была та самая дача, куда к поэту в гости приходило солнце ('Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче', 'Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.'). Потом я не раз смотрела с теннисной площадки, как он шагает вдоль за6ора, что-то обдумывая. Ему не мешал ни голос судьи, ни возгласы игроков, ни стук мячей. Кто бы знал, как мне хотелось подойти к нему! Я даже придумала, что ему скажу: 'Знаете, Владимир Владимирович, когда моя мать была школьницей, она всегда учила уроки, шагая по комнате, и ее отец шутил, что, когда он разбогатеет, купит ей лошадь, чтоб она не так уставала'. И тут произнесу главное: 'Вам, Владимир Владимироеич, не нужны никакие воронье кони, у вас — крылья поэзии'. Конечно, я не решилась подойти к даче Маяковского и, к счастью, не произнесла этой ужасной тирады.
Спустя несколько лет редактор моих книжек, поэт Натан Венгров, попросил показать ему все мои стихи, не только детские, но и взрослые, написанные 'для себя'. Прочитав их, Венгров почувствовал мою горячую, но ученическую увлеченность 'маяковскими' ритмами и рифмами и сказал как раз те слова, какие и надо было мне тогда сказать: 'Вы пытаетесь идти за Маяковским? Но вы следуете только его отдельным стихотворным приемам... Тогда решитесь — попробуйте взять и большую тему'.
Так появилась на свет моя книжка 'Братишки', Тема братства рабочих людей всех стран и их детей, новая для поэзии тех лет, увлекла меня. Увы, смелое решение значительной темы оказалось мне не под силу. В книжке было много несовершенного, но ее успех у детей показал мне, что с ними можно говорить не только о малом, и это приохотило меня к большой теме.
|