|
Джон Голсуорси "КРИТИК" Перевод А. Поливановой
"Эх, собачья жизнь! — часто думал он. — Бросить все это и начать писать самому. Неужели у меня не получится лучше, чем у всех этих писак?" Но он все никак не мог приняться за дело. Когда-то в ранней юности он выпустил книгу, но это было далеко не лучшее, на что он считал себя способным. Да и как могло быть иначе: ему уже и тогда то и дело приходилось отрываться от лакомой косточки собственного вдохновения для разбора и критики чужих произведений!
Если бы его приперли к стенке и спросили напрямик, почему же он все-таки не пишет сам, он затруднился бы ответить, и что бы он ни сказал, это было бы верно только отчасти, потому что хотя он был человек правдивый, но чувство самосохранения не позволяло ему быть искренним до конца. Гораздо легче, например, воображать, что, если бы не постоянные помехи, он мог бы сделать нечто выдающееся в литературе, чем действительно засесть за работу, но он вряд ли бы в этом признался. Верить в собственную одаренность было очень приятно, и не так-то легко было подвергнуть ее грубой проверке на деле. Кроме того, с его стороны было бы бестактно обнаружить свое превосходство и поставить на место всех тех писак, которые, по его мнению, мешали развернуться его творческому дару, присылая ему на отзыв свои книги. Но то все были мелочи, ибо он не был ни тщеславным, ни злым. Главная же причина его нерешительности заключалась в том, что он вовсе не так уж тяготился своей "собачьей жизнью", как он ее называл. Прежде всего он привык к этой жизни, а человеку всегда трудно расставаться с привычками; кроме того, он действительно любил свое дело; и, наконец, всегда приятнее судить самому, чем быть судимым.
[...]
Ему было под пятьдесят, когда его час наконец пробил, и он принялся всерьез работать над собственным шедевром, который должен был избавить его от "собачьей жизни", а может быть, даже и уготовить ему маленькую нишу в галерее бессмертных. Он радостно трудился пять месяцев, пока ему не взбрела в голову злосчастная мысль перечитать написанное. Как опытный критик, он не мог, к величайшей своей досаде, не обнаружить, что почти каждая глава, целые страницы, фразы опровергают все непосредственно им предшествующее. Он пытался внимательно проследить основную нить, которая, по его замыслу, должна была пронизывать всю вещь. То тут, то там она появлялась, а затем снова пропадала. Наш критик очень расстроился.
Решив, однако, не думать об этом, он продолжал писать. К концу седьмого месяца он снова прервал свой труд и снова терпеливо просмотрел все с самого начала. На этот раз он обнаружил четыре основных линии, которые никак не пересекались; но больше всего его поразило отсутствие оригинальности. Он был потрясен. Ведь именно оригинальность он ценил превыше всего и всю жизнь воспитывал ее в себе. Независимость и неистощимость фантазии и выдумки — вот к чему сводилось его кредо. И теперь, теперь, когда пробил его час в разгар творческих мук над столь долго откладывавшимся собственным произведением, убедиться, что… Отбросив эти мысли, он с новым упорством засел за работу.
К концу девятого месяца он как одержимый дописал последние страницы, затем неторопливо и сосредоточенно просмотрел от начала и до конца дело своих рук. По мере того, как он читал, что-то сжималось у него внутри и он леденел. Его детище лежало перед ним недвижное, без пульса, без дыхания, без красок — оно было мертво.
И вот, пока он сидел над своим бесформенным мертворожденным шедевром, без признака жизни и индивидуальности, в его мозгу зародилась страшная мысль. Всю жизнь он стремился к полной независимости, всю жизнь не признавал никакого иного закона, кроме собственного вкуса. Может быть, этот эгоцентрический культ собственной индивидуальности и привел его к полной утрате истинной индивидуальности? Не слишком ли долго он судил других, не подвергаясь сам ничьему суду? Нет, неправда, это невозможно! Запрятав подальше свое бесцветное, бесформенное творение, он взял последний присланный ему на отзыв роман и погрузился в чтение. Но, пока он читал, перед его глазами мелькали страницы собственного произведения. Наконец, отложив в сторону книгу, он взялся за перо и написал: "Этот роман поистине трагичен; он свидетельствует о том, что писатель сгорел на собственном огне; он так долго питался собственной личностью, так долго варился в собственном соку, что в конце концов завял и высох из-за недостатка питания". Вынеся этот приговор чужому творению, он почувствовал, что кровь быстрее побежала по его жилам, и ему стало тепло.
|
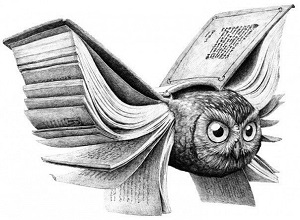






























 или покушать пошла
или покушать пошла 
