(НФ в ЧЕХИИ… -- продолжение)

3. После бархатной революции (1989). Внезапная свобода, обретенная следом за событиями 1989 года, не привела автоматически к улучшению качества публикуемого, напротив, на рынке существует почти бездонный спрос на продукцию. Так что сейчас относительно легко опубликовать книгу, почти любую книгу, но гораздо труднее жить писательством. Один из примеров: в 1991 году Иво Железный опубликовал авантюрную фэнтези Иржи Прохазки (под псевдонимом Джордж Уокер/George Walker) общим тиражом 70 000 экземпляров. В 1992 году то же издательство выпустило мой феминистский научно-фантастический роман «Сумасшедшая» (“Cvokynĕ”) тиражом в 3000 экземпляров (12).
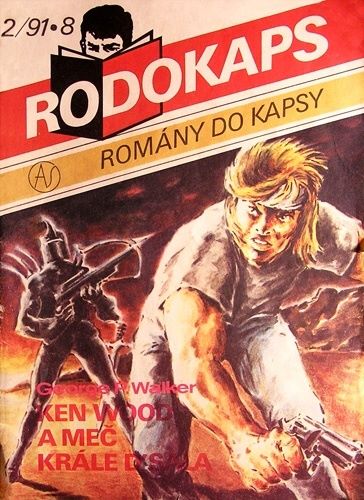
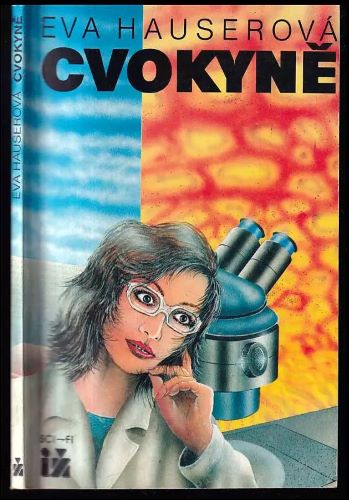
В обоих случаях гонорар составлял одну крону за экземпляр, так что вполне возможно, что «Джордж Уокер» мог бы жить за счет своего творчества (выпуская одну или две книги в год), но для меня писательство — это чистая роскошь (13).
За последние два года появилось еще несколько издательств, основанных бывшими издателями самиздата из фэндома: “Novă vlna”, “Winston Smith”, “Laser”, “AFSF”, “Exalticon”, “Cernă planeta”. Они предпочитают публиковать переводы англо-американской научной фантастики, но не отвергают полностью произведения наших отечественных писателей.
У нас также есть несколько специализированных научно-фантастических издательств, которые до революции никогда не имели ничего общего с фэндомом, но с тех пор обнаружили, что научная фантастика имеет большой коммерческий потенциал. В основном они поставляют на рынок только переводы произведений иностранных авторов (14).
Сила рынка настолько велика, что было бы иллюзией думать, что мы можем свободно создавать то, что хотим. Еще несколько лет назад можно было спокойно жить на относительно небольшой доход от непыльной работы в какой-нибудь конторе, а в рабочее время — вместо болтовни или выпивки — писать сколько угодно научной фантастики. Сегодня вы, как правило, должны действительно работать, чтобы зарабатывать на жизнь, и у вас гораздо меньше свободного времени для писательства в качестве хобби. Некоторые люди реагируют на это, сочиняя триллеры за деньги, чтобы поддержать свою более литературную работу. Примерами являются Йоcеф Пециновский и «Джордж Уокер»/Иржи Прохазка (Jiři Prochazka, род. 1959).
В течение двух лет, с 1990 года до весны 1992 года, я работала редактором нашего главного профессионального научно-фантастического журнала “Ikarie”, который был основан в 1990 году Ондржеем Неффом,

Ярославом Ольшей-младшим (Jaroslav Olša Jr, род. 1964),

Иваном Адамовичем (Ivan Admovič, род. 1967)

и другими фэнами (15).


Мне было интересно там работать. Журнал имеет относительно большой тираж (30 000 экземпляров в месяц) и восторженную и воодушевляющую читательскую аудиторию, в основном юношей, желающих читать приключенческую или техническую научную фантастику. Я занималась в основном редактурой отечественной научной фантастики и чувствовала, что, хотя у нас есть относительно неплохие писатели научной фантастики, на профессиональном уровне им не хватает идей. Многие из рассказов и повестей были попросту плагиатом, или непродуманными историями о каком-то животном-людоеде на чужой планете, или побасенками о мире, разрушающемся после экологической катастрофы, и т.д. Короче говоря, в них было полным полно клише. Когда мне довелось сравнить нашу научную фантастику с рассказами австралийских и голландских писателей, у меня сложилось впечатление, что наши начинающие писатели почему-то не в состоянии создать свой собственный выразительный, чистый мир. Как будто они не осознают, как много нужно думать, прежде чем начать писать.
4. О темном будущем нашей научной фантастики. Возможно, мы все ищем свою идентичность в эти времена. По крайней мере, очень сложно определить, какое направление является наиболее интересным или значимым в нашей нынешней научной фантастике -- новое или устоявшееся.
Мы до сих пор не усвоили ни одной новой проблемы, о которой стоит думать, стоит злиться из-за нее или ее бояться. Мы больше не хотим читать, писать или думать о тоталитаризме. Но какова наша следующая большая тема? Никто на самом деле этого не знает.
Весьма модными на данный момент являются чешские имитации киберпанка (16). Это движение, с его акцентом на компьютеры, искусственный интеллект и новейшие медицинские технологии, все еще кажется нам очень современным, хотя в Америке оно постепенно устаревает. Самым успешным нашим писателем киберпанка, безусловно, является Иржи Прохазка (когда он не пишет фэнтези под псевдонимом Джордж Уокер),

это, пожалуй, единственный из наших авторов научной фантастики, кто может писать искренне в панковском ключе (17). Другие писатели, которые связаны с киберпанком, — Ян Полачек


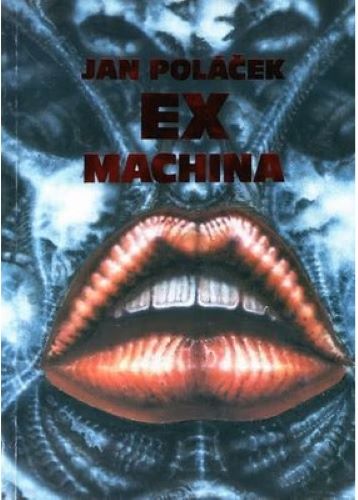
и Иван Адамович.

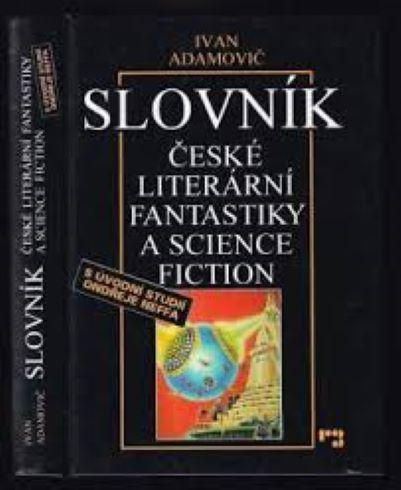

Помимо течения киберпанка, существует очень сильное направление жанровой фэнтези или чего-то среднего между фэнтези и научной фантастикой (примерами могут служить произведения Ярослава Йирана [Jaroslav Jiran, род. 1955], который заменил меня в журнале “Ikarie”,

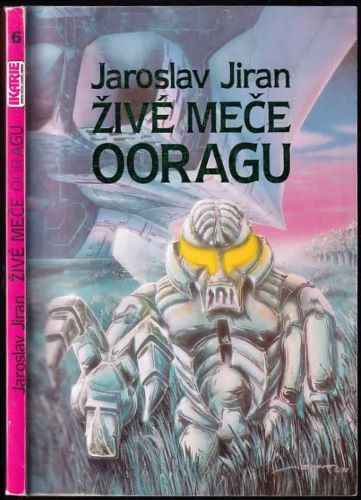
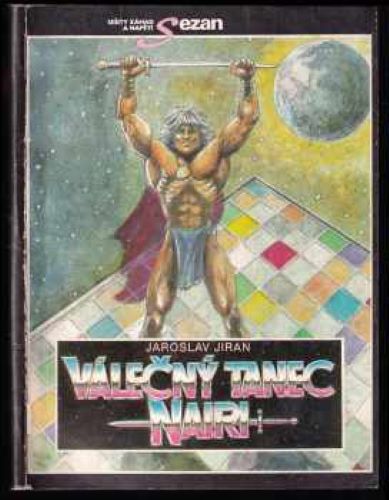
и Йосефа Пециновского). Эти авторы пишут романтические истории с четкими сюжетами, обычно о борьбе между Добром и Злом, как в сказках. Люди романтичны и наслаждаются ими, но, конечно, они, эти истории, немного эскапичны. Новые миры, построенные этими авторами, почему-то недостаточно новы...
Есть еще несколько человек, которые пишут о том, что их действительно интересует, о современных проблемах. Самый яркий пример – Карола Бидерманнова. Хотя она также пишет традиционные жанровые фэнтези, когда представляется возможность, ее лучшие произведения — это довольно радикальная феминистская научная фантастика.


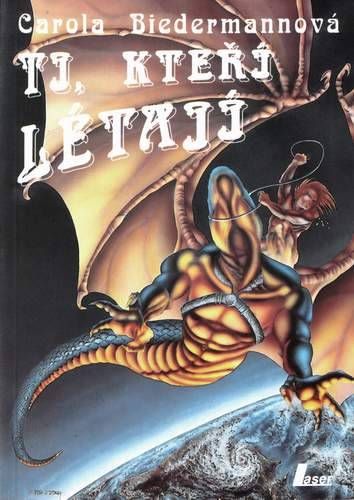
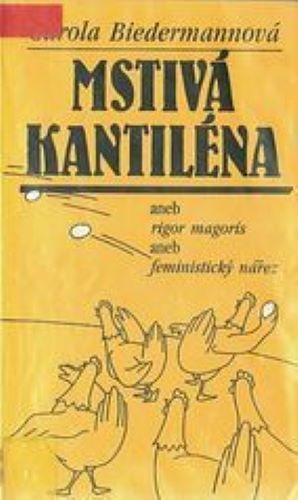

Благодаря своему игровому подходу она способна писать все то, что люди хотят читать (или, наоборот, не хотят читать -- чтобы их спровоцировать): проводить фрейдистский анализ абсолютно любого текста, сочинять злобные антиклерикальные и антитрадиционалистские научно-фантастические рассказы, произносить феминистские обличительные речи. Она даже обещает опубликовать несколько историй о лесбиянстве, которое является совершенно запретной темой для чешских писательниц (18).
Другие люди, кажется, испытывают трудности с поиском новых тем, новых сюжетов и новых мотиваций для своей научной фантастики. Например, роман, получивший премию Карела Чапека в 1992 году, был очередной вариацией киберпанка, смесью религиозных и компьютерных мотивов, которую так любят наши фанаты, блестяще написанной, но качественно отнюдь не новой.
Возможно, это нормально. Пожалуй, большинству наших читателей нужно что-то вроде романов Вильмы Кадлечковой, фэнтези Йирана и Прохазки или пафоса Новотного. Возможно, людям нужно вернуться к своим историческим культурным корням, обновить в себе традиционные, вечные человеческие ценности, прежде чем они смогут приобщиться к современным западным культурным тенденциям. Внедрение почерпнутых из газетных заголовков «современных капиталистических» проблем в глубины наших душ, вероятно, займет несколько лет.
БЛАГОДАРНОСТИ. Ранняя версия этой статьи была прочитана в виде лекции в Лондонском университете на конференции «Восточноевропейская литература в переходный период» в декабре 1992 года. Автор выражает признательность Британскому Совету за помощь, которая сделала возможным ее приезд на конференцию. Английский текст подготовлен автором и Сирилом Симзой (Cyryl Simsa).
(Окончание следует)



