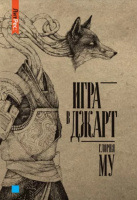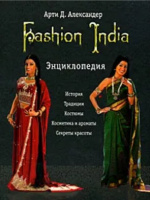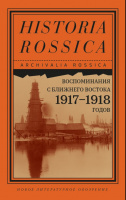Каждый месяц Алекс Громов рассказывает о 9 книгах
На то, чтобы остановить вращение Земли, ушло сорок два года, на три года больше, чем планировала Коалиция. Мать рассказывала мне о том времени, когда наша семья наблюдала последний закат солнца. Солнце опускалось очень медленно; оно словно прилипло к горизонту. Прошло три дня и три ночи, пока оно окончательно закатилось. Конечно, после этого уже не было ни «дня», ни «ночи». Восточное полушарие надолго окутали постоянные сумерки, лет на десять, наверное. Солнце стояло чуть ниже линии горизонта, его сияние озаряло половину неба. Во время того бесконечного заката я и родился.
Сумерки — это не темнота. Двигатели Земли ярко освещали все Северное полушарие. Они были установлены на всей территории Азии и Северной Америки, так, как только прочная основа из тектонических плит этих континентов могла выдержать чудовищную тягу, которую они развивали. Всего на равнинах Евразии и Северной Америки разместили двенадцать тысяч двигателей.
С того места, где я жил, были видны яркие плазменные лучи сотен двигателей. Представьте себе огромный дворец, размером с Пантеон или Акрополь. Внутри этого дворца к сводчатому потолку возносятся бесчисленные массивные колонны, каждая из которых сверкает бело-голубым светом флуоресцентной лампы. А ты… ты просто микроб на полу того дворца. Таким был тот мир, в котором я жил. Собственно говоря, это не совсем точное описание. Именно касательный компонент тяги двигателей останавливал вращение Земли. Поэтому сопла двигателей необходимо было очень точно сориентировать, чтобы массивные лучи под определенными углами прорезали небо. Возникало впечатление, что громадный дворец, в котором мы живем, готов в любой момент рухнуть! Когда приезжие из Южного полушария видели эту картину, многие испытывали приступы паники.
Но еще больший, чем вид двигателей, ужас вызывал обжигающий жар, который исходил от них. Температура поднималась до семидесяти и даже восьмидесяти градусов по Цельсию, вынуждая людей надевать скафандры с охлаждением перед выходом из помещения. Жара часто порождала штормы и ливни. Когда луч плазмы пронзал темные тучи, зрелище было кошмарным. Тучи рассеивали бело-голубой свет, создавая неистовые, пульсирующие, радужные гало. Все небо сияло, словно покрытое раскаленной добела лавой. Мой дедушка в старости впал в маразм. Однажды, измученный невыносимой жарой, он так обрадовался налетевшему ливню, что разделся по пояс и выбежал из дома. Мы не успели вовремя его остановить. Раскаленные лучи плазмы нагрели дождевые капли до температуры кипения, и он так обжег кожу, что она слезала с него большими кусками.
Для моего поколения, родившегося в Северном полушарии, все это было совершенно естественным, как естественно было видеть Солнце, звезды и Луну тем, кто жил до Эры торможения. Мы называли тот период человеческой истории Солнечной эрой, и это был поистине золотой век!»
Лю Цысинь. Блуждающая Земля
В последнее время всё большее значение приобретает азиатская фантастика и фэнтези. Эти произведения построены на совсем иных культурных традициях, нежели литература Запада, что придает им дополнительную увлекательность. В этой книге китайский фантаст взялся за тему, которая в западной фантастике присутствует уже давно. А именно, что делать, если наука вдруг обретает способность точно предвидеть будущее. И в этом будущем Солнце твердо намерено взорваться, уничтожив всё живое на Земле. Теперь землянам предстоит решать, что делать – всем улетать прочь на множестве относительно небольших (по сравнению с Землей) звездолетов или превратить в управляемый космический корабль саму родную планету. Выбран второй вариант… Понятно, что такая завязка вызывает массу вопросов как раз с точки зрения науки. Но автора явно больше интересует психология ситуации и переживания людей, живущих в эпоху столь масштабного потрясения.
Постройка гигантских двигателей, точные расчеты направления каждого плазменного луча, труд отдельного человека почти незаметен, но сообща совершаются грандиозные дела. Сразу вспоминаются популярные в наши дни рассуждения об отличительных чертах «цивилизаций риса», к числу которых принадлежит и Китай, — о выживании благодаря общему труду огромных коллективов (в одиночку нельзя создать и поддерживать оросительную структуру, необходимую для создания рисовых полей). Главный герой родился, когда Земля только прекратила свое вращение, и вырос, пока она начинала неспешно удаляться от Солнца. На Земле вовсю противоборствуют сторонники продолжения полета прямо на планете и те, кто хочет все же строить звездолеты. А те самые двигатели нарушают тектоническое равновесие, вызывая катастрофу… И до сих пор остаются те, кто не верит, что Солнце вспыхнет.
«Ускорение Земли, при поддержке гравитации, с каждым годом увеличивалось. Когда планета начинала восхождение к афелию, мы расслаблялись пропорционально расстоянию Земли от Солнца; с наступлением нового года, когда планета начинала свое долгое падение к Солнцу, наше напряжение росло с каждым днем. Всякий раз, когда Земля достигала перигелия, нарастали слухи, будто гелиевая вспышка неизбежна. Эти слухи упорно распространялись до тех пор, пока Земля снова не начинала двигаться к афелию. Но даже в то время, когда страхи людей стихали по мере того, как Солнце в небе съеживалось, следующая волна паники уже зарождалась. Казалось, моральный дух человечества качается на космической трапеции. Или, возможно, точнее будет сказать, что мы играем в русскую рулетку в планетарном масштабе: каждое путешествие от перигелия к афелию и обратно напоминало вращение барабана, а прохождение перигелия — спуск курка! Каждый спуск действовал на нервы сильнее предыдущего. Мое детство прошло в переходах от ужаса к расслаблению. По сути говоря, даже в афелии Земля никогда не покидала опасной зоны гелиевой вспышки. Когда Солнце взорвется, Земля медленно превратится в жидкость, а эта судьба гораздо хуже, чем вероятность мгновенно испариться в перигелии. А в Эру покидания одна катастрофа быстро следовала за другой».
Подобно тому, как старые дома имеют свою атмосферу, которая соткана из мыслей тех, кто там жил прежде, этот сад впитал в себя воспоминания об ушедших временах. Во всяком случае, так мне казалось в сгущающихся сумерках.
Но когда я сообщил об этом Гарри, он не поддержал мои сентиментальные рассуждения.
– Да, сказано красиво, – сказал он. – Но я нахожу твою теорию слишком фантастической.
– Думай как хочешь, – ответил я. – Я все равно уверен, что люди, живущие в доме, создают особую атмосферу. Ею пропитываются стены и полы дома, так почему не могут лужайки и клумбы – в саду?
– Все это ерунда, – засмеялся мой друг. – Как земля, дерево или камень могут перенять чьи-то качества? Но твоя мысль, пусть и ошибочная, интересна, и – знаешь, что? – у нас будет возможность проверить ее истинность. Завтра в этом саду будет совсем иная атмосфера, и мы посмотрим, что за эффект она произведет. Идем, я покажу, что имею в виду».
Эдвард Фредерик Бенсон. Книги Судей
Э. Ф. Бенсон — автор десятков книг, детских, юмористических и «страшных», многочисленных биографий и воспоминаний. О его жизни и специфике творчества в предисловии к этой книге («Странная история Э. Ф. Бенсона») рассказывает составитель Александр Сорочан.
«В автобиографии «Последняя редакция» (1940) Бенсон высказался так: «Истории о привидениях – литературный жанр, в котором я часто пробовал свои силы. Нетрудно вызвать у читателя неуютные ощущения, подобрав тревожные детали, – так, после тщательной обработки открывается путь к ужасу. Рассказчик, думаю, должен испугаться сам, прежде чем станет пугать читателей…» Кстати, в отличие от Джеймса, Бенсон давал весьма подробные описания зловещих существ, будь то червеподобные твари или иссохшие тела…
Почти все рассказы Бенсона отражают его жизненные обстоятельства. Почти всегда рассказчики – одинокие мужчины, не имеющие сколько-нибудь постоянных связей; в своих блужданиях по миру они сталкиваются с призраками и монстрами».
В книге — десять «страшных» рассказов и повесть «Книги Судей». В ней главный герой Фрэнк, прежде беззаботно живший в кругу художников, после знакомства со своей будущей женой предупредил ее, что его жизнь – не безупречна и между ними могут встать призраки. Тогда она ответила, что прошлое умерло и они его могут похоронить вместе. И пытался стать иным, достойным ее.
Но возможно ли похоронить прошлое навсегда? И однажды Фрэнк, прочитав «Доктора Джекила и мистера Хайда» и воодушевившись, решил, что он напишет свой портрет – своих личных Джекила и Хайда. При этом – в этих обликах по отношению к своей жене, Джекила с любовью и беззаботного Хайда. Автопортрет во всей своей красе. Но его темные стороны, прежние увлечения стали оживать. Напрасно жена надеялась, что работа над портретом покажет мужу, как глупы были его страхи и идеи. Она однажды спутала портрет со своим мужем, но потом у нее хватило сил ему помочь…
«– Есть феномены, которые люди, одаренные воображением, называют игрой подсознания, но на самом деле они так же материальны, как баранина, – продолжил Тони. – Например, призраки и предчувствия – они слишком обстоятельно описаны, чтобы мы, глупые ученые, отрицали их. Но ученые не могут объяснить эти феномены, поэтому теряют самообладание и списывают все на воображение, на несвежие котлеты из омаров или же говорят, что это случайность. Но как только ты поймешь теорию времени и пространства, ты осознаешь: призрак – это всего лишь некая проекция того, кем человек был раньше; эта невесомая полупрозрачная проекция пришла по эфирным волнам времени, точно так же, как по радио до тебя доходит звук из отдаленного места. Или, предположим, ты видишь во сне то, что и правда случится несколько дней спустя. Тут тоже ничего удивительного – изображение пришло к тебе из будущего. Говорить, что призраки, духи или предчувствия сверхъестественны, – значит, почти наверняка совершать ту же ошибку, которую совершил бы человек сотню лет назад, назвав телефон или радио сверхъестественной вещью. Но мы же знаем, что это не так.
Тони, как всегда доходчиво, изложил свою теорию. Но у меня появилось возражение по части ее применения.
– Как я понимаю, завтра мы наедимся, – сказал я. – И исколемся остролистом, торчащим из венков Марджери, которая так хочет воссоздать атмосферу. Но если волны времени действительно существуют и нечто из прошлого может путешествовать к нам по этим волнам, то при чем здесь неизбежное несварение желудка?
Тони рассмеялся.
– Ни при чем. Но, возможно, если мы как можно точнее воссоздадим условия, в которых люди проводили рождественскую ночь, веселясь, объедаясь и танцуя, то мы сможем создать благоприятные для передачи волны.
– И над этим ты сейчас работаешь? – спросил я.
– Более или менее. Я создал прибор… Но пока, насколько мы с Марджери знаем, нет никаких результатов. Впрочем… мой шофер отчетливо слышал кое-что из прошлого, когда прибор работал.
– И что же?
На секунду Тони задумался.
– Позволь мне промолчать, – сказал он. – Потому что скоро я покажу тебе прибор, и ты сам выяснишь, удастся ли что-нибудь почувствовать. Если я тебе расскажу, что случилось с моим шофером, это может подействовать на твое воображение.
– Но если что-то приходит из прошлого, – сказал я, – то, наверное, это должны ощущать все?
– Не обязательно. Здесь играет роль человеческий фактор. Некоторые люди слышат писк летучей мыши, а другие – нет. Некоторые люди видят призраков или духов, что суть одно и то же, но большинство людей – нет. То есть точно так же, как низкочастотные звуковые волны улавливают лишь немногие, а не большинство, так и волны времени способны принимать далеко не все. Те, кому это дано, видят или слышат что-то из прошлого, другие – увы. Но когда мы создадим приборы получше, без сомнений, временные волны будут доступны всем.
Должен признаться, что все это звучало странно, и я последовал за Тони в его кабинет, не испытывая особых ожиданий. Посреди комнаты стоял большой прибор, который я воспринял как нагромождение проводов, колесиков, цилиндров и батарей. Тони повернул ручку здесь, подкрутил винт там и наконец потянул рычаг. Раздался треск, немного похожий на тот, что издают рентгеновские аппараты, а затем – мягкий гул».
На самом деле, Кочевник просто считал любое помещение о четырех стенах тесным, душным и малопригодным даже и для овец. Загнать его в подобное место мог разве что голод (или нытье Птицы). Ей же, напротив, все здесь нравилось: и тяжелые полукруглые своды, похожие на перевернутую каменную чашу, и выскобленные чуть не добела столы, и запахи – чеснока, пряных трав, жареной рыбы, сидра – и гул голосов, неумолчный, как морской прибой, там, снаружи. Да, все здесь было ей по душе.
Вот если бы еще не эти взгляды.
– Не желаете ли отведать рыбы, дивная госпожа моя? Морских ежей? Мидий? Креветок? – спросил Трактирщик, а Птица, немного смутившись, ответила:
– По правде говоря, не особо, ахай. Я змей люблю, – она вскинула на него пронзительно-ясные, цвета полуденного солнца глаза и пояснила: – Ну, в смысле, есть люблю, а так – нет. А! И еще мышей. Мыши тоже, скажу я вам, очень вкусные!
– Мыши? – Трактирщик озадаченно потер затылок. – Нижайше прошу прощения, дивная госпожа моя, но не думаю, что здесь найдется хоть одна. Я стараюсь содержать трактир в чистоте.
Он выглядел искренне огорченным, и Птица распушила перья, кокетливо склонив голову. Она ценила учтивость, пожалуй, больше доблести и даже честности. Учтивость же человека опасного и сильного была приятна вдвойне.
Бритоголовый, как борец или наемник, с могучей шеей и тяжелыми предплечьями, он походил на обломок скалы, сошедший с лавиной, а, может, упавший с неба. Все платье его составляли короткий жилет тисненой кожи и холщовые штаны. Никакого оружия при нем не было. Да и зачем?
Он сам был оружие.
Дюжее медово-смуглое тело покрывали магические письмена, но по шрамам можно было прочесть куда больше – о тех горестях, что претерпел он, и бедах, что натворил. Птица могла заглянуть в прошлое его и в будущее, в его сны и мысли. Увидеть кровавый отблеск пламени на клинках. Услышать воинственные крики и стоны боли, визг боевых коней и разбойничий шепот во тьме. Но учтивость этого не позволяла, а учтивость она ценила почти превыше всего.
Хочешь что-то узнать – просто спроси».
Глория Му. Игра в Джарт
В фэнтезийных мирах теперь впечатляют не диковинные существа (которые, увы, не редкость), а персонажи с необычными судьбами, на месте которых читателям хотелось или не хотелось оказаться. В этом сборнике – три истории, три полноценные по объему притчи – повести «Аятори», «Последнее солнце», «Дорога до мечты», наполненные изящными словами и диалогами, разнообразными существами и разнообразными приключениями. В тексте переплетены фантазии на темы восточные и старинных европейских мифов, и легенд.
Аятори – название старинной японской игры, но здесь в тексте – скорее атмосфера Среднего Востока, загадочных ритуалов и древних традиций, неуточняемых недомолвок и неизбежных угроз. Таверна, верзилы в доспехах, Кочевник с Птицей. Говорящей. Вызванной шаманом из огня. Но маленькой. Хотя огненные птицы должны быть могучими – это же ездовые птицы богов и героев. А она – маленькая, и сидит на плече Кочевника, который, увы, и сам героем не выглядит. Зато у нее есть крылья. А Кочевник – персонаж с непростой судьбой (попал в рабство, бежал, был не хитрым, но упрямым) отправился искать свою невесту. А шаман стал ему пророчествовать, что сыновья его сыновей оседлают мир, но Кочевник хотел жить мирно. Кочевник и Птица – та еще необычная парочка, и ждут их непростые встречи и наваждения.
«Последнее солнце» — история Минотавра; рыцарей, бившихся с воинами халифа; рыцарей, жаждавших без промедления сразиться с чудовищем. В «Дорога до мечты» рассказывается, как гроссмейстер Ордена Быка и Чаши возлюбил одну девицу, которая была демоном. И тут-то явилась королевская армия во главе с королем….
«Его встречали – редчайший случай! – проклятиями и бранью, и беспокойство, вызванное прибытием злосчастного судна, никак не унималось, а, напротив, расползалось по всему порту, и даже городу – как расползается опасная зараза, завезенная из дальних, чужеземных краев.
Из шлюпа выбрались трое. Взгляды их были так же надменны и тяжелы как поступь. Блистающими драконьими крыльями бились от ветра плащи – алый, белый и золотой. Ладони лежали на рукоятях обоюдоострых топоров, висевших у пояса, и намеренно выставленных напоказ. Это можно было счесть ненужной заносчивостью, а можно – и необходимой предосторожностью, ибо страх, внушаемый повсеместно рыцарями Быка и Чаши, столько же укрощал толпу, сколько и будоражил.
Рыцарям плевали вслед, проклинаемые же рыцари равнодушно зашагали прямиком к трактиру «Лепесток Ветра». Впереди шел мечник в алом плаще. Рослый, светловолосый, он отличался спокойной решимостью движений, свойственной людям, с детства привыкшим противостоять опасности и собственному страху. Два шрама перечеркивали, почти сводили на нет красоту юного лица. Человек несведущий счел бы его предводителем этого маленького отряда, но человек сведущий объяснил бы, что первый удар в битве обычно принимали на себя рыцари низшего ранга – самые молодые и самые никчемные, и это было вполне разумно. Безудержная отвага молодых если не сокрушала, то устрашала врага, а у никчемных появлялась возможность переиграть судьбу, или хоть погибнуть с честью».
В отделе древностей Лувра хранятся подвески, по мнению историков относящиеся к этрусской культуре. Они напоминают изделия, которые до сих пор носят в Тамилнаде. Индия — это путешествие в Прошлое. Она сберегла для потомков не только сари, но и украшения, тех культур, которых уже нет.
Индийские броши из Симлы — оригинальны и... напоминают старинные серебряные броши Ирландии, на ассирийских барельефах видны серьги — подобные тем, что носят в Гуджарате. Браслеты и пояса, найденные в Мохенджо Даро и Хараппе схожи с древнеегипетскими и вавилонскими. Даже некоторые браслеты ацтеков и майя, живших на расстоянии тысяч миль от Индии, имеют похожий дизайн».
Арти Д. Александер. Fashion India. Энциклопедия
Это подробная и увлекательная энциклопедия истории, культур, искусств и психологии Индостана, наглядно демонстрирующая влияние этой загадочной цивилизации на современность. В старинных христианских картах в центре земли размещали Иерусалим, на востоке (за непроходимыми горами) — рай, откуда вытекают четыре реки: Геон (Нил, истоки которого относили в Индию), Фисон (Ганга), Тигр и Ефрат. Самое раннее изображение одного из самых загадочных существ Древности — единорога, впервые встречается на печатях Хараппы и Махенджо Даро. Он упоминается в «Атхарваведе», в «Махабхарате», в книге «Луцидариус» («золотой бисер»). Греческие, а впоследствии римские философы и историки (Аристотель, Плиний Старший) считали родиной единорога Индию.
Искусство Древней Индии осталось не только в величественных сооружениях и в строках «Рамаяны», но и в элементах повседневности, порой могущих открыть больше, чем философская система или религиозный ритуал. Как служат ткани и украшения из индийских мастерских великим кутюрье, западной киноиндустрии, студиям и театрам, домохозяйкам, рукодельницам? После мирового успеха индийских фильмов, взоры многих современных творцов моды вновь обратились к сари: «Если присмотреться внимательно к историческим и фантастическим фильмам, сериалам и сагам («Александр», «Звездные войны», «Вавилон 5», «Зена – королева воинов», «Динотопия» и т.д.), очевидно, что большинство костюмов создано из тканей индийского происхождения — сари с каймой, парчи, шелка и хлопка». Атмосфера старинных легенд и история, присутствующая в книге, не загружена терминологией, она позволяет читателю постичь традиционное искусство путем духовного прикосновения к предметам и вещам, сохранившимся в том или ином виде до наших дней.
Притягательность Индии в том, что ее жизнь постоянно пребывает в неразрывной цепи описанных символов и событий: от таинства аромата цветка до свадебной церемонии, гороскопа новорожденного, легенд о богах, племенных мифов «охотников за головами», или фольклора и пожеланий – запечатленных в вышивках шалей и узорах индийских ткачей. Необычно элегантны ткани с изображением грациозных ланей скопированных с древних наскальных рисунков, улыбчивые лики Солнца и Луны в ювелирных украшениях, вновь вошедшие в моду «тату» — с племенными элементами...
Легендарное высказывание об Индии — «Если есть где-либо рай на Земле, он здесь, он здесь!». В 1639 г. началось строительство Красного Форта (Лал-Кила) в Дели, куда владыка империи Великих Моголов Шах-Джахан перенес свою столицу из Агры.
В Форте расположен дворец Диван-и-Кхас — изящный мраморный павильон со входами в виде зубчатых арок. На одной из них и выгравировано это изречение Шах Джахана, видевшего и владевшего многим...
Когда-то климат на месте нынешнего Дели не был таким засушливым и люди не спеша путешествовали из города в город, из страны в страну, открывая для себя новое, полное загадок, и «чудом из чудес», далекой жемчужиной романтиков Средневековья и Возрождения была Индия.
«В битве, решившей на века судьбу «Золотой Бенгалии» (а после — и всей Индии) — Плесси (Палаши), потери англичан под предводительством Клайва составили: 7 убитых и 13 раненных европейцев, а также 16 убитых и 36 раненных сипаев.
Роберт Клайв, бывший мелкий клерк с дурным характером, не был великим полководцем — судьбу войны решило предательство индийского военачальника, так и не принесшее изменнику реальной власти, а позже — лишь трагическую смерть его сыновей от рук англичан.
Клайв, награбивший в Индии огромное состояние, по возращении в Лондон так и остался выскочкой, «набобом» — которых высмеивали театры и газеты за дурные манеры и желания получать пышные почести и титулы, подобные тем, которые они имели на Востоке.
Умер он «в результате апоплексического удара» (говорили о самоубийстве), отказавшись незадолго до этого от предложения короля возглавить английские войска в Америке».
Наиболее важный с военной точки факт нашего столетия – отсутствие способов отбить нападение из космоса…
В течение пятнадцати лет проблема нехватки жилья будет решена прорывом в новую технологию, благодаря которой все существующие дома покажутся такими же устаревшими, как уличные уборные. Вскоре наличие жилья будет чем-то само собой разумеющимся…
К концу века человечество уже изучит Солнечную систему, и будет строиться корабль, способный достигнуть ближайшей звезды…
Какая-то разумная жизнь будет найдена на Марсе…»
Списки на заметку. Уникальные списки с древности до наших дней. Составитель Шон Ашер
Этот большой фолиант — сборник различных списков, которые составляли известные и не очень люди, их это планы на будущее и руководство для своих детей и даже для потомков. Первая цитата – это прогноз на будущее, сделанный Робертом Хайнлайном в 1949 году. проверяем, насколько сбылось. Помимо этого, можно узнать, как достопочтимый сэр Исаак Ньютон вел учет грехов, а «граф» Виктор Люстиг перечислил десять заповедей мошенника.
В 1851 году Чарльз Диккенс с семейством поселился в Тависток-хаус. Но ему не хватало книг, что заполнить все имеющиеся в доме полки. Тогда вместо покупки книг он заказал местному переплетчику фальшивые книги, названия которых сам придумал:
«Искусство резки зубов»;
«Склочное обозрение». 4 тома;
«История очень средних веков». Шесть томов;
«Сорок подмигиваний пирамидам». Два тома;
«Книга банальностей от старожилов». Два тома;
«Пять минут в Китае». Три тома…»
В книге – более сотни самых разнообразных списков, представляющих собой как правила жизни и лучшие воспоминания, это планы на будущее и руководство для потомков. К каждому из списков прилагается дополнительная информация о том, как и почему был написан.
А как вам необычные идеи Лавкрафта, которые он записывал, чтобы затем использовать в своем творчестве? Вот некоторые из них:
«Страшная история: скульптурное изваяние руки — или другая искусственная рука — душит своего создателя…
Отвратительный звук в темноте….
Человек путешествует в прошлое — или в воображаемую реальность, — оставляя телесную оболочку позади…
Двери, оказывается, таинственным образом открываются и закрываются и т.д. – вызывает ужас…
Странный ночной ритуал. Твари танцуют и маршируют под музыку…
Раса бессмертных фараонов, живет под пирамидами в обширных подземных залах под черными лестницами…
Перенос личности.
Человек, преследуемый невидимым чем-то…
В крайне фантастическом тоне: человек превращается в остров или гору».
Новое хорошо подготовленное наступление англичан оставшийся один 18-й корпус не выдержал. Спешно отозванный из Персии 13-й корпус лишь был увлечен общей волной поражения. Англичане с победой вступили в Багдад».
Воспоминания с Ближнего Востока 1917–1918 годов (составители В. Баумгарт, В. С. Мирзеханов, Л. В. Ланник)
В тексте подробно описываются османские военные кампании в Месопотамии и на Кавказе в ходе Первой мировой войны, планы по отвоеванию Багдада, Тебриза и Баку. В мемуарах Эрнста Параквина, офицера германского Генерального штаба, назначенного летом 1917 года начальником штаба 6-й османской армии, действовавшей в Месопотамии, потерявшей Багдад, ставилась невыполнимая задача – отвоевать его обратно. В сентябре 1918 года группе армий «Восток», в штабе которой был Параквин, удалось взять Баку, что стало последней османской победой в Великой войне.
Энвер-паша, военный министр Османской империи, еще в 1914 году планировал театр военных действий за счет мятежа в Персии и создания угрозы британской Индии. Уже в 1914 года представители Германской империи предпринимали действия в Персии и Афганистане для того, чтобы эти старины вошли в союз с Центральными державами и на их территориях началось борьба с англичанами.
После падения в Тегеране настроенного прогермански правительства Хасана Мостофи 24 декабря 1915 года, с помощью Германской и Османской империй было создано «временное правительство Персии», под руководством Реза Коли Хана Незама аль-Салтане, губернатора Лорестана, первоначально базировавшегося в Керманшахе. Германский дипломат Филипп Вассель стал в 1916 году посланником Берлина при этом «временном персидском правительстве».
В Приложение V приводятся воспоминания Оскара Альберта Грессмана генерала и паши. Этот генерал-лейтенант был вызван в июне 1916 года в Ставку, где ему сообщили, что он получил пост германского уполномоченного в Месопотамии. В своих мемуарах Грессман упоминает, что в Персии немецкими и турецкими агентами распространялись слухи, что том, что «только насилие со стороны русского и английского послов помешало шаху лично возглавить дело освобождения народа, поэтому надо образовать временное правительство во главе с Низам-н-Салтане, которое и выражает истинную волю повелителя…
После того как мы подкрепились, я, как и планировалось, поехал на устланном роскошной попоной жеребце в город, резиденцию «Временного правительства Персии». Это был театр, продолжившийся во время приема «Его Высочеством». Формирование параллельного правительства было столь же авантюрным, как и вся персидская затея. Если бы найти хотя бы одного человека, исполненного высокого национального чувства, пользующегося всеобщим уважением, обладающего силой воли и готового поставить все на кон ради свободы своего Отечества! Но ничего из этого не было у Низам-н-Салтане.
Он разбогател на весьма выгодном посту губернатора, точнее — сборщика податей в провинции, очевидно с самого начала сознавая всю слабость своего положения и рассматривая принятие на себя «правительственных функций» как инструмент для удовлетворения личных интересов. Выделенное с германской стороны весьма существенное пособие ему, видимо, казалось недостаточно большим. В любом случае он попытался воспользоваться возникшими противоречиями между немцами и турками, пустившись в отчаянную игру ва-банк ради наживы.
Чем же были вызваны разногласия? Во-первых, вследствие уже описанного выше разочарования турок из-за не удавшейся «германской миссии», но с недавнего времени еще и по политическим причинам: турки полагали занятую ими часть персидской территории желанным залогом на будущее. Персия должна была отойти в сферу интересов Турции. Присутствие влиятельных германских эмиссаров и их воздействие на ход событий были для них просто бельмом на глазу.
Германские деньги, которыми оплачивались основные расходы по содержанию армейского корпуса, а также поставки военных материалов принимали охотно, но в остальном нас просто хотели послать к черту».
«Не печалься, ведь есть «Гулистан»,
В нём немолчно поёт соловей.
Прикоснись к пожелтевшим листам
Книги, осени, жизни своей».
Дмитрий Щедровицкий. Прозрачное русло
В этот сборник включены избранные стихотворения видного современного библеиста, переводчика, философа, поэта Дмитрия Щедровицкого, созданные в период с 2011 по 2021 год. Многие поэтические произведения публикуются впервые. Стихи посвящены размышлениям о человеческой душе, переживаниям и сомнениям, озарениям и открытиям. И, конечно, поиску ответов на вечные вопросы, связанные с устройством мироздания и местом человека в нём. В ряде стихотворений заново переосмыслены легенды и предания разных народов нашей страны – таков, к примеру, цикл «Марийские мифы». В этих строках древние боги-демиурги соседствуют с людьми, занятыми обычными делами. Там созидается земля, а тут бортники, искатели дикого мёда, идут на свой промысел. Но автор непременно отмечает, что только чистым душой и сердцем будет сопутствовать удача, только им «золотая пчёлка – Мюкш» дарует настоящий хороший мёд.
Есть в стихах Дмитрия Щедровицкого и восточная тема. Например, история старого бедуина, который привык, что воды в пустыне мало и она невкусная, а однажды обнаружил среди скал «под известковой коркой» целый ручей, пусть и мутноватый. Бедуину это показалось настоящим чудом, и он поспешил в Багдад к халифу Аль-Рашиду. Простодушный старик был уверен, что нашел ручей, текущий из рая, и воду из него он поднес халифу как великий дар…
Водички мутной Аль-Рашид
Отпил — едва не поперхнулся,
Но показал счастливый вид
И бедуину улыбнулся,
И стражу верному шепнул:
«Его домой доставить надо —
Чтоб он и мельком не взглянул
На Тигр, текущий средь Багдада,
Чтоб даже не поднёс к устам
Воды, сыздетства нам знакомой,
И чтоб помешанным не стал,
На горе племени родному.
Скажи: халиф ему даёт
Сто золотых — пусть век пирует,
И титул Стража райских вод
Ему пожизненно дарует!..»
Единственный полный (6-томный) перевод «Шахнаме» сделала Цецилия Бану, жена Абулькасима Лахути, который и был инициатором этого перевода.
В послевоенный период Лахути опубликовал три книги избранных стихов. Перевел на таджикский язык произведения А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, В.В. Маяковского, У.Шекспира, Лопе де Вега и других писателей. Опираясь в своем творчестве на традиции классической персидской и таджикской литературы, Лахути вместе с тем смело вводил в поэзию новые строфические формы, размеры, построенные на фольклорной основе. Сочинение Лахути многократно издавались в переводах на русский язык, языки других народов СССР и зарубежных стран.
Говоря о поэзии первого периода иранской революции (1905–1911), нельзя обойти вниманием творчество Лахути. Стихи молодого поэта, публиковавшиеся в еженедельнике «Северный ветерок», направлены против власти Каджаров, в частности, против Мохаммада Али-шаха. В этот же ранний период своего творчества Лахути издавался и в различных газетах, в том числе в популярной в то время «Иране ноу» («Новый Иран»), выходившей в Тегеране».
Иранская поэзия XX–XXI веков: хрестоматия
В семи главах этой книги составители показали, как развивалась иранская поэзия — начиная с Конституционной революции начала ХХ века и до нашего времени. В предшествовавший революции период стихи многих поэтов отражали надежду на освобождение от безграничного самовластия каджарских шахов и их приближенных, от алчности западных дельцов, от нищеты и бесправия. Кроме этого поэты считали своим долгом способствовать просвещению народа, выпуская не только стихи, но и документальные произведения, знакомившие читателей с основами естественных и общественных наук. После начала Конституционной революции поэтический язык стал ближе к повседневному разговорному, социальные и общественные темы заметно потеснили лирику.
В начале ХХ века появилась и литература, предназначенная для детей. Ее основой стали сказки и колыбельные песни, ранее существовавшие как устное народное творчество. Первым иранским поэтом, специально сочинявшим для детей, стал Ирадж Мирза. Его стихи были построены как диалог наставника и ребенка. Знаменитый Абулькасим Лахути тоже написал ряд детских произведений, опираясь на фольклорные образцы. А Хойсен Данеш, автор книги «Джунгли», переосмыслил для иранских детей ряд сказок и басен французского писателя Лафонтена.
Характерной чертой новой иранской поэзии стало сочетание актуальной тематики с традиционными для классического персидского стихосложения формами (газель, рубаи, кыт а ‘, тасниф).
«Форуг Фаррохзад родилась 5 января 1935 г. в Тегеране, в семье военнослужащего. До третьего класса она проучилась в школе «Хусрав Ховар», затем была переведена в женскую школу изящных искусств и там освоила портняжное ремесло и искусство рисования.
В 17-летнем возрасте Форуг вышла замуж за сатирика Парвиза Шапура, который был старше ее на 15 лет, но вскоре развелась с ним. Стихи Форуг начала писать в 13–14 лет, в основном в жанре газели. Ей было 17, когда вышел в свет ее первый сборник стихов под названием «Пленница» (1955); В 21 год была издана ее вторая книга стихов под названием «Стена». В 1958 г. увидел свет третий сборник ее стихов «Восстание». В сентябре 1958 г., в возрасте 23 лет, Форуг ушла в кинематографию, и с этого времени киноискусство заняло в ее жизни важное место. За сравнительно короткое время она всецело освоила технику кино».
Но посланец, отправленный к незнакомцу, вернулся ни с чем: тот, ушедший в свои мысли, не пожелал ни слова молвить. Ростеван был удивлён и обижен: что ж это за невежа такой!
И тогда уже не один, а двенадцать челядинцев поскакали к чужеземцу. И вновь он поначалу не обратил на них внимания, а когда стали они настойчивей, взмахнул плетью и, даже не вынимая из ножен меча, разметал всю дюжину по сторонам. Потом огляделся кругом, словно очнувшись и прозрев, воскликнул: «Горе, горе!» — и, натянув поводья, пустил вороного вскачь.
Ростеван с челядью и гостями кинулся догонять его, да не тут-то было: воин, облачённый в тигриную шкуру, бесследно скрылся в тумане. Тяжёлые мысли охватили Ростевана. Не до охоты стало ему, не до веселья. Мрачно удалился он в свою опочивальню и долгие дни оставался там, никого к себе не допуская. Всё думал: кто же этот незнакомец, внезапно появившийся и мгновенно исчезнувший, словно свалился с небес и провалился сквозь землю, — человек или дьявольское наваждение? В чём тайный смысл тигриной шкуры, в которую он облёкся? И что означали слова «горе, горе»? О своей беде вёл он речь или другим пророчил несчастье? Не самому ли Ростевану и его Аравии?»
Шота Руставели. Витязь в тигровой шкуре: Пересказ Николая Голя
Знаменитое произведение, созданное на рубеже XII и XIII веков грузинским поэтом Шота Руставели и посвященное им легендарной царице Тамаре, представлено в этом красочном издании в пересказе для юных читателей. Сюжет его хорошо известен. Аравийский властитель Ростеван на склоне лет решает передать власть своей единственной дочери по имени Тинатин. И его советники соглашаются с таким решением, говоря, что дитя льва всегда остается львом, неважно какого пола.
В честь коронации новой царицы был устроен большой пир, а потом охота. И тогда Ростеван увидел незнакомого юношу, который выглядел как благородный воин, но был погружен в глубокую печаль и никого не желал замечать. Слуга, посланный Ростеваном, чтобы узнать, кто этот витязь, и пригласить его на праздник, не отважился заговорить с незнакомцем. А тех, кто был послан, чтобы силой привести неучтивого, воин расшвырял, даже не обнажив меча. Ростеван сам впал в тоску, заподозрив в этой странной встрече дурное предзнаменование для будущего своей державы. Царица Тинатин, чтобы рассеять опасения отца, поручает военачальнику Автандилу, давно и безнадежно влюбленному в нее, найти загадочного незнакомца и узнать, кто он такой…
«В разных краях побывал Автандил, повсюду расспрашивая о воине в тигриной шкуре, но даже следа его не нашёл. «Неужели, — горько вздыхал аравийский спаспет, медленно проезжая верхом через пустынный дремучий лес, — мне придётся воротиться назад ни с чем? Что скажу я любимой и какой смогу ждать награды?» Вдруг ему показалось, что за густой листвой мелькнула фигура какого-то всадника. Заставляя коня ступать по толстому мху, чтобы не было слышно звука копыт, Автандил подобрался поближе и с восторгом убедился, что каким-то чудом настиг того, кого искал так много дней. Собрался было на радости поприветствовать воина, облачённого в шкуру тигрицы, но вовремя вспомнил, как встречает тот назойливых незнакомцев, и решил незаметно двигаться следом. Шаг за шагом миновали они лесную чащу и оказались в каменистой местности. Укрывшись за скалой, Автандил наблюдал. Всадник пересёк быструю не широкую речку и пустил своего вороного по крутой тропинке к широкой горной площадке, на которой раскинуло ветви дерево алоэ, а за ним зиял вход в пещеру. Из неё на шум копыт вышла девушка. С молчаливым вопросом обратила она глаза к воину в тигриной шкуре. Тот, сидя в седле, погладил её по чёрным волосам и ответил на невысказанные слова:
— Нет, Асмат, опять нет. Горе, горе!
— Мой господин, — вздохнула та, — спешься, отдохни.
— Не сейчас, — ответил конный. — Я собираюсь съездить ещё вон туда. — И указующе махнул рукой.
— В ту сторону ты ездил уже сотню раз, — сквозь слёзы сказала девушка.
— Хоть тысячу. Как и в три остальные. Но никогда не надо терять надежду».