10. В рубрике «Критики о фантастике» на стр. 70-71 напечатана интересная статья критика Роберта Клементовского/Robert Klementowski:

Литературными бестселлерами прошлого года были, вне всякого сомнения, “Narrenturm” Анджея Сапковского и “Extensa” Яцека Дукая. Сразу же признаюсь, что книги обеих авторов я принял со смешанными чувствами. Проблема эта была бы исключительно моей, если бы не сравнение собственных ощущений с рецензиями.
Оценка столь иррациональной формы, как литературный текст – трудное занятие. Как и в каждой области человеческой жизни, в литературе при попытке оценки выходят на первый план личные вкусы читателя. Это присуще также всякому критику, сколько бы он ни силился удержаться в рамках так называемого объективизма. Однако, будучи оснащенным исследовательскими инструментами, он способен обосновать свои преференции. Личность критика отражается в рецензии, которая не претендует на ранг бытия незыблемой, единственной истиной, но должна обратить внимание потребителя на достоинства и недостатки литературного произведения.
А как быть, однако, когда рецензии лишь незначительно отличаются друг от друга? Когда рецензенты манипулируют избитыми стереотипами вроде “книга наводит на размышления”, “автор прекрасно владеет языком” и тому подобное. Мне уже издавна кажется, что появляющиеся в печати рецензии польской фантастики такие бесстрастные, такие корректные, такие безудержные в своем стремлении к объективизму, что в результате у того, кто их читает, появляется ощущение повторения, наслоения одинаковых формулировок, информационного шума.
Меня беспокоит та тенденция к конформизму, которую я наблюдаю. Литература, которая выходит из печати во все большем количестве титульных названий, не подлежит дискуссии. Развлекательную литературу, если она хорошо написана, нет смысла обсуждать. Ибо она написана не для обсуждения, а для забавы, и если выполняет свое назначение – спасибо ей за это. Романы Дукая и Сапковского трудно отнести к этой категории. Однако заслуживают ли они однозначно теплых и позитивных рецензий? Продвижением авторов пусть занимаются издатели – на то они и существуют.
Разумеется, возникает вопрос: с какой точки зрения следует оценивать результаты творческой работы? Вопреки мнению, которое, как мне кажется, разделяет большинство рецензентов фантастической прозы, в основу оценки книги (а также фильма или другой формы искусства) не может ложиться общее состояние явления, описываемого термином “фантастика”. Прежде всего, нужно смотреть на произведение автора. Это он должен защищать самого себя своим творением, иначе придется вновь и вновь перемалывать из пустого в порожнее, говоря о фантастике, как о стадном явлении.
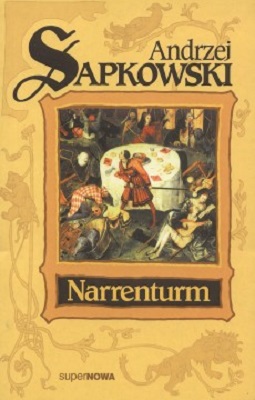

Осмелюсь утверждать, что Анджей Сапковский так никогда и не повторил успеха сборника “Miecz przeznaczenia”. “Narrenturm” никоим образом на это утверждение не повлиял. То, что эта книга солидно сработана – неоспоримый факт. Повинуясь первому порыву, я назвал этот роман “кратким курсом средневековых мотивов, приспособленных к возможностям восприятия современного читателя”. Вот что мы здесь имеем – историю человека, в ускоренном темпе перемещаемого по силезским землям для того, вероятно, чтобы читатель имел возможность познакомится с очередными героями, местностями, сюжетными поворотами. И в результате все это получилось мимолетным, поверхностным, политым фантастическим соусом, временами скучным.
И, кстати говоря, вплетение фантастических сюжетных линий в квазиисторическое повествование показалось мне натужным, делавшимся насильно, словно автор хотел втиснуться в роль постмодерниста, смешивающего конвенции. Это одно из наиболее любимых в последние без малого десять лет определений-отмычек. Вот только боюсь, что в случае Сапковского намек на интертекстуальность – рискованное предприятие. Ну в самом деле – можно ли сравнивать, например, спокойную, насыщенную отвлечениями от темы прозу Умберто Эко с приключенческой в большей ее части книжкой Сапковского? Думаю, что Сапковский в достаточной мере хороший писатель, чтобы не искать образцы для подражания. Ведь в крайнем случае интертекстуальность может привести к абсурду. “Знание условности должно цениться ниже, чем умение творчески ею пользоваться”, — писал Стофф об одной из книг Фиалковского. Тут ни прибавить, ни убавить.
Означает ли это, что книга плохая? Думаю, что использовать оценки такого типа в отношении литературы не стоит. В задачу критика входит показ читателям литературного произведения прежде всего ошибок, сюжетных мелей и недостатков аргументации. Вопреки видимости речь идет не о «заземлении» произведения – поскольку не все произведения предоставляют возможность дискуссии об их достоинствах и недостатках.
Трудно трактовать “Narrenturm” как энциклопедию знаний о средневековье, особенно потому, что Сапковский конструирует своих героев по образу современного человека. Однако он показывает нам Шленск XIV столетия, как яркую, красочную эпоху, не имеющую ничего общего с утвердившимся в сознании большинства людей понятием «мракобесие». Книга подтверждает то, что я однажды уже писал о творчестве Сапковского: в том моменте, когда он останавливается на чем-то дольше и начинает играть персонажами, его проза набирает румянца. И то, что действительно важно – в ходе чтения сохраняется приятная уверенность в том, что сюжет зиждется на глубоких знаниях автора об эпохе.
За это же примерно я ценю и Дукая. Лишь немногие наши авторы умеют использовать глубокие знания предмета для создания несуществующего мира. В случае Дукая, мне кажется, знания иногда даже ему мешают. В результате я завершил чтение повести “Extensa” худшим для читателя способом – вопросом: “Ну и что из этого?”

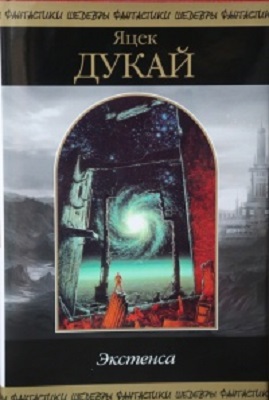
При оценке произведения кое-кто поговаривал об оригинальности. Но оригинален ли Дукай на самом деле? Психологическая фантастика сопутствует нам по меньшей мере с начала прошлого века (Жулавский), изменения в человеке под влиянием Контакта тестировались на переломе 70-х – 80-х годов (Холлянек, Орамус), вброс читателя в создаваемый фантастический мир без подготовки – это тоже уже было. Поэтому новаторской повесть “Extensa” ни в коем разе не назовешь.
Автор рассказа “Złota Galera” предложил нам творческий замысел, растянутый в повесть, чего делать совершенно не стоило. При восприятии фантастики подчеркивается необходимость отказа от недоверия к описанию событий. Эту максиму следует, однако, расширить – это в равной степени должно относиться и к психологической правдоподобности героев. В намерения автора входил, как мне кажется, показ драмы человека в его столкновении с неизвестным, неизбежность судьбы, нечто вроде предопределения. Заставил ли он меня, как читателя, поволноваться за героя, сопереживать ему? К сожалению, нет, ни в малейшей даже степени.
Драма литературного героя всегда разыгрывается через конфликт – с повседневной действительностью за окном, другим героем, наконец с самим собой. Когда внешний мир остается неописанным (а это неизбежно в случае фантастического произведения), а внимание автора сосредотачивается на протагонисте, приходит ощущение неправдоподобности мотивации поведения героя.
Я весьма сомневаюсь в необходимости применения в литературе насыщенного научными терминами языка для описания внутреннего состояния человека. Дукай отступает от темы, растекаясь мыслью над меандрами психики героя, кидаясь из крайности в крайность, от пафоса до банальности через какие-то мрачные в его понимании области подсознания и рисуя в результате образ героя, подвергнутого клиническому исследованию. Разговор о герое в значительной мере напоминает холодный врачебный диагноз, который имеет мало общего с литературой. Некоторые хотят видеть в этом Лема. Они, однако, ошибаются. Произведения Лема служили описанию человека в общественной шкале, поискам ответа на вопрос о причинах, способах деятельности, будущем человеческой расы, цивилизации. Там же, где Лем анализировал индивидуума, он делал это гораздо более чисто и прозрачно.
Хорошим ли языком написана книга? А что это значит? Чего мы должны ожидать от человека, который решается на занятие писательским трудом? Мы что, должны благодарить писателя за то, что он правильно употребляет слова в письменной речи? Уж увольте.
“Возбуждение пробежало по cerebrum lunae волнами, скорость которых превышала скорость света, когда Пальцы начали докладывать о молекулярных конструктах, напоминающих детекторы квантовых редукций, используемых для регистрации эффекта Рейнберга/Эйнштейна-Подольского-Розена в репрозионных зернах; о конструктах, обнаруживавшихся тем чаще, чем глубже я погружал в Аномалию Пальцы, чем больше она вокруг густела”. Прочтите этот отрывок, не переводя дыхания. Да простит мне автор – это невнятный лепет. Когда подобным образом писал Жвикевич, в его прозе было, однако, больше прелести. В случае его романа “Druga jesień” можно было бы говорить о поисках формы, в которой отражались бы распад мира и борьба человека за самосохранение. Жвикевич допускал победу человека, используя множество литературных приемов, форм изложения, он придавал описываемому миру реальности, вещественности, осязаемости. Дукай не сумел этого сделать. У него проблемы с ясным изложением истории, он забывает, что литературное произведение – сообщение, которое читатель примет или отвергнет.
“Сами размеры этого мозга – воистину астрономические – представляли бы собой ограничение и замедляли бы и усложняли процессы мышления, если бы не обильный посев репрозионных молекул, последней еще не использованной партии из оригинального Зерна, которая на заре истории вошла в алый лес и распространилась по всему неокортексу наряду с ростом корневой системы леса, так что теперь и его внутренние мыслительные процессы осуществлялись со сверхсветовыми скоростями, перескакивая от модуля к модулю свозь тысячи репрозионных ворот”. Уф-ф-ф…
Писатели, а в еще большей степени фэны прикрываются понятием licentia poetica, служащим чаще всего ширмой для графоманов. Существует, однако, и вторая сторона медали – автор, публикуя свое творение, отдает его читателям на их суд. И не говорите мне, что ему все равно, что они о нем скажут.
С критикой дело обстоит так же, как с литературой – ее тоже в конце концов оценивают читатели, соглашаясь с ее тезисами или нет. Добросовестность, однако, требует показа аргументов и за, и против. Мне кажется, что во многих критических статьях проскальзывает опасение перед слишком острым показом претензий, своего рода “политическая корректность”. О том, что можно писать иначе, свидетельствуют критические тексты, написанные со страстью и легко распознаваемые. И, что важнее всего, -- являющиеся продолжением книги, пополняющие знания читателя, становящимися полем для дискуссии над рецензируемой книгой. Нельзя от этого отказываться!

P.S. Э-э-э… Немного информации к размышлению над «Башней шутов» Сапковского:
«Литература фантастическая оперирует выдуманными героями на выдуманном фоне.
Литература историческая обращается к реальным героям, но помещает их в выдуманный антураж.
И чем более убедительно выдуман автором антураж, мир исторического героя, реалии, в которых он существует, тем удачнее исторический роман. Любая попытка честно и дотошно воспроизвести мир, где действует Александр Македонский или Наполеон, губит роман на корню. Даже попытка заставить героев изъясняться на языке того времени отпугивает читателя.

Придуманный, фантастический мир, в котором существует герой фантастического романа, желательно сделать как можно более близким к миру читателя, а язык, на котором говорят соратники Александра Македонского или Дмитрия Донского, должен быть нашим, современным, удобоваримым языком.
Лучшие из исторических писателей – Фейхтвангер, Дюма или Алексей Толстой – об этом знали и измывались над исторической точностью, как им хотелось» (Кир Булычев).


