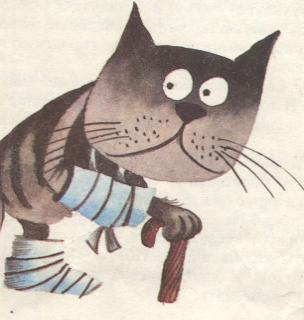В купе нас было четверо: плечистый, атлетического сложения доктор наук со значком альпиниста, молодой, очень самоуверенный педагог, лобастый школьник лет двенадцати и я. Как только поезд тронулся, школьник примостился на верхней полке, достал из кармана затрепанную книжку и затих.
— Что это у тебя? — наставнически сурово спросил педагог.
— Про чекистов, — пробормотал мальчуган, с усилием отрываясь от книги.
— Интересно?
— Ага, — кивнул тот. На этот раз он не пошевелился, — очевидно, чекисты уже напали на след врага.
— Вот, вот! — хмуро сказал педагог. — Попробуйте отвлечь его от такой беллетристики, дать Тургенева, Гоголя! Запретить, запретить надо выпуск этих бесконечных схваток с диверсантами и уголовниками!
— Позвольте, — вмешался ученый. — Когда мне было столько же лет, сколько ему, — он показал на мальчугана, — я нашел на чердаке корзину с книгами. Спрятал их там мой отец, спрятал от меня. Считал, что мне рано их читать. Были там и уголовные романы. Представляете, как я набросился на них! Классики, учебники — все было забыто. Отец мой поступил умно, — он дал мне некоторое время переболеть, потом положил передо мной книжку. Вот, говорит, вещь! Куда твоему сыщику Пинкертону! Смотрю — «Страшная месть или ночь на Ивана Купалу». Действительно, здорово! Проглотил я «Вечера на хуторе близ Диканьки», а потом, знаете, с разгона, с ходу одолел «Мертвые души». Понравилось! Я к чему это рассказываю… Надо уметь направлять детское чтение.
Педагог молчал.
— Конечно, это нелегко — направлять, — продолжал профессор. — Мне думается, воспитателям полезно было бы вспомнить, какие они сами были в детстве. Что их привлекало в детективе, в описаниях боевых походов и путешествий.
— Со мной в детстве были герои Жюля Верна, Дюма, Купера, Конан-Дойля, — сказал я.
— В мои школьные годы, — холодно заметил педагог, — приключенческой литературы было мало.
«Не потому ли он такой сухарь?» — подумал я.
— Я очень, очень многим обязан таким книгам, — с жаром сказал ученый. — Я географ. Приключения героев моего детства — Зверобоя, Дерсу Узалы — помогли мне найти призвание. Я и сейчас люблю этот жанр литературы. Собрал приключенческую библиотеку. Сейчас она доставляет мне отдых, развлечение. Так вот, — давайте-ка вспомним, в чем заключалась для нас ценность литературы о приключениях, в чем секрет ее прямо-таки волшебной притягательной силы?
Наш юный спутник на верхней полке не обращал ни малейшего внимания на нашу дискуссию, — губы его беззвучно шевелились, кулачки сжимались, он целиком ушел в опасный поиск, видел себя отважным, находчивым чекистом.
— Романтику ищут, — иронически произнес педагог.
— Я помню, — доктор наук отставил недопитый стакан с чаем, — мне хотелось быть сильным и смелым. В двенадцать лет это было самое могучее мое желание. И в книгах я находил живые примеры. Мой идеал вставал передо мной.
— Верно, — согласился я. — Мне в этом возрасте хотелось верить, что есть люди, вообще не знающие страха. Один скучный дядя, помню, пытался разубедить меня. Страх смерти, чувство самосохранения свойственны каждому, надо только владеть собой. Правильные, рациональные слова, — но вы вообразить не можете, как я возненавидел этого скучного дядю.
— И напрасно, — колко молвил педагог. — Уводить от реального детей не следует.
Спор затянулся за полночь. Укладываясь спать, я взглянул на школьника. Он уже кончил читать. Я спросил его, чем отличился чекист, герой повести.
— Ох, и ловкий он! — воскликнул мальчуган с завистью. — Поймал шпиона все-таки.
— А каков он из себя? — спрашивал я. — Характер его? Что он за человек, этот чекист?
Школьник подумал.
— Храбрый характер, — решительно заявил он. — Вроде Чапаева он, — лицом. Усы. Только бурки нет.
Он протянул мне книгу.
То была… Впрочем, нет, называть это произведение, пожалуй, незачем. Детективная повесть, написанная весьма посредственно, с неизменным седым, всезнающим полковником и порывистым лейтенантом. Их противники щеголяют вставными челюстями ослепительной белизны, жуют резинку, разговаривая, поминутно возглашают: «Хэлло!», бранятся и пьют виски, даже во время тайных, сугубо деловых встреч. Чекисты, ломая голову над загадкой, ходят большими шагами по комнате, ночами не спят, поддерживают силы крепким чаем и телефонной беседой с супругой. В часы отдыха они, как водится, играют в шахматы. Автор, однако, сколотил довольно занятный сюжет, сумел удержать тайну до самых последних страниц, — и я прочел книгу до конца.
К моему удивлению, я не обнаружил у главного героя сходства с Чапаевым. Автор вообще не счел нужным дать его портрет.
Значит, наш юный спутник придумал! Он дополнил слабую, схематичную книгу воображением! Попросту подставил своего любимого героя в сюжет повести!
В памяти возникли рассуждения некоторых литераторов о том, что успех приключенческой книги определяет сюжет. Так ли это? Ведь он — юный читатель, на которого в первую очередь и рассчитаны такие книги — не удовлетворился одним лишь сюжетом.
Я лежал и думал о путях жанра, столь любимого читателем и так несправедливо игнорируемого литературоведами. Мы сами, авторы-приключенцы, пытаемся теоретизировать, выводим особые законы, будто бы присущие приключенческой прозе. Но как же можно забыть, что в центре художественной литературы всех видов — человек!
Судьбу книги решает человек, положительный герой, воплощающий идею произведения.
Саня Григорьев из «Двух капитанов» Каверина — живой, индивидуальный, обаятельный характер, и это в первую очередь и определило огромный успех и долгую жизнь книги. То же можно сказать о героях классических приключенческих книг: Шерлоке Холмсе, графе Монте-Кристо, вожде краснокожих Монтигомо.
Большой вред приключенческой литературе принесли филиппики наших критиков против «идеального» героя, ханжеская боязнь исключительного, пресловутое требование отыскать в хорошем человеке «червоточинку», — для вящей жизненности и убедительности образа. Юный читатель тянется к высокому идеалу, хочет видеть героя, отличающегося благороднейшими чертами нашего времени, витязя без страха и упрека, — а ему предлагают безликого, скучноватого человека, положительного, но ничем не примечательного. Хорошие качества отпущены ему по самой скромной, средней норме.
Пограничники, действующие в книге А. Авдеенко «Горная весна», бесспорно хорошие люди. У каждого — прожиточный минимум достоинств. Службу они несут добросовестно, стойко. Но в книге нет такого героя, к которому читатель мог бы привязаться сердцем. Недостает героического характера.
По-моему, нечего опасаться, что выдающийся герой вступит в противоречие с реальностью. Разве не было подлинных, реально существовавших героев «Молодой гвардии»? Разве не живет среди нас летчик Маресьев, — «настоящий человек», открытый Борисом Полевым?
А Кузнецов, совершивший поразительный подвиг разведчика, — он ведь не выдуман Медведевым, автором книги «Дело было под Ровно»! Недавно мы узнали о Девятаеве, который сумел, будучи в гитлеровском плену, захватить вражеский самолет и вернуться на нем к своим, об отважных людях, обезвредивших склад боеприпасов, оставленный гитлеровцами под Курском, и предупредивших страшный взрыв. К сожалению, персонажи приключенческих книг сплошь и рядом куда бледнее этих подлинных рыцарей нашей Родины.
Жизненный идеал вовсе не должен быть этаким средненьким, легко достижимым. Не надо чересчур приземлять его, обесцвечивать. Он должен волновать, восхищать! В жизни, думается мне, полезно бывает целить выше мишени, чтобы попасть в нее.
Все это отнюдь не значит, что положительный герой приключенческой книги не может ошибаться, никогда не попадает впросак. Читаешь роман Ю. Дольд-Михайлика «И один в поле воин» — и на трехсотой или четырехсотой странице спрашиваешь себя, — а не слишком ли удачлив главный герой, советский разведчик, играющий опасную роль немецкого офицера и аристократа? Все ему сходит с рук! Он умудряется не только собирать нужные для советского командования данные, но и помогать в то же время французским партизанам. Гестаповцы и не подозревают, кто скрывается под видом барона. Все приключения заканчиваются так благополучно, все задания выполняются настолько точно по плану, что судьба разведчика, в конце концов, перестает волновать читателя.
Герой ловко ходит на острие ножа. Но он ни разу не сталкивается со своими врагами в неожиданной, смертельной схватке.
Совсем по-другому создан В. Кавериным образ Сани Григорьева. Саня — человек цельный, чистый, прямой, но отнюдь не приглаженный и не застрахованный от промахов. В разоблачении Татаринова — виновника гибели экспедиции полярного капитана — он так беспощаден, что не щадит мать любимой девушки, жену Татаринова.
Она умирает, не выдержав потрясения. Читатель досадует, упрекает Саню в недостатке деликатности, иногда в грубости, — и все же восхищается честным, героическим характером.
В старом фильме о летчике Чкалове показано, как он пролетает под аркой Дворцового моста в Ленинграде. Рискованнейший трюк, — и непозволительный для пилота. Чкалов заслужил взыскание. Но трудно судить победителя…
В повести Т. Сытиной «Конец Большого Юлиуса» чекист выдает себя тем, что бросается защищать ребенка. И получает удар ножом. Чекист не овладел собой, не довел свою роль до конца, но читатель глубоко сочувствует ему.
Все это ошибки, промахи. Однако проистекают они не из «червоточинки», которую хотелось видеть некоторым критикам, а оказываются как бы выражением благороднейших качеств героя.
Пусть же герой приключенческой книги будет не просто храбр, а храбр беззаветно, безумно! Пусть из-за крайней своей отваги, честности совершает ошибки, попадает в бедственное положение, — зато у юного читателя сильнее забьется сердце!
Приключенческая тема открывает широкий простор для романтического заострения образов. С контрастной резкостью, в непримиримом противоречии, в жесточайшей борьбе предстают здесь перед нами добро и зло.
И добро торжествует. В этом — гуманистическая суть классических приключенческих книг, созданных прогрессивными романтиками XIX века — Купером, Гюго, у нас Бестужевым-Марлинским.
Этот гуманизм приключения, которым отмечены произведения Конан-Дойля, Уилки Коллинза, теперь отстаивают лишь немногие авторы в буржуазном мире. Там детективные романы в подавляющем большинстве преступны по идее, — они прославляют убийцу, грабителя, насильника, способствуют гнусным целям подготовки агрессии.
Наследницей лучших традиций явилась наша, советская литература.
Естественно, — борец за справедливость в литературе прошлого выступал как благородный одиночка. Таковы граф Монте-Кристо и Шерлок Холмс. Им противостоял хищнический социальный строй и сонмы стяжателей, власть золота.
Для нашей советской действительности, напротив, характерно одиночество зла. Оно если и побеждает, то на отдельных участках жизни и ненадолго. Наш строй, наше общество изолируют и обрекают на поражение уголовного преступника, шпиона, диверсанта, как бы хитры и изворотливы они ни были.
В повести В. Михайлова «Бумеранг не возвращается» американский агент очень умело подобрал себе маску. Он притворяется борцом за мир, будто бы пострадавшим на родине за свои убеждения. Ему удается обмануть пылкую, восторженную советскую девушку — дочь видного изобретателя, работы которого интересуют вражескую разведку. Кажется, — все благоприятствует шпиону. Ценные проекты будут в его руках. Но честный человек не станет у нас одинокой, беззащитной жертвой злодея! Героиня повести, с помощью друзей, убеждается в своей трагической ошибке и сама выступает против врага.
Однако было бы ошибкой недооценивать силу врага.
Ведь известно, что империалисты направляют против стран социалистического лагеря своих самых опытных, матерых подручных. А в иных книгах детективного жанра иностранный агент — непременно глупец, простофиля.
Если наши пограничники не хватают его сразу, то лишь потому, что им поручено за ним следить. О переброске его к нам известно заранее. Вообще все его повадки и маршруты не составляют большой тайны для седовласого и всезнающего полковника, а тем более — для генерала…
Чуть ли не каждый шаг врагов — персонажей повести Авдеенко «Горная весна» — виден нашим офицерам. Действие повести напоминает шахматную партию с заранее определенным результатом. Автор словно подсказывает ходы то одной стороне, то другой.
Примелькались, надоели читателю белоснежные вставные челюсти, отличающие книжного шпиона, жевательная резинка, виски и прочие его аксессуары. Враг, наделенный всеми этими стандартными приметами, уже не страшен, — он скорее забавен, как персонаж оперетки.
Таков, к сожалению, Кортец — главный отрицательный герой интересной повести Г. Гребнева «Пропавшие сокровища». Читателя увлекает задача розыска спрятанной библиотеки Ивана Грозного, он с волнением отправляется вместе с Волошиным и Тасей к стенам древнего монастыря, где, по слухам, имеется тайник. Но право же трудно принять всерьез такого противника, как Кортец, который обсуждает вылазку в Советский Союз, попивая вино и вдыхая аромат бараньего жиго. Беседу с сообщником он ведет в самом легкомысленном, залихватском тоне и к тому же то и дело принимает картинные позы.
Неизбежность провала, притом весьма скорого, буквально написана на всем облике этого персонажа.
Я вспоминаю также книгу В. Иванова «По следу».
На фоне степной природы, которую автор, видимо, прекрасно знает, охотник Алонов преследует неизвестных, проникших на нашу землю, с тем чтобы поселить опасных насекомых, вредителей хлебных злаков. Но в книге есть главы, находящиеся в кричащем противоречии с художественной тканью произведения и как будто написанные другой рукой. Это главы, переносящие читателя за рубеж, в лабораторию биологической войны.
И тут — опять звероподобные фигуры с лошадиными зубами. Хриплые голоса, брань, бутылки виски. Убедительное, правдивое изображение внезапно сменяется плоской карикатурой, писательские находки — штампом.
К счастью, таких глав немного.
Зачем выводить против нашего чекиста-пограничника врага нарочито окарикатуренного, ослабленного?
Не нуждается в этом положительный герой нашего времени. Делать так — значит, не возвышать его, а принижать.
Не надо оглуплять врага, утрамбовывать путь положительному герою. Приключенческая книга будет лишь в том случае подлинно героической, если автор поведет своего любимого героя путем наибольшего сопротивления, путем наилучшего раскрытия его достоинств. Победа его не легка. Она трудна, завоевана в упорнейшей борьбе.
Здесь я коснулся и проблемы сюжета.
О сюжете в приключенческой литературе говорят у нас много и не всегда обдуманно. Есть такое мнение, — типический герой действует в этом жанре в нетипических, исключительных обстоятельствах. Такова-де специфика жанра. Ходкое словечко! Как часто ссылкой на «специфику жанра» пытаются оправдать серость, штамп, а то и халтуру!
Нет, незачем отгораживать приключенческую отрасль нашего литературного дела от остальных, выдумывать для нее какие-либо особые законы развития. Для этого нет никаких оснований. Известная формула Энгельса о типических характерах в типических обстоятельствах сохраняет свою силу и здесь.
Во-первых, герой и обстоятельства состоят в художественном произведении в неразрывном единстве. Нет героя вне времени, вне общества, вне действия. И познается герой не иначе, как в действии. Типический герой, действующий нетипично, — это несуразица, абсурд.
Во-вторых, исключительное вовсе не обязательно лишено типического значения.
Авантюра Чичикова, скупавшего мертвые души, несомненно исключительна. Но какой типичной оказалась эта авантюра в бессмертном романе Гоголя, с какой убийственной остротой обнажено в нем лицо крепостничества! Бесспорно исключительна, необычайна и судьба чиновника, который невольно чихнул на лысину вельможи и от огорчения, от страха умер. Но разве не нарисовал Чехов в этом рассказе типический образ маленького чиновника, — забитого, испуганного, придавленного начальством? Ясно, что в исключительном эпизоде может с предельной остротой проявиться типическое.
Что же отличает приключенческую книгу, скажем, от исторического или «производственного» романа? Материал и идейно-художественная задача автора.
Материал данного жанра — приключение. Приключение пограничника или чекиста, следователя по уголовным делам или моряка, геолога, летчика, танкиста.
С приключением связано понятие исключительного — ведь далеко не всякий боевой поход, не всякая экспедиция— приключение. Исключительное, следовательно, коренится в самом материале, изучаемом писателем, в самой реальной действительности.
В мирной семейной или производственной жизни нет и не может быть такого обилия неожиданностей, случайностей, внезапных столкновений, опасностей, как в бою, в пограничном поиске, в плавании по неведомым водам.
Отсюда — исключительность обстоятельств, характерная для данной человеческой деятельности, столь же доступной для художественного обобщения, типизации, как и любая иная.
Говорят еще, что сюжет в приключенческой литературе играет особо важную роль. Это в общем верно, но отнюдь не освобождает от работы над сюжетом авторов «производственных» или «колхозных» романов. Нечего греха таить, — благородная тема труда нередко дискредитируется скучным, бессюжетным, вялым изложением, пассивной иллюстративностью. И книга остается на полке магазина или библиотеки, не согретая прикосновением читателя. Обо всем надо уметь писать занимательно.
А ведь получилось так, что приключенческая литература стала у нас своеобразным убежищем острого сюжета.
Я убежден, что слабость сюжета свидетельствует о нечеткости идеи автора, лишь регистрирующего общеизвестное. И наоборот, — конкретность идеи, рожденной активным проникновением в жизнь, требует для своего выражения и строгой композиции и отчетливости сюжета.
Чем яснее он, тем определеннее высказана в произведении авторская мысль.
Тема приключенческая предполагает острейший, захватывающий сюжет.
Безусловно, — прежде всего в сюжете, в перипетиях поиска или борьбы заключается та чудесная притягательная сила, которую мы именуем занимательностью.
Занимательностью, фигурирующей в статьях строгих критиков обычно с прибавкой словечка «ложная». Однако критика еще не потрудилась исследовать природу занимательного в литературе. Нередко ее рассматривают как авторский прием, вносимый в жизненный материал.
Неверно! Занимательное — в самой жизни. Разве не занимателен сам по себе полет советского искусственного спутника? Или поход наших людей в Антарктику?
Если дело, начатое человеком, смелое и сулит препятствия, опасности, неожиданности, если исход его неясен, мы с волнением следим за событиями и как бы вовлечены в приключение. Это и есть занимательность.
Она тем острее, чем труднее приходится герою, чем глубже тайна, чем важнее истина, добываемая им.
Конечно, не только чекисты, пограничники, следователи или географы переживают приключения. В той или иной степени они свойственны каждой профессии, тем более в нашей стране новаторства, отважной трудовой инициативы. Диву даешься, — почему такой народный подвиг, как наступление на целину, до сих пор не привлек внимания писателей-приключенцев.
Романтика освоения прерий Северной Америки наполняет романы Купера и Майн-Рида, знакомые нам с детства. Поэзией степей южной Украины веет со страниц блестящего остросюжетного романа Г. Данилевского «Беглые в Новороссии». Где же в нашей приключенческой литературе романтика суровой борьбы со стихией, которую ведут наши современники на необозримых просторах Сибири, Казахстана, — наперекор засухам, песчаным бурям, бездорожью?
Огромное невозделанное поле лежит перед нашими приключенцами, — темы труда. Конечно, здесь приключение не всегда бросается в глаза, надо уметь его найти, проявить новаторство в разработке сюжета.
Итак, — о сюжете…
Наша печать справедливо осуждает неудачные произведения детективного жанра, построенные по сюжетной схеме и лишенные живых героев.
Надо прямо сказать, — оригинальный, увлекательный сюжет не может состояться без живого героического характера. Речь идет, разумеется, о художественной литературе, а не о научно-популярной, по-своему занимательной.
Все согласятся с тем, что «Приключения Шерлока Холмса» принадлежат к вершинам занимательного в мировой литературе. Это превосходный образец сюжетной прозы. Но попробуйте удалить характеры — трезвого аналитика Холмса и его друга Ватсона, как бы оттеняющего своими заурядными догадками мастерство следователя и знатока людей. Попытайтесь устранить галерею типов буржуазного общества, изображенную Конан-Дойлем, — клиентов Холмса и преступников, развращенных тиранией золотого мешка. Например, отца, который меняет свою внешность и ухаживает за собственной дочерью, мистифицирует ее, чтобы оттянуть ее замужество и неизбежную выплату приданого. Нет, совершить такую операцию просто немыслимо. Ведь своеобразные, неповторимые судебные загадки неразрывно связаны с индивидуальными характерами злодеев. И на место Холмса не подставишь любого следователя — только он способен так решить задачу. Механика следствия не безлична, — на ней ясно виден «творческий почерк» Холмса.
И кроме того, от исхода следствия зависит судьба потерпевших, отчетливо выступающих в произведении и полюбившихся читателю.
Так же немыслима эпопея розыска следов погибшей полярной экспедиции без характера Сани Григорьева — героя романа В. Каверина. Этот розыск — дело его чести, он теснейшим образом входит в личную судьбу Григорьева, в его призвание.
И здесь героический характер движет сюжет. К сожалению, этого не обнаруживаешь во многих наших приключенческих книгах. В повестях детективных, то есть посвященных разгадке политического или уголовного преступления, сухой техницизм, быть может, особенно заметен. Немало вышло повестей, где ход сюжету дает лишь служебное задание. Выполняется оно добросовестно, по всем правилам, но… На место безликого капитана Иванова можно поставить капитана Петрова со столь же неясными чертами лица и характера, и решительно ничего не изменится. И повести такого рода напоминают учебный плакат, демонстрирующий воинскую тактику, — ведь фигурки на нем вовсе не обязательно должны обладать индивидуальными свойствами — важно лишь, чтобы они носили положенную форму и были вооружены.
К слову сказать, — есть у нас и книги о заводе, о колхозе, где действие не зависит от характеров и исчерпывается лишь технологией. Не следует считать приключенческие книги средоточием всех литературных неудач.
Но это — не в оправдание… Не только авторы, но и редакторы склонны забывать порой, что главное — не профессия героя, а человек в его живом целом.
Столь же верно и другое — качества героя останутся лишь декларацией, если не будут выявлены в действии, в сюжете. Поиски сюжета — необходимая и сложная работа. Увы, наша критика упорно не признает такого понятия, как мастерство сюжета и композиции. Между тем наши большие писатели — Тургенев, Лев Толстой, а в наше время Алексей Толстой — призывали внимательнейшим образом отнестись к созданию сюжета выразительного, емкого, с наибольшей силой сталкивающего характеры.
Сюжетное мастерство развивает, заостряет занимательное, содержащееся в материале произведения.
Читатель с досадой закрывает книгу, где все известно заранее. Приходит на память повесть В. Герасимовой и Л. Савельева «Крушение карьеры Власовского», — там с первых же страниц понятно, кто враг, где он и чего хочет. И очевидна полная несостоятельность его замысла — ведь честный советский ученый, само собой разумеется, не поддастся провокациям, не изменит Родине, не продастся врагам. Так как враг маскируется чрезвычайно неуклюже, то сразу видно — разоблачение его произойдет незамедлительно и без особых усилий со стороны чекистов.
Часто повторялся в нашем детективе мотив похищения чертежа, хранящегося в сейфе у изобретателя. Врагом оказывался один из молодых людей, увивавшихся вокруг жены или дочери ученого — особы неизменно легкомысленной, падкой на лесть и подарки. Достаточно прочесть одну такую повесть, чтобы уже потом «разгадывать» нехитрую тайну остальных, написанных по тому же стандарту.
А тайна должна быть хитрой!
Правда, может статься, критик тотчас же приклеит готовый ярлычок — ложная занимательность. Ну что ж, давайте разберем, когда занимательность становится ложной.
Быть может, в тех случаях, когда автор стремится приберечь тайну до конца повествования, построить сюжет с нарастающим напряжением? Думается — нет.
Такая забота о занимательности вполне закономерна.
Совсем неплохо, когда автор усложняет тайну, отодвигает ее разгадку, возводит новые препятствия перед героями. Это не противоречит задаче произведения и может способствовать раскрытию характеров.
Читая авантюрно-сатирическую повесть И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», думаешь — вот-вот обнаружится спрятанное под обивкой сокровище. Но поиски Остапа Бендера продолжаются — и все новые, метко схваченные авторами характеры выходят на страницы замечательной книги.
По другому пути пошли авторы повести «Крушение карьеры Власовского». Шпион Каурт убеждает профессора Сенченко — видного советского ученого — бежать за границу. Перед этим перерожденец Власовский, служащий в органах госбезопасности, запугивает Сенченко клеветническими обвинениями. Каурт считает, что «плод созрел» и настолько беспечен, что побуждает Сенченко к измене Родине в присутствии… его отца. Это одна из многих «белых ниток» в повести. Но вот как авторы стараются спасти занимательность, подорванную, как мы видели, в самом начале. В последующих главах читатель застает Сенченко на пути к границе. Он уже в машине, которую ведет вражеский наймит. Читатель верит в честность ученого-патриота, предвидит, что Сенченко попросту готовит вместе с чекистами ловушку для врагов, но главы эти написаны в двусмысленном тоне, с умолчаниями, с явной целью внушить читателю сомнения.
Занимательность, добываемая такими искусственными средствами, нарушающая логику развития характеров, разумеется, ложная. Впрочем, фальшь и не может быть по-настоящему занимательна — скоропреходящий интерес в данном случае сменяется недоумением и досадой.
Наш советский детектив вырабатывает некоторые особенности сюжетосложения, отличные от детектива буржуазного.
Привычная схема последнего такова: совершено убийство; похищены ценности; сыщик разыскивает убийцу среди многих подозреваемых им лиц — на вид вполне добропорядочных. В конце концов преступником оказывается тот, кто брался помочь сыщику и успел даже завоевать симпатии читателя. Каждый в основе своей хищник, — проповедуют прислужники доллара.
Совсем другая мораль — на нашей, социалистической земле. Грызня из-за денег не увлечет нашего читателя.
Стремясь покарать зло, он хочет быть бдительным, но не склонен оскорблять подозрениями людей честных.
Если в книжном бизнесе за рубежом утрачена грань между добром и злом и убийца возводится на пьедестал, то в нашей литературе, напротив, добро и зло поставлены лицом к лицу и видимы отчетливо. Читателя волнует, — чего добивается враг, какими средствами, кто победит в непримиримой схватке?
Правда, враг прячет свое лицо, и сорвать с него маску бывает не легко. И в нашем детективе присутствует нередко так называемый «ложный ход» — чекист ошибается, избранный путь поиска увел его в сторону. След не тот! Прекрасный пример такого «ложного хода» — в книге В. Михайлова «На критических углах». Враг скрывается среди военнослужащих авиационной базы. Читатель готов заподозрить Астахова — человека нестойкого, пристрастившегося к спиртному. Поведение Астахова таково, что он может стать орудием шпиона. И враг пытается завербовать летчика. Чекисты изучают обстоятельства преступления и людей, отметают одну версию за другой, не лишают доверия Астахова, дают ему возможность разорвать накинутые на него путы. Наряду с разоблачением врага идет борьба за честь и достоинство советского человека.
В повести Л. Шейнина «Военная тайна» враг виден читателю с самого начала. Но это не снижает занимательности книги. Читатель с упоением следит за подвигом чекиста Бахметьева, который играет роль советского изобретателя Леонтьева и принимает на себя вражескую вылазку.
Наш детектив воспитывает бдительность, ничего общего не имеющую с нигилистическим неверием в людей и звериной злобой к ближнему.
Чтобы быть бдительным, надо знать человеческую натуру. «Записки следователя» того же Л. Шейнина насыщены тонким человековедением. Плох тот детектив, который обходит душевный мир героев, лишен психологии, умного писательского наблюдения над людьми.
Классики литературы хорошо понимали возможности авантюрного сюжета, позволяющего вскрывать характеры в резких столкновениях, в неожиданных «срезах», а также проникать в разнообразные закоулки жизни, связывать в едином действии персонажи совершенно различные, далекие друг от друга и по общественному положению, и по профессиям, в повседневном быту не соприкасающиеся. Гениальный психолог Достоевский воспользовался фактом из петербургской судебной хроники, чтобы развернуть широкое полотно «Преступления и наказания». Таких примеров можно привести много.
Но, конечно, было бы наивно объявлять Достоевского автором детектива и требовать от всех видов литературы — независимо от их задач — одной и той же меры психологического анализа, одинаковой обстоятельности портретных характеристик, пейзажа и так далее. Я против скидок на жанр, но отвергаю и стандартные мерки.
Сюжет приключенческого произведения, естественно, отличается особой динамичностью, характеристики здесь лаконичны, броски, резко подчеркиваются те свойства героя, которые нужны для борьбы или поиска.
Длинные описания природы в повести А. Авдеенко «Над Тиссой» временами утомляют, так же как и пространные диалоги. Повесть написана в ритмах бытового романа, неуместных там, где вступает в силу приключение.
Сюжет лучших приключенческих произведений отличается многоплановостью, рядом конфликтов, и связь их между собой может быть по началу загадочна. Повесть Г. Брянцева «Следы на снегу» была бы более занимательной и более богатой человеческими переживаниями, если бы писатель ввел другие сюжетные линии, пересекающиеся с маршрутом преследования врага. Длящаяся на протяжении всей повести погоня, однолинейность сюжета, прикованного все к той же лыжне, однообразие обстановки притупляют внимание читателя. Все это могло бы выглядеть интереснее в небольшом рассказе, но повесть получилась растянутой.
Большое значение имеет в приключенческом произведении необычность обстановки действия. Детектив может нести познавательную нагрузку, знакомить читателя с разными странами, особенностями разных национальностей, профессиями людей и т. д.
Но, повторяю, главное в приключенческом сюжете — тайна, проблема, подлежащая решению. Обаяние ее, в конечном счете, в сложности и важности для судьбы героев, для нашего общества. Давно уже ушли из нашей приключенческой литературы поиски наследства или наследника, угас мотив личного приобретательства. Наша жизнь выдвинула новые, небывало грандиозные и волнующие проблемы, героем приключения выступает человек, вдохновленный мыслью о благе Родины.
Характерна для нашей литературы тайна в прекрасном романе Л. Платова «Страна семи трав». Без вести пропал в малоизведанных краях Заполярья русский ученый Ветлугин. Герои романа надеются напасть на его след. Разумная, человечная цель! Но это не все. Тайна местонахождения Ветлугина связана с другой тайной, — исчезнувшего племени. Подпав под власть злых старейшин и шаманов, это племя ушло в подземелье. Там томится в плену Ветлугин. Герои романа находят его, помогают одурманенным, запуганным людям выйти на свет дня, приобщиться к новой жизни.
Проект изобретения, секретный документ, спрятанное сокровище привлекут читателя лишь в том случае, если ему будет понятна их важность для человека, для страны. Героической литературе о приключениях должно быть чуждо мелкотемье — напротив, она должна идти вровень с крупнейшими дерзаниями нашей эпохи и с ее высокими, лучезарными, коммунистическими идеалами.
Нашим детям нужны разные книги — и учебник, и творение классика, и описание путешествия, и советский детектив. Но никто и никогда не снимет с нас задачу воспитывать вкусы юных читателей, воспитывать бережно и сердечно.