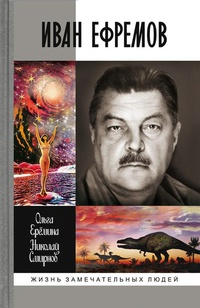Сорок лет назад, в 1976 году, в Англии вышла небольшая книжка Олафа Стэплдона в более чем скромном оформлении:

Примечательно что это последнее крупное произведения великого мыслителя и фантазёра, найденное в его архиве вдовой писателя уже после смерти мастера. Впрочем, лучше эту историю расскажет видный британский исследователь фантастики и по совместительству писатель, Брайан Олдисс:
Предисловие к британскому изданию
«Сомнение есть продукт знания; дикарь никогда ни в чем не сомневается». Эти слова принадлежат не Олафу Стэплдону, но Уинвуду Риду.
Уинвуд Рид написал не слишком часто вспоминаемую книгу «Мученичество человека», первое издание которой вышло в свет в 1872 году. Помимо прочих интеллектуальных удовольствий, «Мученичество человека» представляет краткую историю мира с тех самых пор, когда планеты только начали образовываться вокруг солнца и, «сочлененные, вращаться перед огнем», а также пророческую историю будущего. Сам процесс развития общества описан в этом труде с невероятной — новой и в какой-то степени волнующей — эмфазой.

Среди читателей Рида был Г.Дж. Уэллс, который впоследствии признавался, что книга Рида произвела на него глубокое впечатление. Подобный подобного, как известно, любит, вот и проницательный Олаф Стэплдон, вероятно, был впечатлен книгой Рида в не меньшей степени, чем Герберт Уэллс, и так как самобытность строится на прочных основах, то и величайшие труды Стэплдона, «Последние и первые люди» и «Создатель звезд», должно быть, многим обязаны пьянящей ридовской смеси фактов и предположений.

Если сомнение есть продукт знания, то данная книга есть продукт сомнения. Пусть «Четырем случайным встречам», возможно, и не хватает масштабности, роман затрагивает практически весь пласт современных проблем.
Уильям Олаф Стэплдон и не нуждался бы в представлении, не страдай он всю жизнь от игнорирования издателями и критиками. У него имелся свой круг пылких поклонников среди читателей, которым вовсе не нужны мои слова. Игнорирование сопровождает любого писателя, который идет впереди своей эпохи или остается в стороне от основных литературных течений. Горькие, но правдивые слова Иисуса о том, что «не бывает пророк без чести, разве что в отечестве своем», вполне подходят для цитирования в подобных обстоятельствах. Удобная миопия — враг благоразумия.
В данном случае я прежде всего должен сказать, что нахожу эту книгу глубокой и волнующей, не в последнюю очередь из-за восприятия Стэплдона, заключающегося в том, что существует множество истин, к чему различные темпераменты должны оставаться лояльными.
Дело в том, что это книга разговоров, а не наставлений на путь истинный. В четырех диалогах Стэплдон лично общается с христианином, ученым, мистиком и революционером. Собеседники делятся своими взглядами, порой в резкой и язвительной форме, но всегда остаются при своем мнении. Страстный спор то и дело переходит в бесстрастное расспрашивание — и то, и другое характерно для Стэплдона, пусть метод и является сократическим.
Тот, кто прочтет эту книгу, получит два вида удовольствия. Прежде всего, всем четырем частям этого произведения присущ один и тот же замечательный контрапунктный аргумент. В первой некий озлобленный инженер обнаруживает, что к нему вернулось верование, когда осматривает интерьер собора, удивляясь тому обстоятельству, что «камень должен жить и молиться, в то время как в нас самих вера мертва». Одновременно уже сам Стэплдон проводит легкую аналогию со всей вселенной, «беспредельностью физического», и обретает покой и умиротворение при мысли о том, что, если уж наша мельчайшая частица мира может содержать дух, то в цельности, огромности пространства и времени должно заключаться нечто несравненно большее.
Так человек достигает полета мысли там, где сама мысль бессильна. Некоторые намеки лежат между словами. Человечество, к примеру, может являться одним из инструментов в оркестре вселенской духовной музыки. «Может ли эта музыка быть воспринимаемой лишь группой самих музыкантов, предназначена ли она для распознающего удовольствия некого космического музыканта или каким-то необъяснимым образом — для самой этой музыки, мы не знаем». Язык не способен помочь нам разрешить эту проблему, так как язык есть не более чем примитивное хрюканье некого земного животного.
Не противоречит ли здесь Стэплдон самому себе? Не можем ли мы быть одновременно и частью вселенской музыки, и чем-то чуть лучшим, нежели хрюкающие животные? Можем. Ответ заключается в том, чтобы прекратить хрюкать. «Ведь даже если я говорю: «Боже! О Боже!», я говорю слишком много».
Во второй беседе спор с генетиком протекает в ином ключе, хотя и всегда с отсылкой к более широкой сфере существования. Генетику не взбредет в голову вздор о музыке сфер. Во вселенной могут существовать другие разумные виды, но какие? «Они находятся за пределами нашего понимания, как и мы, надеюсь, за пределами их». Ученый предстает даже еще более гордым, чем христианин; как и последний (а также мистик), он живет в некотором отдалении от своих коллег и любви.
Любовь образует в книге довольно-таки яркую субтему. Сам Стэплдон видит в любви фактор, обладающий по меньшей мере потенциалом освобождать нас от различных видов ухода в собственный мир, в эгоцентричность, тогда как каждый из его четырех собеседников представляет себе ее некой сетью, паутиной, притягательным развлечением.
Наиболее отчетливо такая позиция отображена в последних двух беседах. Мистик отталкивает от себя любовь в попытке достичь самопреодоления. Но это может оказаться ловушкой, в которую он попадет, пытаясь избежать силков чувств; ему больше вообще не будет никакого дела до людей. Самому Стэплдону это кажется неверным; по его мнению, люди что-либо значат, пока являются проявлениями духа.
На мой взгляд, этот третий разговор — самый захватывающий и интригующий.
Но еще большее развитие спор получает в четвертой части, где революционно настроенный механик верит (а его подруга — еще сильнее), что значимым является общество, а не индивиды. Здесь дух, о котором сначала говорится крайне свободно, ограничен тем, чтобы исключить все, кроме корпоративной общности среднего или рабочего класса. Сам Стэплдон готов принять значимость духа как более широкой и всеобъемлющей силы; он отвергает его в узком марксистском понимании. То, что рассматривается здесь в общем контексте человеческого рода, теперь видится общественной единицей, нуждающейся в экономическом спасении, тогда как раньше представлялось стремлением индивидов к индивидуальному же спасению.
Так спор расширяется, сужается, снова раскрывается во всю ширь. Во многих отношениях эта заключительная часть производит наиболее сильное впечатление, причем не в последнюю очередь потому, что механик предстает личностью противоречивой, а стало быть, и более яркой, хотя и менее склонной к полемике.



Одной из ошибок аргументации, которую Стэплдон вынуждает механика совершить, является ошибка значимости. Механик утверждает, что понимание исторических процессов приводит к желанию счастья для человечества в целом. Это отнюдь не так. Скорее, оно ведет к сдержанному скептицизму Гиббона, отвращению Свифта, просвещенному schadenfreude Шпенглера. Едва ли кого-то может привести в хорошее настроение изучение Византии.
Но работы Стэплдона отнюдь не проникнуты испугом и беспокойством. Да, в них присутствует определенное смятение, расспрашивание Неотъемлемой Воли (вроде той, о которой говорил Томас Харди), но только не откровенный пессимизм. Разумеется, чудесная завершающая фраза из «Последних и первых людей»: «До чего же хорошо было быть человеком!», часто цитируется в пику Стэплдону как пример самодовольства. На самом деле Олаф Стэплдон, похоже, был одним из первых писателей, кому удалось добиться верной и точной агностической перспективы в процессах истории (и помимо истории — в процессах вселенной, о которой мы лишь недавно узнали, что являемся ее частью). Если сомнение почетно, то его точка зрения, безусловно, является исключительно здравой.
В то же время я должен отметить, что мироощущение Стэплдона — крайне английское. И в этом нет никакого противоречия. Шекспир тоже был не для своей эпохи, но на все времена; он также являлся уроженцем Уорикшира. Я начал с того, что сказал: читатель получит от книги два вида удовольствия. Первое лежит в области языка: здесь хватает фраз ярких и самодостаточных. Когда бы дискуссия ни грозила стать многословной и расплывчатой, всегда найдется апофегма, которая все прояснит. Что может быть более английским в своей сдержанности и тоне, чем: «Marxism is all very good, but if you push it too far, it turns just silly». («Марксизм — оно, конечно, прекрасно, но если доводить его до крайности, он выглядит как-то нелепо») А сколько Стэплдона и его философской позиции заключено в такой фразе: «I said I could understand the view that nothing mattered, but that society as such should matter rather than individuals, seemed to me a crazy notion». («Я сказал, что готов еще согласиться с тем, что ничто может не иметь значения, тогда как представление о том, что общество, само по себе, может значить больше, нежели индивиды, кажется мне безумным») Как прекрасно в ней сочетаются возвышенная мысль и простой английский язык!
На протяжении всей этой вступительной статьи я осторожно соотносил местоимение «я» из этих четырех диалогов с личностью самого Стэплдона. Конечно, наделять персонаж «я» из любого художественного произведения чувствами и мнениями автора — всегда ошибка; ошибка, постоянно допускаемая читателями и критиками. Но являются ли «Четыре случайные встречи» художественным произведением? Стэплдон никогда не забывал напоминать нам, что его работы — это не пророчество, но миф; что то, о чем в них говорится, может вызвать недовольство «как Слева, так и Справа», и что его романы есть не что иное, как измышленная философия. В этой его книге вымысла — на первый взгляд — совсем немного, хотя в ней и присутствуют приемы настоящего писателя-романиста, мимолетные взгляды природы на работу заглатывающего бабочку скворца, которые, пусть и подводя к дидактическому концу, тем не менее служат для усиления дискуссии и приукрашивания рассказа.
Возможно, я и заблуждаюсь, предполагая, что книга представляет единое целое и приходит к хорошо прописанному заключению. Я действительно чувствую это единство, хотя и знаю из истории книги, что оно случайно. Но, быть может, цельность вселенной и не является такой уж стихийной.
Паттерн, если и не план, проявляется из предыстории книги. Будучи в Нью-Йорке в апреле месяце 1975 года, я позвонил Харви Сэтти, который рассказал мне, что в его распоряжении оказалась неопубликованная рукопись Стэплдона. Меня интересовало все американское, не британское, но мое удивление было удивлением исследователя цивилизации Майя, который, бродя по залитым проливными дождями лесам Юкатана, случайно раскрывает секрет Великой Египетской Пирамиды.

Рукопись оказалась «Четырьмя случайными встречами». Мистер Сэтти поведал мне, что Агнес Стэплдон, вдова писателя, имеет желание опубликовать ее, если я соглашусь написать к ней предисловие. Чем я сейчас и занимаюсь, отчетливо осознавая, что не очень-то и подхожу для этой задачи. Моя квалификация, как и цельность вселенной, является случайной. В 1963 году я предложил «Последних и первых людей» для серии «Penguin Readers» и посвятил романам Стэплдона панегирическую статью в «Billion Year Spree», моей работе по истории научной фантастики. Я горд и шокирован тем, что занимаю то место, на котором, как мне кажется, должен был бы оказаться некто с философским образованием.


Миссис Стэплдон рассказала мне, что точная дата написания этих четырех частей неизвестна. Доказательства, содержащиеся в самой рукописи — упоминание о разбомбленном соборе в первой и рудиментарное устройство машины в четвертой — указывают на то, что они могли быть написаны во второй половине 1940-х, то есть примерно за пять лет до смерти Стэплдона (1950).
План, по словам миссис Стэплдон, состоял в том, чтобы написать серию разговоров, предположительно, ровно десять бесед. На бумаге существуют только эти четыре. Кем могли быть прочие «собеседники» автора, можно только догадываться. Мне бы точно понравилось прочесть о его встречах с капиталистом, сенсуалистом, историком, врачом и писателем — в надежде на то, что некоторые из них окажутся женщинами. В этом, наверное, могло бы потренироваться недавно образованное «Стэплдоновское общество».
Мне остается лишь сказать, что приведенные в этих разговорах аргументы практически не устарели за ту четверть века, что прошла с тех пор, когда эти беседы были написаны. Те опасения и надежды, которые выражает в них Стэплдон, отнюдь не эфемерны. Некоторые темы и сегодня остаются для нас актуальными. К примеру, как недавно указала «Международная амнистия», пытки как преднамеренная политика государства количественно увеличиваются сейчас по всему миру. Аргументация против пыток представлена в книге в полной мере.
Люди ощущают себя виноватыми вследствие убийства или же причинения страданий другим. Это хорошо, потому что вина общественно полезна. «И все равно, в условиях безотлагательной революционной ситуации, мне представляется иррациональным, более того — чистым безумием, позволять нашей щепетильности (а это наша эмоциональная привычка) подвергать революцию опасности». Подобные аргументы сейчас в моде везде, от Токио и Москвы до Сан-Паулу и Сантьяго. Защита от них нам крайне необходима. В своем холодном и цивилизованном размышлении, данная книга — именно то, от чего нам следует отталкиваться в этой защите.
Брайан Олдисс, 1976, перевод Л.Самуйлова.
Издание 1983 года было снабжено сочными иллюстрациями Джима Старлина: