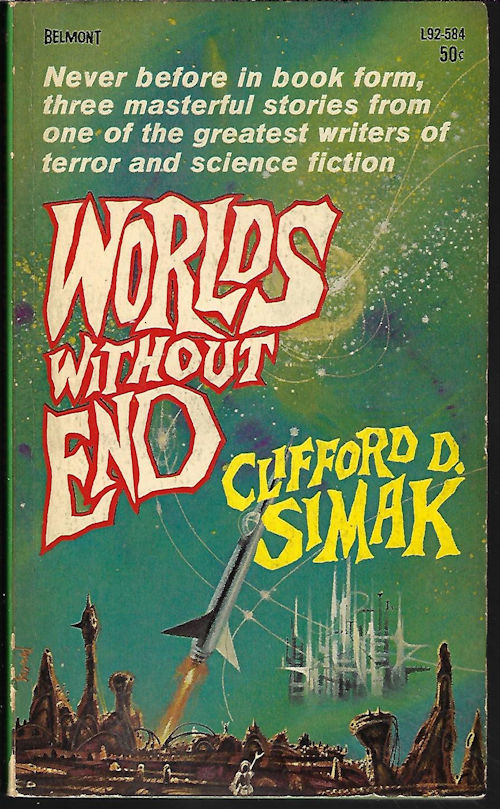Пространство НОРМАЛЬНО функционирующего фэндома – это не только выход новых книг, реакция на них и в меру творческие конвентные посиделки в режиме «спью». Это еще и некоторое количество критической рефлексии – над собой и над другими. Более того, в идеале эта критическая рефлексия – если она рождается внутри среды – имеет некоторые последствия и для самих пишущих: разбирая (а то и деконструируя) некоторую систему (взглядов, сюжетов, жанровых клише и пр.), автор, волей-неволей, примеряет это и на себя, а значит, раньше или позже пытается дать ответ, соразмерный своему вопросу. Скажем, это можно было заметить, наблюдая, как разговор Шостака – Орбитовского – Дукая об альтернативной фантастики порождает тексты самих спорящих: Шостак, пишущий «Думановского», или Орбитовский, создающий «Канал» и «Мороки».
С третьим автором S.O.D., с Яцеком Дукаем, подобная история случалась не раз и не два. Особенно же показательным – и сохраняющим познавательность для нашей среды – был его разговор о фэнтези, довольно громко прозвучавший в середине 90-х. В 8-м и 9-м номерах журнала «Nowa Fantastyka» за 1997 год была опубликована статья Яцека Дукая «Философия фэнтези», порожденная наблюдениями за жанром в целом и за рассказом Эвы Бялоленьской «Синева мага» в частности (к тому моменту как раз получившим Зайделя как лучший рассказ). История эта тем более поучительна, что последствия ее ушли далеко за рамки теоретической дискуссии, но об этом чуть позже. Сперва для этой истории важна сама статья Дукая. (Здесь немаловажное: Дукаю на момент публикации статьи – двадцать три года, что, полагаю, что-то объясняет, а чему-то заставляет удивляться).
ДУКАЙ Яцек
ФИЛОСОФИЯ ФЭНТЕЗИ
І
К написанию этого текста меня склонила «Синева Мага» Эвы Бялоленьской. У меня нет намерения изгаляться над этим рассказом, отчасти даже симпатичным; выбор «Синевы» надлежит приписать, скорее, случайности. Речь здесь для меня вовсе не в неплотности или языковой дисгармонии – вроде ничем не обоснованной англизации названий. Бялоленьская зовет одну из своих стран Нортлендом; видится мне в том досадная привычка, вынесенная из чтения польских переводов западной фэнтези, в которых получившийся результат редко когда оказывается консеквентным в ономастике. Обойду я и отчетливое смешивание письма рунического с идеографическим (настолько же хорошо, как о руне, можно было бы говорить и о букве «Рука» или «Огонь»). Речь идет о внутренней логике произведения и о простых импликациях ее использования.
В одном месте Бялоленьская пишет, что для Странника (тип мага) «любые расстояния в мире были лишь шагом сквозь невидимые двери», в другом же вспоминает о «малоисследованном Востоке» и о Западных Континентах, где, возможно, живут грифы, а возможно и нет – неизвестно. Но ведь одно из двух: или Странник и вправду может произвольно искривлять пространство, и тогда нет и речи о каких-либо неисследованных закутках планеты, да что там – вообще окружающего космоса; или же закутки такие существуют, но тогда данная дефиниция Странника оказывается ложной.
Еще в одном месте автор рассказывает, как молодой маг пробрался на грузовую барку. Скрывался он, пользуясь своим умением создавать иллюзии, причем таким образом, что довел «до совершенства иллюзию «невидимости», которая представляет собой «наложение на собственное тело образа окружения». Попытаемся себе это вообразить. Примем, что все происходит в ситуации, когда маг неподвижно стоит на однородном фоне, близко от него, а наблюдатель смотрит с некоторого расстояния и перпендикулярно к оному фону (борту, стене, земле). Кстати, в рассказе маг не ограничивается этим; использует «невидимость» даже в движении, нахально воруя еду», потом пробирается по трапу на сушу под взором чиновника, считающего выгружаемый товар. Не нужно быть богом в оптике, чтобы понять, что наложение в такой момент на себя иллюзии фона так, чтобы оставаться действительно невидимым для окружения, далеко превосходит описанные в тексте способности адепта благородного искусства отведения глаз.
Рассмотрим простейшую ситуацию, случай, когда наблюдателей лишь двое (на барке и в порту их наверняка было больше). Тогда, если только один не смотрит другому через плечо, на мага они глядят под разными углами, и тот вынужден производить не одну, а уже две иллюзию фона, отличные – поскольку каждый из наблюдателей видит его на другом фоне. Однако маг не знает, смотрит ли кто-нибудь на него и с какого места это делает; он вынужден защищаться с каждой стороны. Это означает, что ему приходится удерживать и модифицировать в реальном времени полную иллюзию фона на все триста шестьдесят градусов. Наблюдатели могут также находиться на разном уровне, а потому иллюзия должна быть полусферичной. Однако это было бы возможным, пусть бы только оный Камешек обладал мозгом с вычислительной силой, сравнимой с «Крэем». Однако ключевой вопрос звучит: откуда он знает, какой фон на его месте должны видеть все те потенциальные и реальные наблюдатели? А он и не знает; нет способа знать; ему бы пришлось, пребывая в движении, непрерывно контролировать виды, растягивающиеся от него во все возможные стороны. Я сомневаюсь, что подобная способность доступна даже тем вероятным наблюдателям; и наверняка уж не Камешку.
Более, казалось бы, мелкое и не настолько «техническое» противоречие связано с изъяном Камешка, с его глухотой. Мы узнаем, что он умеет писать и читать, но родного языка, услыхав его впервые ушами дракона, не понимает; общается он языком жестов. Удивительно, что состояние это остается неизменным, несмотря на продолжительные тренировки, проходящие при помощи Пожирателя Туч. Маг, как мы читаем, углубляется в изучение звуков до той степени, что часами сидит над миской, извлекая из нее ударами звуки различнейшей тональности, в зависимости от силы удара или ударяемых предметов. Это ему необходимо для сотворения иллюзий. Здесь я обхожу следующий факт: человек глухой, живущий в обществе, где нет необходимости знать язык жестов, естественным образом движется к самодостаточности, пусть бы и учась читать по движениям губ. Для персон глухих с детства эта способность едва ли не первична по отношению к языку жестов, поскольку ребенок сперва сопоставляет тематические гримасы лица (улыбка – хорошо; нахмуренные брови, стиснутые губы – плохо), а лишь потом уразумевает высокие абстракции символики движений рук и сам осваивает координацию конечностей, чтобы обеспечить свои потребности. Но пусть уж ему. Многоступенчатая психологическая недостоверность здесь в том, что Камешек предпочитает изучать язык акустически эксплуатируемой миски, а не свой родной ленгорхианский, на котором он довольно давно умеет писать и читать. А соотносимость звуков с идеограммами позволил бы ему освоить науку говорения – он ведь не немой: орет на ветру во время полета над морем. Да даже если бы и был: создавая звуковую иллюзию такой степени сложности, как эхо падающего в закрытом помещении предмета, без проблем мог бы он «говорить иллюзионно», силой воли. Но нет. Камешек глух от рождения и не делает совершенно ничего в этом направлении. Это я полагаю противоречием куда большим, чем согласованность его невидимости с основаниями оптики.
Повторюсь, поскольку читатель наверняка уже засомневался, не взялся ли я здесь за издевательство над «Синевой Мага» Бялоленьской, ведомый личной враждебностью к автору: мне не интересно колесовать этот конкретный текст, я знаю десятки других, даже более подходящих для Мадеева ложа. Речь идет обо всем жанре фэнтези как целом; «Синева» просто имела несчастье сделаться поводом. На ее примере я фиксирую также хроническое отсутствие иммунитета фэнтези к трактовке ее горячим железом логики, ту чудесную развязность, с какой авторы этого жанра привыкли подходить к сотворению миров и персонажей, не обращая внимания на «мелочи» вроде отмеченных выше. Читатель проглотит все и глазом не моргнув – это ведь фэнтези! (Любитель жанра должен сейчас ткнуть обвиняющее куда-нибудь в сторону и сказать: «У них – тоже!», что, однако же, нисколько не является аргументом).
Логика – это основа, без нее вообще речи быть не может ни о какой философии. Не существует такого рода литературы, чей творец, создавая необходимый для произведения мир, делает это наперекор правилам логики, поскольку таким образом он сделал бы невозможной любую коммуникацию с читателем: читатель не имел бы права делать любые обобщения или делать выводы из случившихся ранее – в повествовании – событий. Потому что тогда всякое из них обладало бы характером феномена, лишенного логических связей с другими. Некоторая логика должна обязывать всегда; пусть бы и совершенно извращенная, но – логика. Автор при этом вовсе не обязан давать себе отчет, что, описывая данное событие, он совершает выбор логики – или создает ее; это делается бессознательно, им и – при чтении – читателем.
Начнем уже переходить к сути. В «Синеве» появилась проблема метаморфизма; Пожиратель Туч, дракон, умеет менять форму. Это метаморфизм тотальный, не имеющий ничего общего с мимикрией, пусть бы и невероятно развитой – одно тело превращается в другое, отличается даже масса. В фэнтези это, несомненно, одно из популярнейших заклинаний. Корни магического метаморфизма восходят к принцам, превращенным в жаб, и к двухсотлетним ягам, в полслова трансформирующимся в демонических ladies. Рассматривая это явление, мы, наконец-то, начинаем углубляться в анонсированную громким названием философию фэнтези.
Предположим, что данное существо, врожденно либо приобретенно, обладает атрибутом метаморфизма, то есть, способностью абсолютного изменения тела. Но в таком случае, этот атрибут не может быть связан (вытекать, происходить, быть зависимым) с особенностями тела. Если уж мы договорились, что дракон (единорог, гном, человек; все равно кто) может превращаться во что захочет, например, в муху (отчего нет, если может в собаку – пропорция перехода массы более-менее сходна), то чтобы это умение не оказалось самоубийственным, мы одновременно должны договориться, что позже он сумеет ретрансформироваться из мухи в дракона.
Погодите, погодите – какой такой, к черту, он? Если превратился в муху, то уже не дракон – муха и точка. Обладают ли мухи в этом мире способностью к метаморфизму? Или – чтобы придерживаться стандарта – жабы? Хорошенькое дело: метаморфные жабы, и каждая может прибавить в массе, на сколько захочет; что бы это было за фэнтези, Пратчетт какой-то гаргантюазный. Потому нет: только драконы. Значит, должен существовать метод сохранять самосознание (в котором содержалась бы способность к метаморфизму) несмотря на изменения телесности.
Эту проблему хорошо понимала Урсула Ле Гуин, ее Гед однажды превратился в птицу, а потом уже не смог обратиться назад в человека. Но и она сделала финт: не пойми по какой причине, ввела постепенность трансформации личности, т.е., изменяться возможно, но не надолго, поскольку ты «забываешь» себя в новом облике (позже это скопировал Эддингс в «Бельгариаде»). Но таким образом лишь умножаются противоречия. Магия Земноморья Ле Гуин опирается на слово; а потому она магия «резкая», определяя однозначно, «человек» или не «человек», невозможно быть птицей на десять процентов и на девяносто – самим собой (или наоборот). Произношу слово «волк» и превращаюсь в волка; не говорю: «волк, но частично я» – говорю «волк». А значит после изменения я – волк. Тут нет речи о какой-то постепенности; о медленном «вытекании» человеческой психики. Миг назад я был собой, а теперь я – волк. А если я волк, то не являюсь собою. В момент наложения чар погибает «истинный я», и в этом месте появляется волк. Здесь явственно видна вся противоречивость: это однозначно смерть. Получили мы зверя, потеряли мага; баланс – отрицательный. Что-то скрежещет в механизме мира.
Выход возможен. Нужно обратиться за тело, за границы материи. Припишем атрибут метаморфизма – шире: самосознание – нематериальной душе. Совершаем мы, таким образом, обменную транзакцию противоречия, выкупая до сего дня не разрешенную философами загадку интерактивности духа и тела. Это – уже несколько «освоенное» противоречие, прилично ощупанное интеллектуально, культурно богатое, в то время как проданным оказалось скучное, сухое противоречие, логически выведенное из неустойчивых аксиом придуманных миров.
Более того – выбирая такую стратегию торга философиями, мы превращаем фэнтези в литературный инструмент, способный оперировать на ткани вопросов и проблем реальных и актуальных; а было оспариваемо, что это вообще возможно в данном жанре.
Проекция старых, хорошо известных философских вопросов на миры с реальной магией, удивительно освежает и расцвечивает сами эти вопросы; жанр проявляет здесь свою несомненную специфику. Возьмем, например, упомянутую выше проблему нематериальной души и метаморфизма. Если персональное самосознание неизменно вне зависимости от произвольно-серьезных телесных изменений, это значит, что оно не привязано к существованию ни одного конкретного их признака – а, следовательно, и к телу вообще. Непосредственный вывод из этой обусловленности – необязательность телесной экзистенции. Редуцируясь от дракона до пса, от пса до жабы, от жабы до мухи или амебы, и все же оставаясь собой – мы и вправду размещаем собственное бытие абсолютно за рамками эмпирии. Прыжком, абсорбируя массу из окружения, мы возвращаемся в телесность дракона. Кем были мы, будучи собою, в фазе амебы? К чему мы редуцируемся после нашей смерти? Где мы есть, когда нас нет? Что мы тогда чувствуем? Чувствуем ли хоть что-либо – хотя бы течение времени? И как, следовательно, мы можем выйти из этого состояния? Означает ли это необходимость внечувственного восприятия в буквальном значении, при отсутствии каких-либо чувств? Как вообще может умереть метаморфическое существо?
Вот то, что я, при отсутствии лучшего определения, называю философией фэнтези.
Как и любая иная, она состоит главным образом из вопросов. Через месяц, в следующем фрагменте, я определю несколько основных; для их полного развертывания понадобилась бы книжка.
ІІ
Сутью каждого мира фэнтези, ее жанровым отличием – является магия. Есть магия и магия. Базово я отмечаю две ее разновидности, которые можно бы условно назвать «сверхчувственной» и «ритуальной». Магия «сверхчувственная» – это магия «нерезкая», размытая (per analogiam: fuzzy magic), подчиняющаяся значительной субъективации. Действует она капризно, без жестких правил, исключительно благодаря силе воли одаренных специальными возможностями людей, категоризируемых от наших телепатов, телепортантов, пирокинетиков и т.д. Такая магия выступает, скажем, и в «Синеве Мага» (есть там, соответственно, Говоруны, Странники, Искры); используют ее создатели хорроров, однако в чистой фэнтези она довольно редка.
Тут же решительно преобладает магия ритуальная, «резкая». Трактуется она словно некая практическая область науки, всесильная технология, абсолютно детерминистская; единственное отличие составляет неясность наблюдаемых причинно-следственных связей. Но зато какая разница! Ритуальная магия опирается на знакомство с четкими формулами, жестами, «мыслительными фигурами», применение которых дает в непосредственном эффекте предсказуемый результат; феномен повторяется в возобновляемых экспериментах, недвусмысленно настаивая на существовании жестких причинных связях. Скрещиваю должным образом пальцы и бормочу заклинания – а у тебя на носу выскакивает чирей. Сделаю это семь раз – будет семь чирьев. Ошибусь в инвокации – чирья не будет. Хотя я знаю, что при известных начальных условиях мы получаем нечто на выходе, но не знаю, отчего так; мы не знаем, как это происходит, особенности и правила происходящего процесса остаются для меня закрытыми. Этот род магии, в образе чистом или с малой примесью магии сверхчувственной, выступает в девяти десятых творений фэнтези.
Вопрос, на который я до сих пор не нашел в них ответа, звучит: каким образом существование такой магии влияет на способ восприятия и описания мира? Ибо ритуальная магия ставит под сомнение сами основания мира, необходимо отступать до Картензия и уходить в сторону альтернативной дорогой. Тем временем, я ни с чем подобным не сталкивался: миры фэнтези, с магией, функционирующей даже и тысячи лет, населяют персонажи, что думают, рассуждают и реагируют как американцы двадцатого века. Сперва-то автор всегда радует нас горстью поведенческих изюминок, отысканных в исторических компендиумах, но это все очень поверхностно – краска, травление – и не достигает сути вещей, т.е. чуждой нам ментальности тех людей.
Миры с ритуальной магией требуют целостных, альтернативных с нашей точки зрения, мыслительных систем, опирающихся на иные предпосылки. Это серьезный вызов, притягивающая шарада. На пальцах одной руки могу я перечислить тексты, зацепляющие эти проблемы. Резник в «На тропах единорога», казалось, готовился совершить прыжок в логику неявственной причинности, однако в конце концов он удовлетворился игрой с литературными шаблонами. Желязны то тут, то там ронял интересные замечания и наблюдения, но, похоже, и сам не знал, перед каким Сезамом он стоит. Ле Гуин удовлетворилась трансплантацией философии Востока; также и Бигль, кажется, слышит блюз, но, похоже, предпочитает поэтическую неопределенность четкости семантически неэстетических решений. Те, кто поамбициозней, насыщаются порой настроением и стилем, подсмотренными у Маркеса, Фуэнтеса et consortes, пытаясь из магического реализма ибероамериканцев окончательно удалить реализм, в ложной убежденности, что получат нечто, вычитая. Однако это все равно интеллектуальный Эверест сравнительно с однородным супом праокеана фэнтези, в котором плавают остальные произведения.
Чтобы не оставаться голословным, укажу на одну из возможных исходных точек для конструирования подобных философий фэнтези. Итак, ритуальная магия совершенно не совпадает с тем пониманием суеверия, к какому мы приучены; такого суеверия в мире ритуальной магии просто-напросто не существует. Догмат неявности происходящих вокруг нас интеракций придает ранг научных действий плеванию через плечо, обхождению приставных лестниц, испугу перед черным котом и т.д. Более того, поскольку любая причинно-следственная связь может оказаться ложной, а во многих из них зияют изрядные разрывы (заклинание и молния – и ничего между ними), совершенно иначе складываются правила морали: понятие вины и ответственности растягиваются настолько широко, что едва ли не охватывают все. Здесь речь идет о символическом истолковании, доходящем до абсурда: не существует такого события (комбинации событий), которое не было бы потенциально беременно результатами совершенно апокалиптическими. Всякая оригинальность абсолютно опасна. Прогресс наступает из ошибок. Пермутационные игры составляют отрасль науки/магии – шахматы, карты, кости кодируют (фактически или в убежденности) реальность, данную в ощущениях. Et cetera, et cetera.
A propos о прогрессе. Удивительна заданная Толкиновской традицией статичность миров фэнтези. Никто этого не объясняет, не пытается мотивировать – да что там, это даже не замечается. Анналы миров фэнтези насчитывают тысячи лет, и единственные изменения, которые в них фиксируются, касаются войн, династических наследований, возникновения и упадка империй. Знает ли кто книгу фэнтези с хронологической таблицей, в которой разместили бы дату изобретения пороха, печати, телескопа, открытия законов механики или дифференциального исчисления? Оппонент скажет, что там еще до этого не дошли. После тысяч лет? Впали в средневековье – и так-то должно уже оставаться всегда? Что, какая сила, какие правила сдерживают там прогресс?
В последнее время прогресс начинает несмело стучаться в миры фэнтези. В Польше на это отважился Сапковский, чей мир – это мир в экспансии, полный витальности; прогресс магический и технологический идут синхронно. Получил он за это упреки, поскольку заметили в этом исключительно сатирические преувеличения (очистка стоков и пр.). Конечно, там есть зазоры (традиция Толкина – исчезнувшее знание, древние артефакты – сражается с духом постмодернизма: все те генетические (!) эксперименты). Магия выступает как наука, поскольку если уж индукция, то и кумулятивность знания, и дисциплинарная специализация – этого уже никак не сдержать. Сапковский (и, пожалуй, в меньшей степени Крес) по крайней мере пытаются, чего нельзя сказать о десятках книг западной фэнтези, которые интеллектуальная инерция сталкивает на литературную мель.
Еще одна область, лежащая неподалеку – это религия. Религия в НФ уже дождалась пары рассмотрений; занимался ли кто религией в фэнтези? Я не слышал.
Магия – все равно, сверхчувственная или ритуальная, – выкорчевывает основания и вырывает исторические корни веры. Никто не уверует благодаря чудесам, поскольку чудо можно прикупить на углу улицы у любого чародея. Не объявится Бог или пророк, исцеляющий больных, поскольку на этом специализируется жреческая магия, и не станет он превращать воду в вино, поскольку это простейший фокус для алхимиков, познавших трансмутацию субстанций. Религиоведение фэнтези находится воистину в непростом положении. Где конкретно лежит граница, отделяющая магические умения от божеской интервенции?
С другой стороны, ритуальная магия по самой своей природе приводит к мысли о некоей демиургической творящей силе; вера во внеэмпирические сущности является естественным следствием неявственности причинных связей. Ведь некто/нечто должны оказаться причиной (добавлением энергии, приложением сил) тех повторяющихся вроде-бы-чудес. Так выглядит направление рассуждений мыслителей, не выступающих, увы, на страницах романов фэнтези; это их опосредованное доказательство существования Бога.
В мирах фэнтези значительный вес приобретает и доказательство св. Ансельма, как первоначальное, так и в версии Норманна Малькольма. Надо учитывать, что в них возможность помыслить о данном объекте действительно призывает к существованию оный десигнат мысли. Маг промышляет яблоко, и появляется яблоко; промышляет роскошный обед, и вот же, материализует накрытый стол – а человек не защитится от упорной экстраполяции этой идеи до бесконечности, до, собственно, Абсолюта. В фэнтези Кант проиграл бы диспут с любым чародеем; более того, мне известны такие миры фэнтези, в которых существование является описываемой особенностью (vide Призрачное Колесо в Эмбере Желязны). Доказательство же логичной конечности существования тысячекратно сильнее слышно в мире, где символическая интерпретация касается любой событийности, и связи устанавливаются согласно субъективным причинам и следствиям.
Все пишу о Боге в единственном числе и с большой буквы – в то время как в фэнтези, по очень неявственным для меня причинам, царствует политеизм. Я подозреваю, что просто Валары и Майары оказались слишком сильны и слишком индивидуализированы рядом с христианскими ангелами, а Эру оказался слишком глубоко скрыт – а потом уж пошло оно лавиной. В последнее время разве что Тэд Уильямс в «Памяти, Скорби и Тернии» решился на монотеизм. Мне это кажется превентивным отступлением на заранее увиденные позиции от опасения наткнуться на серьезные теологические вопросы – потому как в случае политеизма закрывание на них глаз гарантировано; там нет и речи ни о какой связной, морально вяжущей теогонии.
Политеистические теологии фэнтези, впрочем, выказывают довольно часто некое сатанистское искривление; персонификация зла выступает здесь реальной чуть ли не в каждом мире, добро же, в свою очередь, объявляется реже и несравнимо более скромно, и оно никогда не институциализировано и всегда – и это важно – стартует с более слабых позиций. В результате, кстати, намного легче поверить в дьявола (или как там зовется его местная версия). Бог (боги позитивные) действует из-за кулис, обычно даже не выдавая своего присутствия. Зло владеет целыми предписанными ему странами, расами, сферами жизни, формами магии; ничего подобного нельзя сказать о добре. В оппозиции к злу здесь стоят разве что индифферентные в отношении добра страны, которые лишь надлежит еще объединить усилиями героев для защиты от адского нападения, что может и не случиться, поскольку полно предателей, трусов, а Зло – так сильно и так реально. Это – жесткий канон, из-под влияния которого авторам, похоже, непросто освободиться. Почему? Является ли это – снова – лишь инерцией мышления? Но проблема ведь состоит в другом, в несвязности видения. Таким-то образом мы возвращаемся в точку, из которой начали размышлять: как не позволить упасть всем подброшенным в воздух фактам, не допустить разрушения конструкции. В теологии фэнтези больше дыр, чем в швейцарском сыре.
Слишком тщательно обходятся стороной простые культурные, социологические и психологические последствия существования таких «религиозно ангажированных» миров, подобно тому, как – что мы уже подчеркивали выше – не делаются последующие выводы из функционирования магии. В фэнтези же все же случаются ситуации непосредственных божеских проявлений, явственных теофаний, вроде радуги после грозы. Должно это иметь важные последствия для всех сфер жизни, поскольку если нет нужды в богов (Бога) верить, если уж всякий попросту знает, что боги существуют, то мы приходим к противоречию, и здесь уже нет и речи ни о какой религии.
Впрочем, для этого нет нужды в распространении теофании – порой к аналогичным следствиям приводит сама онтология сказочного универсума: в каждой второй фэнтези выступают духи, при том выступают реально, как еще один элемент бестиария, посмертные эманации, непосредственное доказательство посмертной жизни. И сколько же авторов отдает себе отчет, что, сервируя нам эдакое столкновение «лицом к лицу» с эктоплазмой, они, тем самым, совершают метафизическую переоценку огромного масштаба и возносят эсхатологию до ранга точных наук? Где же тогда те подразделения исследователей жизни после жизни, где те профессии платных медиальных связных с посмертием, картографов Гадеса, наемников утилитарной трансценденции? Не видно их. Духи есть – а словно бы их и не было. Пугают; и только. Здесь видно все невежество творцов фэнтези: страх психологически уместен лишь в мирах, параллельных нашему, где, как и нас, «духов нет» – то есть в хоррорах; но не в фэнтези, где «духи есть». Столь же чудесно как от них, герои могли бы тогда с воплями и страхом в глазах убегать от эльфов или гномов. По крайней мере, в НФ никто уже не приказывает героям таращить зенки на подающих напитки андроидов.
В обоих случаях – мира с реальными теофаниями и мира с духами – никакие моральные споры не имеют места быть, нет неуверенности, убрана проблема выбора ценностной системы. Непросто было бы найти революцию более фундаментальную. Надлежало бы делать вывод, что книги фэнтези заселены почти иным видом людей, психологически совершенно с нами несходных. Иные их мысли, иные ассоциации, иные реакции, иные законы правят их поведением.
Искусство сотворения миров состоит в консеквентном извлечении автором выводов из всех (и выраженных эксплицитно и лишь имплицитно закладываемых им) принципов, до самого экстремума воображения – и за его границы. Тем временем 99 процентов авторов смертельно боится ступить куда-нибудь за межу утоптанной ордами предшественников площадки. Допускаю, что это результат коллективизации их воображения, куда более жесткого, чем это характерно для авторов НФ. В результате писатель фэнтези садясь за очередную трилогию, даже не осознает, что, например, делая своим героем полуэльфа-мага, он не совершает выбора никаких принципов – он попросту копирует; принципов он не знает. Знали их, осознавали – предвестники жанра. Для них каждое колдовство, каждый артефакт, каждое чудовище были открытием и решением; замечали они – допускаю – все существующие между этими элементами логические связи. Однако их преемники презрели интеллектуальный труд этой игры в интеллектуальные шахматы и не ступили ни на шаг дальше; довольствовались наследством – пусть даже и немалым. Это не продолжатели – это наследователи.
Эти несколько перечисленных выше пространств и поданных примеров философии фантастики укладываются, как я теперь вижу, в нечто наподобие каталога набожных пожеланий, атласа земель, еще не открытых. Чтобы не заканчивать в минорном тоне, укажу здесь, что и в научной фантастике долгое время дело обстояло сходным образом. Каждый жанр требует определенного периода для исчерпания простейших и притягательнейших комбинаций в пространстве характерных для него сценариев и набора идей. Только потом можно из этих модулей строить конструкции более высокого уровня сложности, используя их в качестве аналогий, метафор, аллегорий и символов. Это эволюция, сходная с эволюцией технологии развлечения в технологии искусства; фотография, кино, телевидение, а теперь и компьютеры сперва должны достичь предела своих развлекательных возможностей. Нельзя приниматься рисовать «Тайную вечерю», если не сумеешь нарисовать оленя в гон. Что, конечно же, не означает, что всякий станет вдруг Леонардом да Винчи. Однако этот всякий будет уже знать, что он не обречен на оленей, но может дергаться ради чего-то большего; что он может пытаться – как минимум пытаться».
*
И тут-то – оставляя в стороне случившиеся на тот момент дискуссии – наступил момент наиболее интересный: Дукай попытался не только задать вопросы, но и ответить на них. В 1998 году вышел его сборник «В стране неверных» («W kraju niewiernych»); объединенный проблематикой, скажем так, метафизической, он содержал самые различные по сюжету и жанровой принадлежности рассказы, но среди прочих там был и чуть ли не единственный его рассказ в жанре фэнтези: «Ход Генерала» («Ruch Generała»). По сути, он был (в том числе) и попыткой оставаться в рамках заданных самим Дукаем в «Философии фэнтези» вопросов – относительно «ритуальной магии», относительно прогресса в мирах фэнтези etc., etc.
Приведу здесь лишь пару фрагментов – достаточно показательных для самого рассказа (совершенно осознавая, что, вырванные из (кон)текста, они звучат не без странностей – но да уж больно плотный, как по мне, текст «Хода Генерала»).
ДУКАЙ Яцек
Ход Генерала
Фрагмент 1
«Генерал начал свою компанию по поискам в космосе другой Земли в ответ на сконструированное Иннистроунцем-с-Островов, эльфийским мастером магии, Заклинание Конца Света. Иннистроунц, работая по поручению Южной Компании над промышленным использованием живых бриллиантов для безопасной и рентабельной передачи в мануфактуры выбранной из Солнца энергии, отработал схему такого выстроенного на них мегаконструкта, который, будучи запущенным, неминуемо приводил к взрыву звезды, до чьих внутренностей квази-билокированные бриллианты дотягивались через высшие измерения. Полное Заклинание Конца Света – еще называемое Солнечным Проклятием – требовало, правда, двух пар живокристаллических систем и двух звезд (чтобы суметь перекачать в реальном времени энергию из одной в другую), и все же это были приемлемые затраты рядом с возможным результатом. Гибель Земли! Или же, собственно, конец света. Иннистроунц разругался с Компанией и обнародовал свое открытие; много кто имел к нему за это претензии, но совершенно зряшные, как полагал Генерал: раньше или позже сделал бы это кто-то другой, возможности всегда тяготеют к самореализации, все, что есть, что хочет быть – а то, что уже помысленно, существует на девять десятых. Так крутятся жернова истории. Потому претензий к Иннистроунцу у него не было. Зато он сразу принялся раздумывать над соответствующим щитом, что соответствовал бы такого рода мечу. Так родилась идея поиска планет-близнецов Земли и их колонизации. Но у Генерала проблемой стало протолкнуть ее сквозь армейскую бюрократию, поскольку дальновиды, подчиненные полковника Орвида, шефа секции оперативного обслуживания Генерального Штаба (читай: военной разведки), подчинялись непосредственно Штабу, в обход командных структур урвитской Армии Зеро Жарного – а кроме графа никто не верил, что однажды найдется кто-нибудь настолько безумный, чтобы запустить к собственной погибели Заклинание Конца Света. Раздавались даже голоса, что само обнаружение второй Земли может спровоцировать кого-то инициировать Солнечное Проклятие, поскольку создаст для него возможность пережить взрыв Солнца; впрочем, Генерал заявил, что в таком случае именно Соединенная Империя должны быть той, кто первой оную Землю-бис отыщет, иначе она и сделается неминуемо объектом шантажа. В конце концов, Штаб как-то да проглотил это.
Еще до того, как «Ян IV» вышел за границу коммуникативных чар дистанционных зеркал и заклинаний искусственной телепатии, до экипажа добралось известие о генеральном штурме Птахом Новой Плисы и о бегстве Фердинанда в Замок в Чурму, куда его телепортировали урвиты. Это было уже окончательное подтверждение падения Княжества. Как видно, урвиты Лиги сломали сопротивление и готовились к наложению блокирующих заклинаний, иначе Фердинанд не согласился бы на телепортацию, поскольку в том, как ни крути, был изрядный риск: несмотря на многолетние старания магов, в лучшем случае каждый второй делинквент добирался до точки назначения, остальные пропадали где-то в пространствах чужих мыслей. Князю Фердинанду повезло».
Фрагмент 2.
«– А сколько всего у того Птаха, мать его за ногу?
– Этого он и сам, полагаю, не знает. Народонаселение покоренных им земель оценивается от двухсот пятнадцати до двухсот восемнадцати миллионов.
– Так много?! – удивился Варжад. – Откуда же взялось этой грязи?
– На Севере царит бедность, Ваше Величество. Они размножаются весьма быстрыми темпами, – отрапортовал Ламберо, имея в виду логическую связь этих двух фактов.
– Это естественное демографическое давление, – сказал Генерал, присев на подоконник перед королем, положив трость поперек бедра, с левой ладонью на ее рукояти. – Раньше или позже, но такой вот Птах должен был появиться. Его несет волна естественного прироста, он словно молния, что заземляет энергию грозы. Это ведь еще твой дед издал декрет, закрывший границу Империи перед иммигрантами. Богач остается богачом лишь пока у него есть для контраста бедняк. Именно потому наступление Птаха и кажется таким абсурдным, если смотреть на карту: его земля рядом с землею Империи и союзников выглядит словно – без преувеличения – вошь рядом с драконом. Но это дурная точка зрения.
– А какая хорошая, а?
– Хорошая вот какая: неполных семьсот лет тому вся нынешняя Империя – была лишь Чурмой, заливом, островом Маяка, что пошел на дно во время Двенадцатилетней, да окрестными селами. А еще бароном Анастазием Варжадом, что имел смелость поднять восстание посреди Великого Мора. И царица Йкс взглянула на карту, увидала вошь рядом с драконом и отозвала посланные войска.
– И что это за дурацкие аналогии? – рассердился Бирзинни, закончив некий короткий разговор через свое зеркальце. – Что – что? Мы эдакий колосс на глиняных ногах? А Птах с его варварским сбродом – будущая Империя?
– В этом мы можем убедиться единственным способом, – спокойно сказал Генерал. – Ожидая. Но ты и вправду хочешь позволить ему выстроить эту его империю?
– Это просто искривленная перспектива, – Бирзинни замахал в сторону Генерала деактивированным зеркальцем. – Это все из-за этих твоих заклинаний: ты живешь и живешь, и живешь, еще один век, еще один, история стран лежит между молодостью и старостью; даже захоти ты, а не уменьшишь шкалу.
– Для королей, – сказал Генерал, глядя прямо в голубые глаза Варжада, – это самая подходящая из шкал, самая подходящая из перспектив. Мы должны ударить сейчас, когда Птах завяз в Княжестве. Без попыток, без прощупываний, изо всех сил. Выйти на него перевалами Верхним и Нижним, войти с запада Болотами и морским десантом в К’да, Озе и обеих Фуртваках; и с воздуха, разрывая его систему снабжения. Теперь. Сейчас же.
Варжад выбросил сигарету, принялся грызть ногти.
– Я должен его атаковать? Так вот, ни с того, ни с сего, без причины?
– Причина у тебя есть. Наилучшая из возможных.
– Какая?
– Сейчас Птаха можно победить».
*
Но и это оказалось не все. Примерно в то же время Дукай начинает писать не то большую повесть, не то роман под рабочим названием «Сказка». Сюжет – разведывательно-исследовательская миссия в мир, где в рамках физических законов действует то, что приходится называть «магией». Кусок работы был сделан немаленький – до ребрендинга на авторском сайте Дукая был доступен написанный кусок «Сказки», в нем – под пять-шесть авторских листов. Однако обстоятельства сложились так, что «Сказка» так и не была дописана; некоторое время она упоминалась в интервью в режиме «продолжается работа», но в последние годы лишена и этого статуса. (Мне кажется, что Дукай – прощупав как раз все эти вопросы, так интересовавшие его в «Философии фэнтези», и найдя удовлетворяющие его самого ответы – перегорел; решенная задача не показалась уже достойной окончательного воплощения; впрочем, скептики могут говорить – мол, «не справился»). Но вот остаточные следы этих решений – остались. Возьму на себя смелость привести пару небольших фрагментов, непосредственно касающихся проблем магии и ее восприятия почти-нашими-современниками из почти-нашего-мира.
ДУКАЙ Яцек.
Сказка
(фрагмент «Оперативные данные»)
«Я прочел учебник ХасВарТ’ви, потом сразу же взялся за Глюка.
У вас тоже есть своя магия, – писал ХасВарТ’ви. – Знаешь ли ты, отчего лампочка светит? Знаешь ли схему и принципы строения ядерного реактора? Сумеешь ли объяснить ребенку физику двигателя внутреннего сгорания? Или математику компьютерной сети, машинных языков, теории хаоса? Сомневаюсь. А разве это каким-то образом мешает тебе пользоваться практическими применениями этих Тайн? Разве тут вообще идет речь о вере? Веришь ли ты в расщепление атома? Уже ребенком ты нажимал контакт – и зажигалась лампочка. Ты не убегал с воплем. И все же между нажатием кнопки и зажиганием лампочки имел ты лишь Тайну. Демоны твои зовутся «электричество», «физика», «химия». Магию твою объясняют друг другу специалисты из университетов; потому что – не тебе ведь, тебя это даже не интересует, даже не пытаешься ты понять, нет такой нужды. Но если бы внезапно забрали у вас всех тех специалистов – разве из-за этого техника автоматически сделалась бы магией? И разве само сиюминутное мнение об отсутствии объяснений для подобного рода случаев является достаточным основанием, чтобы столкнуть их в пространство суеверий, предрассудков и побасенок? Нет. Лампочка точно так же горела бы, зажги ее две тысячи лет назад. Невозможность заметить непосредственные причинно-следственные связи не свидетельствует ни о чем, кроме нашего невежества. Абсурдно полагать, что уже выяснены все правила, управляющие миром. Магия Раавы – магия исключительно для вас. Для меня магией была техника вашего мира, пока не убедили меня в рациональности лежащих в ее основании принципов науки. Тот факт, что на Рааве мы научились с пользой для себя применять принципы функционирования нашего мира при одновременной неизвестности этих принципов – тот факт, конечно, не означает, что принципов этих совсем нет, и что нашим техникам не хватает рациональности. Вы строили атомную бомбу еще до того, как разобрались во всех соответствующих законах; и разве от этого в «Проекте Манхэттен» использовались чары? Я, говоря метафорически, научу вас ездить автомобилями, летать самолетами, использовать компьютеры – для выяснения принципов действия которых пока не хватает специалистов. И это – магия. Знание животного, которое не перебегает через автостраду; инстинкт летящих за траулерами чаек; приспособленность домашних котов и собак: где кран, где лоток, что означает звонок, когда можно выйти, что случится, если подожду. Но дом нам не принадлежит.
На ксота слово «смерть», – писал Глюк, – изображается двумя идеограммами, что силлабически читаются как Вторая Бесконечность. Идет тут речь о смерти в значении непрерывности. Смерть как моментальное изменение положения, или гибель, это Погибель Тела. Нужно знать, прежде чем начнешь учиться: язык – болезнь заразная. Невозможно научиться говорить, не обучаясь мыслить. Продаю тебе здесь не только язык; продаю тебе целый мир. В Сказке нет настолько непроходимого барьера между жизнью и смертью, какой имеется на Земле. Там существует реальный контакт с эсхатологической реальностью. Умершие влияют на жизнь живых; живые влияют на жизнь мертвых (есть для этой «жизни» слово на ксота: «ллокс»; идиома). Нынешним канцлером ФКГ является мертвый вот уже восемьдесят лет Сказки НорХасУНор. Выбирают его на очередные сроки, потому что он хорошо управляется; тот факт, что он мертв, имеет значение второстепенное, речь идет о выгоде, а он им выгоду обеспечивает. Я использую этот пример, потому что он весьма символичен. Забудь о кладбищах. В Сказке нет кладбищ; никто не молится над трупами, поскольку там знают, что это лишь мясо, а умерший ллоксис (настоящее время, производное от ллокс; конъюгация ІІІВ) где-то вне. Судебные процедуры Уголовного Кодекса Ксот и его производных перечисляют умерших среди юридических лиц, квалифицирующихся как объекты торгового права; правда, умершие обладают практически нулевой кредитной вероятностью, поскольку, собственно, не удастся на них возложить личную ответственность. По этой же причине, как и из-за возможности оказывать общее влияние на умерших, живые нанимают среди них – а обычно речь идет о бывших солдатах – следопытов для Другой Стороны. Наём обычно происходит опосредованно, на условиях передачи гонорара: умерший соглашается выполнить на Другой Стороне это и это, а наниматель платит указанным наемником членам его семьи, возможно друзьям и т.д. Политические развлечения дотягиваются до Домов Вечности (смотри -> Идеокарты Другой Стороны). Другой аспект смерти проявляется в судебной практике уголовных судов Сказки. Не существует наказания смертью. Практически все серьезные преступления караются пытками, назначаемыми согласно т.н. Книге Боли, где градуировано перечислены все возможные физические и психические страдания. Конечно, в Княжестве Паал, в Ингиде и Карцельномере, в результате остракизма можно оказаться осужденным на смерть, однако это рассматривается именно как форма изгнания; убивают безболезненно. Вообще пытки считаются здесь отраслью прикладной медицины. Если речь идет об убийствах, то решительно преобладают совершенные в аффекте; совершенно нет смысла убивать ради наследства, поскольку смерть не вычеркивает мертвого из его наследственных прав; совершенные убийства не могут оказаться ни нераскрытыми, ни с неизвестным убийцей, поскольку сам убитый громко требует в таких случаях справедливости. Конечно, как и всегда, существуют контрспособы. Можно убить таким коварством, которое сама жертва до самой гибели (а порой и после) не сможет уразуметь. (Кто всыпал мне тот медленный яд в вино на балу год назад? Невозможно раскрыть). Можно также воздействовать на мертвых чарами. Существует область магии, назовем ее некромагией (которая совершенно не имеет ничего общего с некромантией, это совсем не то пальто), позволяющая подчинять мертвых живым, до их полного подчинения либо дезинтеграции личности; и мертвые не могут пользоваться чарами. Подробности – в рапортах и работе ХасВарТ’ви.
Я посмотрел, что означает акроним ФКГ. Федерация Купеческих Городов, поясняла энциклопедия Сказки; ФКГ – их соответствие Ганзы. Приморские города, сгруппированные в ФКГ, практически монополизировали торговлю корштом и зерном между Рыбой и Наизнанку.
Я посмотрел, что такое «коршт». Выделения яундингов, подвергаемые после смешивания с глюкозой и сахарозой магической обработке; систематически и в малых порциях потребляемый, он удлиняет жизнь чуть ли не троекратно. Злоупотребление приводит к зависимости и психической болезни, корштктилиозе.
Я посмотрел, что такое яундинги. Разновидность насекомых или ракообразных (отсутствие достоверных данных из первых рук), обитающих в Раске, Йотах Полдня и в бассейне Ульги, питающихся нартузом и черным аном, размножающихся через накрыж с ренжачанами, вероятней всего, симбиотичны с эльфийским деревом.
Уже не хотелось мне смотреть, что такое нартузы, черный ан, накрыж, ренжачане, эльфийское дерево, и та Раска, Йоты, Ульга – это напоминало сражение с гидрой: из каждого ответа вырастают три новых вопроса. Тут нужен какой-то Геркулес эйдетизма».
(фрагмент «Маг»)
«– Итак, начнем с тренировок концентрации. Постепенно ты должен дойти до такой ловкости, чтобы уметь кристаллизовать свои мысли, даже если тебя неожиданно пробудят от глубокого сна.
– Ты телепат?
– Прошу прощения?
– Каким образом ты сумел бы отличить из-за зеркала тех, у кого талант, от остальных? По внешнему виду?
– Ха, телепат. Нет, это попросту такое мелкое волшебство. На Рааве оно ничего бы мне не дало, потому что там, полагаю, все уже носят топазы; но здесь оно может пригодиться. Мне вообще не приходится заглядывать вам в головы, вы сами сеете вокруг себя мыслями, чувствами, впечатлениями. Среди прочего я именно этому и хочу тебя обучить: дисциплине разума. Ты должен властвовать над тем, что проецируешь в мир. Тут, на Земле, существует какая-то природная заглушка, нечто вроде гравитации, противоположной магии, очень сильной, связывающей ум; проекции вовне даются вам с трудом, нет непосредственных связей между мыслями и окружением. И, несмотря на это, вы плюете собою окрест. А в Сказке, в этой невесомости магии, это обращается против вас. Я не тренировал ранее агентов на магов, и шли они такими, как ты сейчас. Ну и по-разному выходило. Вам надобно взнуздывать свои мысли.
– Но ведь это абсурд! Как можно управлять собственными мыслями? Если я решу о чем-то не думать, то как раз мне приходится думать о том, о чем должен не думать, иначе я забуду. С тем же успехом я мог бы пытаться схватить себя за волосы и поднять в воздух.
– Это можно сделать.
– ХасВарТ’ви...
– Я научу тебя.
– Тогда учи.
– Представь себе какой-то простой, монолитный по материалу предмет. Что угодно. Ну. О’кей, может быть. Теперь выброси из сознания все остальное, оставь только этот стакан. Никаких других ассоциаций, представлений, воспоминаний... Стакан. Стакан. Стакан. Стакан. Меня тоже выбрось. Да. Держи.
– ...
– Держи.
– ...
– О’кей, хватит.
– И?
– Не знаю, что сказать, Явер.
– Хм?
– Ты меня устыдил. Нечто такое на первый же раз... У тебя даже случился долгий период истинного аальд. Лично я пришел к такому только через полгода тренировок.
– Ты шутишь.
– Явер Апроксимео, хотел бы ты стать моим учеником?
– Но я уже.
– Но хотел бы ты стать моим учеником?
– Нет, пожалуй нет.
– Почему?
– Мне пришлось бы тебя оскорбить.
– Оскорби.
– Так или иначе – а тебе придется меня учить. Это не будет умно.
– Ты прав.
– Ты и так видел.
– Ясно и отчетливо. Но так легко тебе не получить моей ненависти».
*
И – мне вот до сих пор жаль, что «Сказка» так и не была дописана Дукаем; возможно, это была бы мощная попытка ответить на ряд вопросов «Философии фэнтези», поставленных им самим.