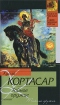Хулио Кортасар «Добрые услуги»
Отзывы читателей
Рейтинг отзыва
![]() Apiarist, 2 марта 2011 г.
Apiarist, 2 марта 2011 г.
«Простота хуже воровства» — первое, что приходит на ум во время чтения рассказа. Именно простота, которая возведена, с одной стороны, до степени порока, с другой стороны, это естественное состояние, за которое человека становится жаль (ну, не понимает он, простодушен сильно…). Вот эта-то простодушность выписана Кортасаром великолепно. Причем, мое восприятие рассказа было обострено эффектом абсолютного узнавания – так вышло, что я знаком с человеком, который, кажется, почти что двойник главной героини рассказа.
Изображенная (хотел написать «изобличенная» — не осмелился: автор, скорее всего, не глумился, а сочувствовал) простодушность достигает степени комичности; будучи выписанной невероятно реалистично, воспринимается естественно, как данность. Мастерски подмеченные состояние, поведенческие аспекты и, самое главное, мотивация. Что за чудо – автор изображает тот самый внутренний движитель, который в значимых случаях заставляет поступать героиню тем или иным образом, и читатель видит, и «как», и «почему», а еще это «почему» выходит естественно и убедительно. Следить за такими вот моментами – одно наслаждение.
Самый последний абзац – просто отличный. Казалось бы, внешне, буквально в нем – ничего особенного, даже можно выявить элемент разочарования, что так вот <обрывисто> всё кончилось… Ничего не обрывисто – акценты расставлены так умело, что комичность главной героини, от лица которой идет повествование, выпирает, а слепая простота ее взглядов и чувствований выглядит наиболее ощутимо.
Воистину простота – удивительное свойство личности, а будучи естественным (не наигранным, не нарочитым) – так и подавно. И Кортасар всё это показал очень точно и живо.
![]() jamuxa, 18 декабря 2009 г.
jamuxa, 18 декабря 2009 г.
нам — рождённым в СССР (и давно, надо заметить) — столько десятилетий, лет, классов и семестров твердили о расслоении любого цивилизованного общества на классы (а классики были и бородатые,и не совсем, и лохматые, и совсем наоборот — но в «классики» играли будь здоров: придумывая как саму игру, так и, на ходу — на ходу, правила игры), а так же о том, что и сами эти классы расслаивались (как здесь, по странной (по странной ли?) ассоциации не вспомнить и вкуснейший торт Наполеон....), а особенно преуспел в своём внутреннем расслоении, тот, вконец загнивший класс буржуа и примкнувших к ним извращенно-интеллигентных эстетов....
и в слове «богема» было что-то туманно порочное, такое непрочное в своих моральных устоях, эдакая блудливая улыбка совращенного чеширского кота, полурастворенная где-то там, под призрачными покровами буржуазного искусства (это вам не кристальная чистота помыслов и на глазах раскрывающихся смыслов соцреализма!), где и блуждали и блудили деятели и полудеятели, и околодеятели, и приблудодеятели этих буржуазных искусств...
что делает писателя большим? — не иначе как умение рассказать...
о нравах и персонажах парижской (да надо признаться, что не только — а любой) «богемы» (или «полубогемы», что суть одно: ещё одно отражение в немного порочном и кривоватом зеркальце), не впадая в многословие гламурного романа, Кортасар рассказывает незамысловатыми словами Франсинэ (доброй, пускай и немного спившейся, «служанки по вызову»)...
на наших глазах рождается и тут же обрывается ещё одна попытка «контакта» (как материалистические классики сказали бы: верхов и низов), и тот, почти что бессловесный диалог, почти забытый...
потому и Мастер.