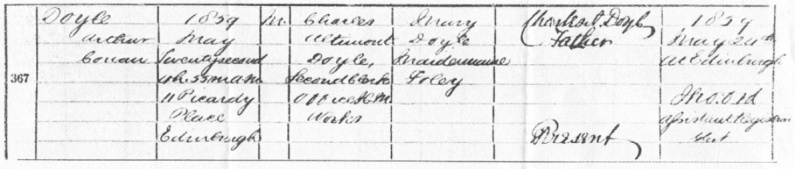В 1997-98 ― первые записи и задумки романа, который носил у нас условное название "Реквием". Попозже мы охладели к этой идее, решив, что такой роман мало кому интересен — даже тем, кого мы в этом романе изобразили. Отдельные главы мы выкладывали в сети
прологом, эпилогом и моралью.
Аэлите, Сидору, Владимиру ― людям и конам.
В общем без лаконизма поэзии и абсолютности образа не обойтись. Про своих я буду писать светом, световыми «переломами», как Леонардо да Винчи, потому что для этого гениальности не требуется, а только требуется зоркость и любовь... И если у меня не хватит живого времени, упрямства и таланта, что ж, по крайней мере я буду знать, что старался.
Во время движения водитель обязан называть остановки и озвучивать иные необходимые тексты.
Все описанные в романе события, герои и место действия произведения являются вымышленными, поэтому авторы приносят свои искренние соболезнования тем, кто узнал или не узнал себя в их повествовании, потому что абсолютно все события, герои и место действия произведения являются выдумкой авторов, и претензий в свой адрес за вольные или невольные совпадения или не совпадения с имеющим место быть или не быть в действительности событиями авторы не принимают на свой счет и не несут ответственности за возможные или невозможные случайные или не случайные сходства имен, названий и места действия произведения, о чем авторы и предупреждают всех, кто смог узнать или не узнать события, имена и место действия произведения не имеющие никакого отношения к события именам и местам действия каких-либо реальных или ирреальных событий, имен и мест.*
* — В мусульманской традиции троекратное публичное произнесение вслух отрицания отношений с женой является достаточным для того, чтобы развод считался состоявшимся. (Здесь и далее примечания соавторов
Читатель, видящий, как смущены мы подобным началом,
чтобы привести в порядок
сюжет, простит нас за то, что мы пока что скрываем от него
некоторые детали.
Д.-А.-Ф. де Сад, 120 дней Содома
Пролог первый, вовсе необязательный
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФОНАРЯ
Если спросят тебя, что главнее — луна или солнце,
смело отвечай — луна, ибо луна освещает вокруг ночью,
а солнце светит днем, когда и без того светло.
Козьма Прутков, Плоды раздумий
Темна и тиха была ночь на одной из окраин славного города Санкт-Екатеринбурга с третьего на четвертое мая года 199... от Рождества Христова, от начала же Великой Перестройки ...-ого. Ночь после самых длинных в году праздников — ночь перед праздниками предстоящими. Ночь межпраздничья, безвременья. Ночь не в счет.
...Ночь — два часа от полуночи, середина ночи, Часа Быка...
...Улица — полтора десятка домов по сторонам короткой ленты асфальта...
...Фонарь — единственный луч света в темном ее царстве...
... «Аптека» — белое на голубом на серой стене в круге света...
Тишина и пустота.
Знаете ли вы сказку про старый уличный фонарь?
Она не бог весть как интересна, но все-таки послушать ее стоит.
Ганс-Христиан Андерсен, Старый уличный фонарь
Лишь тихое гудение и слабое потрескивание нарушает первозданный покой городской окраины — это на пятиметровой высоте фонарного столба работает дроссель да щелкает стартер-неонка под белым, омытым недавним дождиком, его колпаком.
В ртутно-аргоновом чреве его лампы также пусто, как и вокруг, и ничто — если не считать проскакивающей иногда искры в плохо затянутом контакте на цоколе патрона — его, увы, не беспокоит. Даже мошки не бьются о рифленое стекло защитного колпака.
Все как всегда: ночь, улица, он и аптека.
Одиночество. Не на что даже со вкусом посветить — эллипс серого асфальта под ногой-столбом, серая же стена дома и эта вывеска, которую он, Фонарь, даже прочитать не умеет.
Потому что не умеет он читать, не обучался. Потому что на обычный, человеческий, взгляд не обладает он вообще никаким другим умением, кроме, как некогда заметил поэт, «светить всегда, светить везде, до дней последних донца», для чего он, собственно и был изготовлен, чем исправно и занимается, с тех самых пор, как его здесь установили.
Впрочем, ничего подобного поэт Фонарю не замечал. И не мог заметить, так как до фонаря ему были все вообще фонари. Да и не бывал он никогда на этой улице, а если б и бывал, то самого Фонаря тогда еще и в проекте не было. Поставили его тут всего-то пару лет назад, и из всего поэтического наследия великого и могучего русского языка знал он только одну строку совсем другого поэта с которым тот, первый, говорят, не очень ладил, а именно: «Что стоишь, качаясь, пьяная скотина?». Сей искаженный образчик именно в такой интерпретации занес к Фонарю какой-то приблудившийся пьяненький мужичек, и столько было в его заунывном пении подлинного чувства, что Фонарь, впав в невольный резонанс, помнится, даже легонько подпевал дросселем приникшему к столбу мужичонке.
И еще знал Фонарь несколько умных и не очень слов и фраз некогда великого и могучего, подхваченных им из людских разговоров, среди которых особой загадочностью отличалась одна: «Открывай, Люська, сволочь, я же вижу, ты дома — свет горит!», которую орал, обращаясь непосредственно к нему, другой приблудившийся тип и колотил Фонаря по столбу-ноге. Это Фонарю не очень-то понравилось, и он мог бы легонько стукнуть того в ответ парой-другой десятков вольт, чтобы не доматывался. Но Фонарь сдержался, потому что не был он простой пустышкой, как какая-то там обыкновенная лампа накаливания.
Газо-световая лампа рис.200 представляет собой стеклянную колбу 1,
внутренние стенки которой покрыты тонким слоем люминофора —
состава, светящегося при облучении... Воздух из колбы удален, а ее пространство заполнено парами ртути и газом аргоном...
В схему включения газо-световой лампы включается дроссель 6, стартер 7 и конденсатор 5. Дроссель представляет собой катушку со стальным сердечником.
Стартер выполнен в виде миниатюрной неоновой лампы с двумя электродами 3 и 4, которые в холодном состоянии не соприкасаются.
В.Е. Китаев, Л.С. Шляпинок,
Электротехника с основами промышленной электроники
Он был Фонарь. Не просто фонарь, а Фонарь: то есть — не вещество, но существо. И не просто существо, а существо разумное, Sapiens. Что бы там об этом ни думали те, кто создал его и кому он исправно служил, но даже по их, людским понятиям причем, самых умных из них мысль — есть ни что иное, как слабые колебания электромагнитного поля, упорядоченные изменения электрических потенциалов. Проще говоря — электрический ток переменных характеристик. Тот самый, которого в любой розетке целых две сотни двадцать вольт, не говоря уж об амперах и ваттах, словом — более чем достаточно. Так что электрического тока — причем именно переменного — он, Фонарь, получал в избытке. И чем упорядочить электрические колебания у него имелось — колебательный контур (система «дроссель-конденсатор») у него был приличный. Так что, чем думать, как мысли организовать и куда их откладывать на хранение, пока напряжение отключено, у Фонаря имелось — специальный электромагнитный сплав сердцевины дросселя хорошо держал остаточное намагничивание, организуя как оперативную, так и долговременную память не хуже иных других магнитных носителей; всего этого Фонарю было достаточно, чтобы мыслить ergo существовать. Было у него и чем воспринимать информацию. Рефлектор у него был, конечно, не тот, что раньше, но настроения проходящих под ним людей он различал вполне отчетливо. А когда они останавливались, то мог прочесть даже мысли, проанализировав которые и прокачав в контуре, отправлял их в долговременную память, каковой служил все тот же дроссель. Он у него был хороший, мощный и остаточное намагничивание обеспечивал более чем достаточное, сердечник имел из качественного ферромагнетика, так что Фонарь помнил даже самое первое пробное включение и первые услышанные тогда слова: «Горит? Ну, ё, а ты боялся.. Всё, поехали это дело обмоем!»…
При каждом включении, пробуждаясь, Фонарь первым делом просматривал именно память: не забыл ли чего во время сна, все ли в порядке в памяти-сердечнике? Для этого он осторожно прощупывал его короткими маломощными импульсами неонки-стартера, чтобы не дай Бог не вызвать ненужной перегрузки. И только убедившись, что да, все в норме, удовлетворенно вспыхивал лампой и, неспешно разгораясь, начинал очередную рабочую ночь с вечернего осмотра вверенной ему территории.
Обычно ничего особенного под ним не происходило. Как всегда до последней трещинки знакомый асфальт: зимой — в следах и снегу, летом — в пыли и мусоре, весной и осенью — в лужах. Как всегда — те же самые мельтешащие силуэты спешащих по своим делам-заботам людей внизу, их отрывочные, безразличные мысли и настроения. Как всегда немая, темная витрина запертой к его пробуждению аптеки, те же немые, занавешенные окна на втором этаже. Как всегда...
Все, как всегда.
Зиму Фонарь любил. Зимой жизнь его была чуть более насыщенной. Во-первых, его включали раньше. Ведь зимой раньше темнеет, и бодрствует он дольше. И чаще видит людей, спешащих по своим делам, или по домам, или по куда еще... А во-вторых, именно зимой произошло самое главное событие его жизни. Может в этом и не было на чей-то посторонний взгляд особенного, но ему, Фонарю, происшедшее представлялось настоящим чудом.
Просто однажды его забыли выключить.
Просто Просто для кого-то. А Фонарь впервые в своей жизни прободрствовал весь день напролет. Правда свет его был никому не нужен, и снизу на него, бывало, поглядывали с неодобрением. Но это было не главным Свет его сейчас не являлся главной его функцией. Главной его функцией сейчас было узнавать, запоминать, впитывать. И он узнавал, запоминал, впитывал так, что чуть не перегорел... Можно даже сказать, что это событие для Фонаря было по человеческим меркам равнозначно первому полету человека в космос или «маленьким шагом человека и огромным скачком всего человечества».
Именно таким событием космического масштаба для отдельно взятого Фонаря оно и было.
И — еще более главное! — он увидел Иной Свет. А это уже было не просто событие, это было Откровение.
Этот Свет излучал неведомый, далекий, невероятно мощный Фонарь, которого он до этого не видел никогда: разве — мельком, на какие-то секунды тогда, в свое первое пробное включение; но память его тогда была чиста — он еще не был Фонарем.
Но сейчас...
Он освещал знакомую, казалось до мелочей, до трещинок улицу, дома — весь мир, которого до Него Фонарь таким светлым и просторным не видел. Все вокруг — все цвета, краски, весь воздух; даже, казалось, движения и звуки — все было насыщено Им...
Иной, неземной Свет, слабым подобием коего был он. Не подобием — тенью...
Самого Источника того Света Фонарь видеть не мог, но он во множестве видел Его отражения. Самое большое, яркое и полное — в витрине аптеки: множественное, фрагментарное — в немытых стеклах окон; совсем ничтожное — в искрах льда и снега.
И благодаря этим малым, слабым, неполным отражениям Фонарь понял, что кроме своего мирка, который он видит и освещает еженощно, в этом мире есть Нечто. Нечто несказанно большее, прекрасное и очень-очень светлое: День, Солнце, Иной Свет.
В один лишь день мир Фонаря раздвинулся до пределов Вселенной.
...А люди, эти странные всегда спешащие существа, его творцы, не замечали ни Дня, ни Солнца...
Фонарю порой становилось жаль их. Ведь они не знали, не понимали того, что знал и понимал он, их серийное, массовое гостстандартизированное произведение. Но ведь, в конце концов, это по... вине?.. небрежности?.. недосмотру?.. кого-то из них он увидел хоть раз в жизни тот, главный Иной Свет, кто-то из них собрал его и установил здесь, кто-то ремонтирует его (хотя и не всегда качественно, взять хотя бы искрящийся контакт — хотя и не замечают его с тех самых пор, и забывают, что не могут без него обходиться, что им с ним хоть немного светлее в этом мире.
Поэтому Фонарь продолжал исправно светить им, бедным, несчастным, разумным и неблагодарным. Служить не по долгу службы, не потому, что его тут поставили и некуда ему деваться, а потому, что понимал то, что недоступно было им — жалея их и сочувствуя. И радовался всякий раз, когда мог оказаться полезным, когда кто-то останавливался под ним, чтобы посмотреть на часы, найти что-то у себя в кармане, что-то прочесть или рассмотреть. И, с риском получить слишком большой импульс и взорвать колбу, аккуратно повышал напряжение, прибавляя яркости, старался по мере сил не качаться от ветра и вообще помогал, чем мог. Знал, что это вредно ему, что никто не оценит его стараний, не скажет спасибо, не заметит. Просто делал.
Ну и что, — успокаивал он себя порой, когда ему становилось особенно грустно, — пусть. У них и без того хватает забот. Так и должно быть: хорошее должно быть привычным, само собой разумеющимся, как День, как Солнце хоть это нескромно, сравнивать себя с Ними, которые они, несчастные счастливцы, видят всегда и также не замечают. А попробуй Солнце не взойти, что будет? Страшно подумать... Если меня зажигают — значит это кому-нибудь нужно!.. Так думал Фонарь, не ведая, что почти слово в слово цитирует все того же поэта.
И точно также как тот поэт, он иногда в приступе бессильной ярости от окружающего его безразличия готов был — в знак протеста, что ли? — не сдержавшись, уйти, чтобы не видеть больше опостылевшего, безразличного к нему и к себе мира улицы, домов, людей, отдохнуть, забыться от этой бессильной бессмысленности своего существования. Тогда он, как девять грамм в висок, в одном неуемном злом порыве швырял в колбу со ртутью такой мощный импульс, что колба разлеталась вдребезги, усеивая серый асфальт будней под ним мелкими беловатыми брызгами стекла — и забывался в сладостном безвременье... Только вот в отличие от поэта, обыкновенного, в сущности, человека, который лишь раз мог «лечь виском на дуло» так о нем сказал другой поэт), ему, Фонарю, не дано было даже этого... Проходил день-другой, приезжали электрики-реаниматоры и, беззлобно матерясь и царапая когтями его столб, взбирались наверх, лезли под его чистый колпак грязными пальцами, вскрывали, вывинчивали остатки разбитой колбы, вставляли новую и — «Горит?.. Надо это дело обмыть...» — удалялись, унося с собой бесполезную уже часть его фонарьей души, бессмысленно сгоревшую не для кого-то, а от того, что кто-то вместо доброго слова швырнул ему под ногу какую-нибудь дрянь, плюнул в столб или... как собака нет, хуже чем собака.. Они же ведь Люди!)…
А Фонарь, в очередной раз очнувшись от недолгой небытия, в очередной раз забывал нечаянную нанесенную ему обиду и даже стыдился своей собственной бессмысленной выходки. А как же иначе? Он ведь оставил людей без света на несколько ночей, и мало ли что могло за это время с кем-нибудь случиться по его слабости. И старался светить как можно ровнее, чтобы загладить свою вину.
Только вот ничего не случалось. Ни разу…
А где-то — совсем недалеко, буквально за углом — случалось. Нет, не обязательно плохое, просто: случалось. Там, за углом, была жизнь. Другая жизнь, в которой что-то происходит. Даже ночью.
Вот там, на перекрестке, где стоит его ближайший сосед. Фонарь завидует ему самой что ни на есть белой завистью. Мало того, что тот стоит на проезжей улице (ну и что, что с односторонним движением? У него, у Фонаря, вон на самом въезде «кирпич» висит, он за всю жизнь считай ни одной машины не видел, так у того фонаря еще и остановка в сожительницах а Фонарю даже аптека досталась не дежурная. У Фонаря если что и происходит, так днем, когда он спит, а у соседа даже ночью: машины, люди, автобусы... Вечное, можно сказать, движение. Соседа даже таранили два раза Не велико, конечно, удовольствие — столб наперекосяк, лампа вдребезги. Но шрамы, они, знаете ли, украшают. И ощущаешь сопричастность: не чужой ты на этом празднике жизни...
Вот и сейчас. Фонарь уловил под своим столбом слабое подрагивание — что-то ехало там, за углом, приближаясь к остановке соседа, и тот, прибодрившись, привычно подровнял свой свет, ровно загудел и предвкушающе, подмигнул Фонарю: мол, извини, сосед, работа. А попросту говоря, хвастнул перед ним, не обидно, но все-таки...
Фонарь не обиделся. Он понимал и соседа. Просто он, наоборот, приглушил гудение, чтобы не мешать и без того слабым колебаниям проникать в него и зафиксироваться вихревыми токами в магнитной памяти. Вдруг окажется что-то интересное? Или просто любопытное...
Звук шин по асфальту, тем временем, приблизился и, достигнув максимума, стал стихать. Ветерок донес шипение тормозов и шелест открывшейся двери, затем приглушенные голоса, звуки движения. Затем шипение повторилось, всхрапнул и фыркнул мотор, мелькнули и растворились вдали проблески фар, а звуки людей быстро стихли, удалились, ничего не потревожив в ночи.
И все.
Фонарь разочаровано мигнул. Опять ничего. Опять тишина и пустота.
Но нет... Только тишина возвратилась в свои права. Пустоту — Фонарь это ощутил отчетливо — сменило чье-то присутствие.
Не может быть!.. Фонарь боялся поверить в удачу. От волнения у него моментально подскочило напряжение в дросселе, неприятно заискрил контакт. Да Кто-то свернул под “кирпич” и теперь шел по его улице, приближаясь.
К нему шел человек.. В такое время редкая собака забредет сюда сдуру, а если и забредет, то только до того, чтобы обнюхать столб, пометить и быстренько смотаться в темноту. А тут...
Идет, идет — радостно гудел Фонарь во все двести двадцать вольт. Бодро взгуднув дросселем и затрещав неонкой, он мигнул и с готовностью прибавил освещенности.
Он приготовился встречать человека.
И — вот — в круге его света наконец появился Он...
Пролог второй, обязательный более:
ПРИШЕЛЕЦ (В КРУГЕ СВЕТА)
Когда небольшой десант из десятка человек разного пола и возраста высадился на тихой окраине спящего по эту пору многомиллионного города, нечувствительно растворился в темноте переулков и подворотен, а доставивший их транспорт, пофыркивая глушителем, растворился в дали, на месте десантирования остался один единственный человек.
Это был неопределенного возраста, про таких говорят «маленькая собачка до старости щенок», монголоидного экстерьера крепко сбитый блондин в нестандартного кроя камуфляжной куртке, в линялых потертых джинсах «Levi’s» на непропорционально коротких ногах и в белых летнего образца кроссах фирмы «Simod». В отличие от своих деловитых спутников он, видимо, никуда особенно не спешил.
Повозившись, он достал из одного из многочисленных карманов своей куртки пачку «Camel», зубами вытянул из нее сигарету, неспешно раскурил от голубого «Cricet»-а, вернул пачку на место, не глядя ткнул зажигалку в задний карман джинсов, и только после этого нагнулся за стоящей на асфальте у его ног красной спортивной сумкой-колбасой с черным контуром надписи “TENNIS” (первая буква была подправлена чьей-то умелой рукой) и вскинул ее на плечо, слегка крякнув при этом. Сумка, несмотря на небольшой объем, была, видимо, достаточно тяжелой. Судя по округлым бокам, она была плотно набита, а потому легла на плечо плотно, тяжело; при встряске, к тому же, внутри что-то металлически брякнуло.
― Массаракш, ― негромко прошипел человек сквозь зубы, и, поправив ремень, привычным жестом забросил ее за плечо на манер, как носят, к примеру, сумки с клюшками для гольфа, или, если угодно, зачехленное оружие. Снова звякнул металл, и человек повторил: ― Массаракш-и-массаракш.
Оглядев опустевшую улицу, одинокий пришелец уверенно пошел на вправо, перешел на другую сторону и свернул под «кирпич», перекрывающий проезд всем видам транспорта в короткий темный переулок освещенный одним единственным фонарем.
Через полсотни шагов ― шел он ровным, размеренным шагом, словно собирался пройти так не один километр, ― он вошел в очерченный светом фонаря овал и остановился оглядеться. Вскинув вверх длинный козырек самодельной ермолки, он первым делом посмотрел на надпись, как раз под белой табличкой «Аптека», где прямо на стене дома было оттрафареченно название улицы и номер дома. Номер был «29», а переулок назывался изящно «ул. Страж Революции», причем последняя буква пропечаталась не полностью, отчего в названии возникала некая двусмысленность, впрочем, вполне в духе времени.
Пришелец усмехнулся и удовлетворенно кивнул своим мыслям. Он был на верном пути. Почти дома. Осталось сделать небольшие приготовления, чтобы не возникло недоразумений, и можно двигаться дальше.
Пришелец подошел под фонарь, скинул с плеча свою ношу ― снова там что-то брякнуло, и он опять пошипел на звук ― и, присев перед ней на корточки, открыл молнию, после чего не без труда вытащил из плотно набитого чрева простую картонную коробку. Подняв ее на свет и поковырявшись в ней пальцами, он извлек оттуда значок и укрепил на отвороте куртки. Значок блеснул голубым камушком и четырехконечным знаком. Пришелец поискался еще и достал второй значок, изображавший давно ныне забытого олимпийского мишку работы известного детского художника со вполне подходящей тому фамилией: Чижиков. Его ― имеется в виду значок ― он (пришелец, конечно же) прикрепил рядом с первым, и веселый талисман двадцатых олимпийских игр, все также мило улыбаясь, повис вниз головой.
Вот теперь все было в порядке. Sapieny, как говорится, sat. А кому не следует не увидит и не станет приставать с дурацкими вопросами (а бывало, приставали).
― Вот и все, ― сказал пришелец вслух, но про себя, ― а то чуть было не запамятовал. ― Он поднял голову и, щуря маленькие зеленые глазки лучиками морщинок, посмотрел прямо в яркий свет фонаря. ― Спасибо, брат, ― сказал он громче, словно думая, что фонарь его может услышать, и подмигнул приятельски, так что фонарь и вправду, словно собачка завиляла хвостиком, весело загудел и чуть ли не мигнул в ответ. Пришелец засмеялся, похлопал фонарь по пыльному столбу и бросив:
― Ну ладно, ты тут свети, а мне пора. Будь ― вскинул сумку на плечо и прежним легким шагом привычного к быстрой и долгой ходьбе человека зашагал дальше. Туда, где в минуте ходьбы, за поворотом, в глубине ночи его ожидал знакомый дом с темными окнами.
Прежде чем повернуть за угол пришелец, сам не зная почему, обернулся и помахал оставшемуся на месте фонарю.
Окончание необязательного пролога:
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФОНАРЯ
— Он не заслужил света, он заслужил покой, —
печальным голосом проговорил Левий.
Булгаков, Мастер и Маргарита.
То, как Фонарь, вдруг вспыхнув, на мгновение осветил все вокруг почти дневным светом, пришелец не видел.
Тем более не мог он знать, что впервые в своей недолгой жизни Фонарь почувствовал, да и просто услышал, настоящие слова благодарности, впервые к нему обратились как к мыслящему существу, как к равному, как к брату...
И Фонарь вдруг ощутил что-то непривычное, странное в себе. Каждым проводом обмотки своего залитого эпоксидной смолой дросселя Фонарь ощутил тепло, резонанс, и от этого дроссель его отозвался таким мощным импульсом, что и в без того перегруженном его намагниченном памятью сердечнике всколыхнулось невиданной доселе мощности автоколебание, которое, забившись бешено в контуре дроссель-конденсатор горячими ритмами выплеснувшихся враз воспоминаний, ударило всей мощью напряжения памяти в колбу, так, что накал дуги повысился до температур самых горячих звезд ― что невозможно было в принципе, но произошло ― и колба, наполненная горячими парами ртути, не выдержала, лопнула от перегрева, разбрызгивая серебристые капли по внутренней поверхности покрытой люминофором лампы.
И тут контакт на пятке патрона-«голиафа» не выдержал и, взыскрив, перегорел...
Просто пролог, как таковой:
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ: ДОМ С МЕЗОНИНОМ
Многоуважаемый шкап…
Чехов, Дядя Ваня
Всего этого пришелец видеть не мог.
Он уже свернул за угол и, перейдя дорогу, направился к не совсем обычному дому, один вид которого напоминал о чем-то старинном, незыблемом, давно прошедшем и уже никогда не могущим уже вернуться, как бы того не ни хотелось.
Это был старинный особняк века эдак прошлого-позапрошлого добротно построенный кем-то из купцов-староверов, на который не смогли повлиять никакие поздние наслоения. Ни то, что в смутные времена революций и войн в нем размещались всяческие контрразведки ― то белых, то красных, то мародерствующих белокуновских чехославаков; ни то, что в более поздние времена в нем селилась всякая разная мелко- средне- и просто административная номенклатура; ни даже то, что сейчас, вот лет уже десять, в нем располагалось некое популярное, якобы краеведческое, издание, вполне, впрочем, успешно маскирующее собой нечто не совсем соответствующее своему статусу, чем в пределах бывшей одной шестой части суши и было, как говориться, широко известно в узких кругах.
Пришелец был как раз из этого круга.
Подойдя к дому, он коротко и нетерпеливо постучал в окно. Портьера, прикрывавшая высокое стрельчатое окно, чуть погодя раздвинулась, и из-за нее показалось остроносое лицо. Пришелец шагнул на свет и посемафорил рукой, обращая на себя внимание. Лицо за окном приблизилось с той стороны стекла, глаза за большими роговыми очками близоруко сощурились. Некоторое время они вглядывались, и, наконец, признав своего, лицо расплылось в улыбке и активно закивало куда-то влево, видимо, указывая путь. Пришелец, улыбнувшись, ответно кивнул и, в очередной раз поправив ремень сумки на плече, пошел в указанном направлении. Он знал куда идти, также, как знал и то, что стучать в дверь, к которой он сейчас направился, без предварительного сигнала мог бы хоть до посинения, последствий бы не воспоследовало. Как мордой об стол ― туда, куда он шел, так просто сразу не попадешь.
Уверенно и невольно ускорив шаги пришелец свернул за угол, прошел мимо еще нескольких стрельчатых окон, на сей раз темных, минул кусок глухого каменного забора, вплотную примыкавшего к дому и чуть было не проскочил мимо солидной, окованной под старину воротины, но вовремя вынырнул из приятных глубин связанных с этим домом воспоминаний, мечтаний, как поэффектнее предстать перед публикой и предвкушения предстоящего ― он в этом не сомневался, несмотря на позднее или уже раннее? время, ― застолья, остановился.
Толкнув воротину с тускло отблеснувшей в рассеянном свете неразборчивой надписью табличкой, оглянувшись напоследок ― кругом было также тихо ― он вошел в темный дворик.
И оторопело застыл на месте.
Прямо перед ним млечно белел силуэт, в котором нетрудно было угадать торчащую, словно экзотический овощ, прямо из земли верхнюю часть человеческого торса с расколотой надвое головой. На бледном, спокойно отрешенном лице видения отчетливо темнели бурые пятна и потеки чего-то серого. Еще несколько подобных силуэтов ― торсы, плечи, головы ― торчали по всему пространству двора в художественном беспорядке. У пришельца моментально вылетели из головы все его радужные планы. Особенно насчет застолья. Ему стало почти дурно, и оставалось только радоваться, что его желудок и без того был пуст, иначе ― и до греха бы недолго...
«И разверзнутся могилы, и восстанут из них мертвецы, некогда жившие», ― припомнилось из Откровений. Или из Экклизиаста... Да и за точность цитаты он не поручился бы, не до того было. Пришелец отчетливо сглотнул. «А ведь когда-то в здешних подвалах располагалась контрразведка генерала Гайды из Чехословацкого корпуса», ― припомнилось еще.
Наверху, на высоком крыльце бывшего особняка современно щелкнул замок, и высокая резная дверь времен еще тех отворилась с соответствующим обстановке зловещим скрипом. Во дворе сразу стало заметно светлее.
― Тьфу, тьмать вашу, ― сказал пришелец и раздраженно сплюнул, стараясь не попасть ни во что, кроме непосредственно двора.
Возникшая в проеме фигура ответила смешком, и довольный голос произнес:
― Что впечатляет?
― Воистину, ― пробурчал пришелец. ― Не побудешь у вас тут годик, забываешь обо всех этих штучках.
Наверху удовлетворенно хмыкнуло.
Проходя по коротенькой тропинке к крыльцу и с любопытством озираясь, пришелец остановился у одного из торсов, пригляделся и присел возле на корточки.
― Бедный Йорик, ― сказал он с грустью, глядя в пустые, без зрачков глаза, вздохнул и, заботливо отлепив от белых алебастровых губ прилепившийся к ним окурок со смятым фильтром, брезгливо отбросил его в темноту. ― Тоже мне, шутники. Никакого уважения к памяти усопших, ― прокомментировал он с сарказмом. Снова вздохнул и поднял глаза к стоящему на крыльце: ― А ведь я знал его, Гораций.
― Он памятник себе воздвиг нерукотворный? ― вопросительно полюбопытствовал новоявленный Гораций, наблюдавший сверху эту трогательную своей необычностью сцену. Затем констатировал: ― Его многие знали.
Пришелец поднялся с корточек.
― Вы бы хоть прибрали здесь, что ли. Все-таки гости... Что народ-то подумает?
― Зачем? ― охотно откликнулся Гораций. ― Мы наоборот, собирались еще подсадить, в назидание. В подвале после очередного наводнения их еще много осталось. А народ... Умный поймет, а дураков тут не водится. На неподготовленного посетителя это производит соответствующее впечатление. И уважение вызывает к месту. Или нет?
― И производит, и вызывает, ― пришелец передернул плечами: ― Даже у подготовленного вызывает.
Он поднялся на крыльцо, протянул руку, представился.
― Валера, ― принял рукопожатие встречавший. ― Один? ― уточнил он деловито.
― И без оружия, ― отозвался пришелец. ― А не заметно?
― Откуда, если не секрет?
― Из Нижнего, ― кратко ответил пришелец, и встречавший тут же оживился:
― Значит это тебя Коломиец ждет?
Пришелец насторожился.
― Коломиец? Он уже здесь?
― А то ― Валера рассмеялся. ― Как приехал вчера вечером, так и сам не спит и нам не дает. Ждет. Задремлет, бывает, встрепенется. Не приехал, спрашивает. Нет, говорим. Ну, отвечает, и слава Богу. Выпьет ― и опять. Очень переживает.
Пришелец вздохнул.
― Ну ладно, ты тут проходи, ― сделал Валера-Гораций приглашающий жест. ― А я пойду посмотрю, как там.
― Гринпис? ― понимающе улыбнулся пришелец.
― Именно. Сольюсь с природой.
Они разошлись в узком пространстве дверного проема. Встречавший вышел, не забыв прикрыть за собой дверь, а пришелец шагнул вовнутрь из тамбура и вздохнул уже совсем облегченно ― вот он и дома ― и тем же мягким шагом, но совсем по-домашнему, почти по-хозяйски оглядывая знакомые стены, в которых давненько уже не был, пошел по длинному коридору мимо огороженным старинными перилами ступеней в знаменитый подвал, тот самый, где в девятнадцатом размещалась контрразведка и где и поныне сквозь почти метровые стены и пол пробивались два ключа, периодически затопляя его, и тем подвигавшие нынешних хозяев устраивать жутковатые экспозиции во дворе; мимо оскверненных недавним евроремонтом стен, скрывавших двухсотлетнюю кладку, незыблемую со времен купцов-старообрядцев; прямиком к высоченным, чуть не упирающимся аркой в почти шестиметровый потолок двустворчатым дверям, старинно отблескивающим многочисленными наслоениями лака, прикрывавшими вековые шрамы древнего дуба ― или из чего тогда делали двери? ― створок, с истертыми и отполированными прикосновениями тысяч и тысяч рук бронзовыми узорами рукоятей ― именно рукоятей, ибо слово «ручка» уничижало достоинство сих мощных, пусть несколько аляповатых, но вызывающих невольное уважение прослуженными ими на своем посту летами, ветеранов скобяных изделий. Подойдя, пришелец уважительно провел рукой по бронзе ― его следы тоже остались на ней со времени его прежних трех... нет, четырех посещений этого дома: одна из вековых створок была открыта, и он прошел в нее и стал в проеме.
На поле боя раздавались стоны убитых и раненых.
Из школьных сочинений
Журнал «Юность», «Зелёный портфель»
В просторном помещении, бывшем при прежних хозяевах то ли гостиной, от ли залой было почти многолюдно. С той лишь оговоркой, что подавляющее большинство здесь присутствующих спали: кто-то на длинном кожаном диване слева у стены, валетом, кто-то в современного вида кресле, в неудобной позе пристреленного в затылок, большинство ― прямо на полу, на собственных вещах и сумках, прикрывшись первыми и положив под головы вторые. Похрапывание, сопение, вздохи, причмокивания и прочие характерные для сна звуки доносились и из-за многочисленных приоткрытых дверей, в изобилии выходивших в залу. Чем-то это зрелище напоминало поле брани после жаркой сечи усеянное неубранными еще трупами. Усугубляло картину торчащее то тут, то там из многочисленной поклажи, как из убиенных тел, разнокалиберное оружие, в основном, холодное — режущее и колющее.
В глубине залы, словно уцелевшие в битве инвалиды у костра, под затемненным абажуром торшера сидели трое. Точнее, если следовать ассоциации, двое инвалидов и маркитантка, так как одним из сидящих была девица. Они то ли справляли тризну по павшим, то ли отмечали победу, так как долженствующий изображать из себя походный плащ с нехитрыми, походными же, яствами полированный столик был густо уставлен импровизированными закусками и тем, к чему они прилагаются. Сборная солянка из разнообразной домашней снеди и промышленных полуфабрикатов с приятными глазу вкраплениями разнокалиберной посуды, в том числе и заполненной прозрачным содержимым еще не до конца ― что тоже приятно ― опустевших бутылок, вызвала у пришельца еще один легкий спазм желудка ― несколько, правда, иного, чем недавно во дворе, свойства ― и живо напомнила, что последний раз он принимал вовнутрь часов этак пятнадцать тому назад.
Интерлюдия:
НАКАНУНЕ
Тогда, утром минувшего дня, он и не подозревал, что тщательно подготовленное им мероприятие (акция, операция ― назовите, как угодно), которое он так старательно готовил в течение последнего месяца, неожиданно оказалась на грани провала. По самой что ни на есть банальной причине ― из-за собственной беспечности. Ну в самом деле, кто бы мог предположить, что как раз накануне родное МПС подложит лично ему такую большую, гнусную свинью в форме резкого, неожиданного, нанесенного буквально из-за угла и точнехонько ниже пояса изменения расписания движения поездов так нужного ему направления. Впрочем, предположить подобное как раз было можно. Изменения буквально во всем, что нас столько лет окружало и казалось если ни незыблемым, то, по крайней мере, предсказуемым продолжались уже не первый год. Но пагубная привычка к стабильности и постоянству столь же вредна, как и страсть к нескончаемым переменам. Все течет, все изменяется... Ничто не вечно... Нет ничего более постоянного, чем временное... И так далее. Все эти вечные ― ха! ― истины столь банальны и столь прочно укоренились в нашем сознании, что на них перестаешь обращать внимание.
И в результате, замираешь с раскрытым ртом перед таблицей расписаний, увидев вместо привычной таблички «ежедн.» другую, гласящую «по четн.», хотя буквально пару дней назад ты специально заезжал сюда, на вокзал, чтобы убедиться, что в обратном и видел именно «ежедн.», и подходил к справочному переговорнику и жал на кнопку, чтобы уточнить, что изменений не ожидается.
Такое обычно случается неожиданно, как гроза в начале мая.
Так и случилось с нашим пришельцем.
«По четн.» его нисколько не устраивало. «По четн.» он никак не успевал. То, что он должен был доставить куда надо, должно было быть доставлено как раз к «четн.». Потому что дорога ложка к обедне, а обедня назначена на «четн.», то есть на завтра. И значит завтра утром он ― кровь из носу ― должен был быть с ложкой на этой самой обедне. Иначе... Иначе его ожидают ба-а-альшие неприятности.
В свежем майском воздухе отчетливо запахло грозой.
Во-первых, потому что других подходящих маршрутов не было, и, следовательно, в нужном месте в нужное время он оказаться не мог, а опаздывать ему ужасно не хотелось. Лучше уж ему тогда там вообще не появляться ― спокойнее. Но себе дороже. Потому что, и это во-вторых, если он сам не появится там, то его заказчик, Андрей Михайлович Коломиец, сам появится здесь. И тогда ему желательно оказаться где-нибудь совсем в другом месте, желательно где-нибудь где подальше и потише. Например, не кладбище. Не хочется, конечно. Но если он не появится вовремя там, а его заказчик появится здесь, то шансы его оказаться именно на кладбище и гораздо прежде отпущенного ему срока резко возрастут. Андрей Михайлович Коломиец если не физически, то морально может довести до кладбища кого угодно. Так чего тянуть?
Но даже не в этом дело: умирать ему было не привыкать. Гораздо неприятнее другое. Его репутации в определенных кругах, которой он дорожил, будет нанесен непоправимый ущерб, что после недавнего провала аферы с «Хайтеком» и более чем некрасивой истории со «Встречниками» она и так изрядно подмочена. Он и нынешний то проект затеял в порядке реабилитации ― как же иначе он в здравом уме и доброй памяти дал уговорить себя Коломийцу? Реабилитировался, называется. Посмертно.
Итак, следовало что-то предпринимать, а не стоять перед расписанием, как буриданов баран, у которого прямо перед носом исчезли сразу оба стога, как раз в тот момент, когда он принял ответственное решение.
И он начал предпринимать.
В агентстве «Аэрофлота» оказалось, что да, есть таки подходящий рейс, даже прямой, и билеты на него в наличие имеются. Но. Но ему не хватило буквально чуть до стоимости билета: он просто не рассчитывал на подобные эксцессы и на все про все у него было только-только ― обратный проезд и прочее должен был субсидировать заказчик.
По счастливому стечению обстоятельств агентство находилось в буквально минутах от дома его доброй знакомой ― кстати, невестой того самого Коломийца. Почему бы не взять часть гонорара авансом?
А через сорок минут с деньгами и будущей миссис Коломиец он вернулся, чтобы узнать, что «билетов нетути, физкульт-привет». Кто-то успел раньше. Кассирша могла предложить только один выход: ехать прямо в аэропорт и попытаться взять билет в транзитной кассе на пролетный рейс Таллинн-трие-Новосибирск с промежуточной посадкой как раз где надо.
Он призадумался. Его несколько беспокоило то, что он везет с собой слишком много странного на посторонний взгляд металлического багажа: особенно его волновал «шарик». Вести его авиатранспортом было как-то не с руки. (Правда, подобный вариант им рассматривался, для чего «шарик» предусмотрительно был сделан разборным. Но когда в маршруте фигурирует одна из столиц одной из бывших республик, бывших сестер, риск нарваться на неприятности связанные с досмотром возрастала в геометрической прогрессии. Ну в арифметической, ведь пределов страны он покидать не собирался.) Но ― честное имя дороже. А традиционный русский авось его никогда еще не подводил. В конце концов, что ему будет при обнаружении в его багаже, выражаясь казенным языком, «металлических предметов неизвестного назначения», в частности предусмотрительно разобранного «шарика»? В самом крайнем случае ― не допустят на борт с последующей компенсацией стоимости билета: не инкриминируют же ему вывоз из страны стратегического сырья самолет-то летит в противоположную сторону… А в случае опоздания? Смотри выше…
Вот и получается, что риск и вправду дело благородное.
Это все, конечно благородно, но как там на счет... Вот именно.
Словом, в транзитной кассе он оказался записанным седьмым на нужный рейс, и остаток времени провел нервически прогуливаясь по залам и время от времени перебирая сумку на предмет перекладки деталей «шарика» и иного металла так, чтобы они наименее могли привлечь в себе внимание самого дотошного металлоискателя. А когда объявили о посадке ЯК-42 следующего рейсом таким-то, он оказался у кассы одним из первых и оказался участником своеобразной русской рулетки.
В обойме было шесть билетов, а его номер был седьмой. В общем: трое с боку, ваших нет. К тому же эти трое были с телеграммами и прочими льготами, что давало им особый приоритет. А сзади подпирало еще несколько кандидатов, у которых шансов уже не было совсем. Да и ему, пожалуй, не оставалось ничего иного, кроме как отойти из очереди в сторонку, достать из сумки «шарик», собрать его на глазах у изумленной публики и враз покончить со всеми проблемами. Или, размахивая им, ринуться на штурм самолета. То-то будет переполоху...
И тут тяжелый рок вдруг улыбнулся ему: «Led Zeppelin» сыграл «Лестницу в небо», и ему повезло куда больше, чем леди из песни.
Потому что после раздачи слонов отелеграммленным, ему выпал счастливый, последний шестой билет. Оказалось, что у некоторых претендентов под номерами с первого по пятый включительно не выдержали нервы, и они сошли с дистанции девятичасового марафона ожидания, или нашли другой, более краткий путь к достижению желанной цели. Факт что из всех участников гандикапа остались ровно шесть, включая его (остальные, вызвавшие его преждевременную панику, просто толпились у кассы по своим надобностям.
Окрыленный и обилеченный он ринулся на «штурм унд дранг» последнего барьера на пути к самолету ― таможенного.
На все про все, от приземления до вылета рейсу номер такой-то отводилось жалких двадцать минут. За десять минут он приобрел билет: еще через пять оказался у последней черты и триумфатором прошел арку металлоискателя. Но бдительный строгий дядя в фуражке за пультом багаж-просвета заинтересовался очертаниями подозрительных теней в его красном «TENNIS»-е, и ему таки пришлось разворошить тщательно упакованную сумку. Но время было позднее, до отлета оставалось едва три минуты, сзади подпирали пассажиры следующего рейса и, удовлетворившись поверхностным осмотром и сбивчивыми объяснениями, что он вовсе не собирается пускать под откос... то есть, взлетать на воздух... о, дьявол.. словом, угонять самолет или взрывать его вместе с собой, иначе и не стоило ждать столько времени ― вон их сколько пока он здесь сидел улетело, угоняй не хочу ― его отпустили с миром.
После кроткой пробежки по летному полю в обнимку с разворошенной сумкой он, одним из последних, оказался в чреве старенького ЯК-42 и, укладываясь уже после взлета, сидя в кресле и извинительно улыбаясь на подозрительные взгляды соседей по салону и стюардесс, молился всем известным и неизвестным ему богам за наших бдительных таможенников, за русский авось, и за то, что не понадеялся на него и сделал «шарик» разборным...
ДОМ С МЕЗОНИНОМ (продолжение)
И вот он дома. Ну, почти дома. Во всяком случае, среди своих.
От приятного созерцания его отвлек голос:
― О, нашего полку прибыло! И какие люди… ― громко возопил краснолицый, приличного вида инвалид в усах, очках, пиджаке и даже при галстуке, впрочем, полураспущенном. Привстав, насколько позволял стол, он простер навстречу вошедшему объятья и чуть не спихнул со стола банку со шпротами, которую успел подхватить второй сидевший за столом инвалид ― длиннолицый и тоже при параде.
― И, что характерно, без конвоя, ― тоже поприветствовал он.
― Спасибо на добром слове, ― ответил пришелец, подходя и совершенно не обижаясь.
<ЛАКУНА: ПОТЕРЯН ТЕКСТ>
― Виноват, сэр. В следующий раз захвачу словарь, сэр.
― Какой словарь? Причем здесь словарь? А, Гер? — не поняла томная маркитантка, дымившая длинной сигаретой.
― Это он цитирует, ― ответил краснолицый весело, а длиннолицый добавил:
― Это они свою образованность показать хочут, потому так и говорят непонятно. Не обращай внимания.
― А кто он такой, Валер? ― продолжала допытываться девица, с любопытством глядя на пришельца снизу вверх, но продолжая его игнорировать.
― О-о-о ― охотно откликнулся длиннолицый Валера. ― Мы имеем счастье и честь лицезреть перед собой Ну Очень Важную Персону, самого Великого Преобразователя, Могучего Реформатора, наследника идей самого Великого же Спальника и единственного личного друга Марины Стрелецкой, ― провозгласил он с саркастическим пафосом и закончил совсем другим тоном: ― А по жизни он, дорогая, люден. Сиречь: метагом. Причем, действительный член.
Девица, по мере перечисления смотревшая на пришельца со все более открывающимися глазами и ртом, услышав последнее, едва не уронила сигарету. Похоже было, что иронии она не уловила, все произнесенные имена были для нее пустым звуком, а из последней фразы она поняла только «член» и чего-то-там- «гом».
― Гомик? ― расшифровала она, совместив, и, с недоверчивым любопытством еще раз осмотрев пришельца, честно высказала сомнение: ― Что-то не похож.
Пришелец же все нюансы уловил, но стерпел. Что делать, упреки были заслуженные, парировать было нечем, приходилось терпеть и делать хорошую мину.
― Можно просто Борис, — сказал он, мило улыбнувшись. Пояснил специально для маркитантки: — Метагом — это не сексуальная ориентация...
― Как сказать, ― не удержался длиннолицый от выпада.
― ...это понятие, скорее, метафизическое, чем физиологическое, — не принимая вызова закончил пришелец Борис.
— А как это? — пожелала уточнить девица.
— Долго объяснять.
— Кончайте разборки, ребята, — добродушно пробасил Гера. ― Еще успеете насобачиться, кон длинный. Давай, Боря, давай, пробирайся к нам, — пригласил он. ― Андрюша вон тебя совсем заждался. ― Он кивнул в сторону спящего в кресле на углу стола в позе убитого в затылок крупного мужчину.
— Вижу, что заждался, ― усмехнулся назвавшийся Борисом. На ходу снимая свою ермолку, он привычно заткнул ее за погон и начал обходить стол.
Первым делом он пожал руки: крепко и с удовольствием краснолицему Гере, Герасиму, которого на самом деле звали Геной, Геннадием Карповым; вяло и неохотно длиннолицему, который действительно был Валерием. После чего представился по настоящему «Борис Фокин, мадам» любопытной даме, назвавшейся мудрено, чем-то вроде Маши или Махи, хотя была вовсе даже одета.
― Ах, вот это кого мы ждем-с, ― не преминула и она блеснуть цитатой. Она посмотрела на пристрелянного: — Надо бы Андрей Михайловича разбудить.
— Надо, — согласился пришедший, присаживаясь на свободный стул.
— Может потом? Выпей сначала с дороги, ― предложил Герасим и задвигал посудой.
Пришелец не согласился.
― Нет уж. Вкусное на третье.
― Как знаешь. — Герасим пожал плечами и похлопал спящего по плечу: — Э-эй Вставай, проклятьем заклейменный.
― А? Что? ― забормотал, оживая, труп убиенного. ― Я и не сплю совсем, так, задумался. Ты давай, наливай, я сейчас... ― и опять уронил голову.
― Андре-ей, ― позвал пришелец. ― Андрюша, это я, почтальон Фокин, привез тебе золото парии.
Убиенный вновь вскинулся, и сразу вместе с креслом пододвинулся к столу, словно и действительно не спал.
― Ага, приехал, ― забасил он. ― А я уж боялся, что не успеешь. Поезд что ли опоздал? Или ты самолетом?.. Гера, ты чего? Я же сказал ― наливай. Не видишь, человек с дороги.
― Я предлагал, ― развел руками Герасим, ― он отказывается.
― И правильно, ― одобрил пробудившийся, и тут же нелогично потребовал: ― Все равно наливай.
Он протянул Гере бутылку, сдвинул к нему разнокалиберную посуду и вообще развил кипучую деятельность.
― Ему штрафную, нам по половинке, ночь длинная. А Валерка где?
― Вышел, — ответил пришелец. ― Да не буду я
― Куда ты денешься, ― успокоил экс-труп. ― Только сначала говори: привез?
― Экий ты меркантильный, Андрей Батькович, ― усмехнулся пришелец, поднимая на колени сумку. ― Не терпится тебе.
Он открыл боковую молнию и протянул Андрею Батьковичу пухлый помятый конверт. Тот, не вскрывая, положил его во внутренний карман пиджака, выжидающе продолжая смотреть в усмехающиеся глаза пришельца.
― Надеюсь это не все?
Пришелец не ответил. Потянувшись через сумку, он стал расчищать на столе место. Андрей принялся ему помогать настолько деятельно, что девица только поспевала лоВить разбегающуюся посуду. Герасим продолжал разливать, несмотря на учиненный Коломийцем разгром. Наконец посадочная площадка на краю стола была расчищена и готова к появлению на ней неизвестного летающего объекта, и все замерли в ожидании.
«Фонит», — пищала одна. Другая, прикладывая блузку и так и этак, отвечала:
«Чушики, чушики, и совсем не фонит». — «Возле шеи фонит». — «Чушики»
— «И кресток не переливается...»
[…]
— Чушики, — твердо сказал я. — Не фонит и переливается.
— А около шеи? — спросила та, что примеряла.
— А около шеи просто шедевр.
АБС, ХВВ
Сумка, несмотря на размеры, оказалась на удивление поместительной. Из нее сначала начали появляться различные предметы мужского туалета («Пардон», ― извинился пришелец, глянув на девицу. Та фыркнула), а затем на стол легли несколько предметов непонятного на сторонний взгляд назначения.
Первой на площадку опустилась простая картонная коробка набитая металлическими пластинами. Открыв ее, пришелец перво-наперво вытянул отдельно стоящую круглую стопку обернутую тряпицей, словно столбик золотых червонцев, и передал кудрявому великану Андрею, чем-то похожему на композитора Илью Резника.
― Это от супруги.
― Сколько? ― поинтересовался Резник-Коломиец, взвешивая стопку на ладони и не спеша ее распаковывать.
― Как договаривались, ― пришелец пожал плечами. ― Это ваши дела.
― А другие? Покажи ― зашелестела публика, и пришелец, усмехнувшись, вытащил из коробки плотный конверт и вытряхнул из него штук восемь металлических пластин.
― Образцы, ― сказал он, раскладывая их по столу.
Четверо, в том числе и вернувшийся с пленэра гринписовец Гораций, склонились, перебирая и рассматривая образцы. Пластинки были двух типоразмеров: круглые, выпуклые миллиметров тридцати в диаметре, и квадратные, плоские того же размера. Все они, за исключением одного квадрата, были тускло серые с золотистыми проблесками-узорами, напоминающими то ли печатные схемы, то ли иероглифы; каждая с тыльной стороны была снабжена торчащей наподобие антенны иглой немного выступающей за край пластины; «антенны» была направлены вниз.
Забыв о налитых стаканах присутствовавшие с интересом рассматривали образцы и обсуждали.
― Штамповка? Гальваника? ― с видом знатока говорил Герасим.
Пришелец кивал.
― Травление глубокое или как? ― продолжал допытываться он же.
― Глубокое, ― отвечал пришелец. ― И напыление. А тут пайка, ― Фокин проводил длинным ногтем мизинца вдоль иголки-антенны.
― А радиус как выводил? ― проявлял интерес Гораций.
― Вручную, ― отвечал Борис, ― самолично.
― Дизайн твой?
― Не везде, ― честно признавался Фокин, и, отделив четыре кружка, уточнил: ― Эти мои.
― Хочу ― закапризничала необнаженная Маха. ― Хочу эту, эту и эту. И эту тоже.
Она требовательно поглядела в глаза хозяину вожделенных ею предметов, но тот развел руками и указал на великана похожего на Резника.
― Пардон, мадемуазель, вот заказчик. Я всего лишь бедный турист.
― Богатый, ― поправил его великан.
― Еще нет, ― возразил пришелец.
― Скоро будешь. Давай дальше ― сметя в сторону образцы, сказал великан.
Из сумки появился более объемный сверток, оказавшийся белой футболкой с надписью «Экстра Н» из которой при разворачивании на стол приземлились поочередно три совершенно одинаковых предмета, чем-то действительно напоминающие НЛО. Их тут же расхватали новоявленные уфологи.
― Аккуратнее ― одновременно вскричали пришелец и Андрей. Но было уже поздно.
― Мне-то дайте поглядеть ― густым басом возмущался опоздавший к разборке великан-зказчик. ― Герасим, отдай
― Что ты орешь, как больной слон Народ перебудишь, ― осадил его Герасим, но требуемое вернул.
― Тише ты, медвежья лапа Раздавишь к такой-то матери! ― возмутился в свою очередь пришелец-изготовитель.
Великан, не обращая на него внимания, вертел в руках предмет, тщательно осматривая его со всех сторон. На его лице отчетливо проступило выражение неудовольствия покупателя несоответствием цены предложенного товара его качеству.
Начался торг.
― Металл, пластик, органика, красное дерево, ― искательно глядя в глаза покупателю рекламировал продавец.
― Вижу, ― бурчал покупатель. ― Дюраль, текстолит, плексиглас.
― Ну знаешь, ― обиделся продавец. ― В такие сроки. У меня даже месяца не было
― У тебя больше было, а пальцем не пошевелил.
― Каким пальцем?! Задачи надо формулировать конкретнее, а не вилами по воде.
За продавца вступилась дама:
― Вполне изящно.
― Не то, что в прошлый раз ― шариковая бомба с нимбом, ― подтвердил Герасим.
Тут же нашелся и скептик. Длиннолицый Валера, брезгливо покрутив, поставил изучаемый предмет на стол, констатировал:
― Кустарщина. Сразу видно самопал.
― Вот сам бы и попробовал, чем критиковать ― возмутился задетый пришелец.
― Чукча не читатель, чукча писатель, ― парировал удовлетворенный Валера.
― Потускнеет, ― поддержал скептика Андрей, постучав пальцем по линзе. ― И светопроводность пропадет.
― Я специально каленку брал. Знаешь, сколько с полировкой и сколами мучился? ― не собирался сдавать позиций пришелец. ― Ее японцы на оптику ставят. И безбликовая.
— Ладно, ― решительно сказал великан Коломиец после короткой паузы. — Все равно исправлять поздно.
Он собрал все три предмета поставил в ряд перед собой, осмотрел критическим взором и выбрал один.
― В Штаты поедет этот, ― сказал он твердо. ― Нашлепки, надеюсь не забыл?
― Тут, тут, ― пришелец достал отдельно лежащие ламинированые пластинки размером с кредитную карточку: под прозрачной пленкой на черном блестела золотая вязь. Внутренне он перекрестился: кажется, все прошло нормально, заказ сдан.
― А как, ― повертел в руках пластинки Андрей.
Пришелец отобрал их, выбрал нужную и вставил в соответствующую прорезь в основании предмета.
― Ну?
― Другое дело, ― подтвердил Коломиец. ― А не опозоримся? ― спросил он уже так, на всякий случай.
― Будь спок, ― уверил его пришелец.
— Ладно, уговорил! — Великан полез во внутренний карман и достал оттуда объемистый бумажник. ― Будем считать, что мы в расчете, ― сказал он, по купечески протянув пришельцу заранее отложенную сумму.
Тот принял гонорар ― хотя про себя снова перекрестился ― и, не пересчитывая, даже не глянув, засунул деньги в первый попавшийся карман куртки.
― Вот и ладушки, ― сказал, застегивая клапан. ― Вот теперь можно и выпить.
— Верно, обмоем сделку, — обрадовался Герасим, подвигая каждому по посудине.
— За знакомство, — возразил Валера-Гораций, равномерно распределяя снедь по столу, освобожденному от НЛО-образных предметов — их временно переправили на свободный подоконник, под сень портьер, подальше от глаз.
— За присутствующих здесь дам, — проявил неожиданную куртуазность скептический Валера, поднимая тару и волооко глянув на тостуемую.
― О ― поддержал его Андрей, облапав свой стакан так, что его не стало видно.
Пришелец исполнил ритуал молча.
Он осторожно передвинул к себе стакан с колышущейся прозрачной линзой ― все оживились, оставшиеся похватали посуды ― выбрал кусочек хлеба, черного, застелил его тонким, полупрозрачным, в розоватых прожилках слоем сальца, глянул на подрагивающую линзу и кончиком ножа положил на простынку сальца красноватую горку тертого хрена с приправами из маленькой баночки, оценил построение, еще раз сверился с линзой и бросил на оставшееся свободным пространство крепенький пикуль, предварительно оглядев его со всех сторон и обнюхав. От предложенной сердобольной маркитанткой запивки, пододвинутой ему бутылки какой-то колы, презрительно фыркнув, отказался, взял тщательно выстроенный бутерброд в одну руку, другой поднял ― не проронив ни капли! ― на уровень губ стакан, медленно выдохнул и, поставив локоть по-гусарски, на отлет, поднес его край к усам... И медленно, с толком, с чувством, с расстановкой в несколько размеренных ровных глотков выпил. Поставив пустой стакан, он крякнул, выдохнул и только тогда откусил от бутерброда со стороны горки.
По желудку уже разлилось приятное тепло, и он прокомментировал вслух:
— Как Христос по душе босиком прошелся.
Быстренько выпили и остальные, всяк по-своему. Запили-закусили. И уже закуривая с чувством исполненного долга, повели нормальную застольную беседу людей, давно не видевшихся, которым было что друг другу сказать.



 облако тэгов
облако тэгов