Самым неожиданным образом переплетаются в наши дни фантастика с реальностью, которая оказывается подчас ярче, необычнее некоторых фантастических книг. Вот почему, перелистывая сегодня произведение писателя-фантаста, читатель, естественно, надеется найти в нём нечто большее, чем вчера, ждёт, что перед ним широко распахнутся какие-то новые горизонты. Какие же контуры будущего, какие дали его открываются на страницах наших научно-фантастических книг?
Вот перед нами два произведения украинских фантастов — роман О. Бердника «Дороги титанов» и повесть В. Савченко «Чёрные звёзды». И хотя действие романа Бердника относится к далёкому будущему, а Савченко рассказывает о работе небольшого коллектива украинских учёных в наши дни, хочется поставить обе книги рядом, говоря о горизонтах современной фантастики.
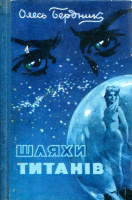
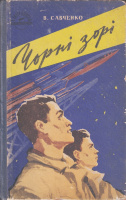
Несколько лет назад высказывалось мнение, что фантастика должна оставаться на грани возможного, и писателям-фантастам в своих мечтах о будущем следует исходить из реальных задач, намеченных в наших народнохозяйственных планах.
Время показало, что эта так называемая «теория предела» не оправдала себя, а книги, созданные по таким эталонам, книги робкой приземлённой мечты, не полюбились читателю. Теперь очевидно, что будущее не за ними, а за теми произведениями, в которых смело приоткрывается завеса завтрашнего дня, в которых как бы предугадываются многие сложные проблемы, ещё не решённые современной наукой.
Но крылатость мечты, дерзкую смелость научной идеи, положенной в основу книги, всё то, что позволяет говорить о широких горизонтах современной фантастики, нельзя понимать, как сумму каких-то броских внешних примет.
В романе О. Бердника «Дороги титанов» есть, на первый взгляд, как будто всё, что может в наше время увлечь, захватить читателя: полёты в дальние галактики, господство героев над пространством и временем, опасности и приключения. Однако чем дальше читаешь роман, тем яснее чувствуешь, что устремлённость авторской мысли к далёкому будущему здесь чисто внешняя, кажущаяся.
Вот, например, в начале романа Бердник изображает спор двух учёных, отстаивающих разные точки зрения на «разделение» умственного труда между человеком и электронной («думающей») машиной. В самом деле: какова станет сфера действия таких машин в мире будущего? Какие функции человек найдёт нужным «доверить» им, какие «командные высоты» оставит за собой? Во всём этом широкое поле для писателя-фантаста.
Но перенеся в обстановку будущего какие-то отголоски споров, которые и сейчас ведутся между некоторыми теоретиками кибернетики, отстаивающими принцип «машина умнее своего создателя», и их противниками, автор упростил, вульгаризировал важную научную проблему.
Станут ли наши потомки всерьёз доказывать, к примеру, что необходимо полностью освободить человечество «от интеллектуальной деятельности в сфере науки»? Эту точку зрения у Бердника отстаивает учёный Семоний, руководитель института электронно-гравитационных машин. Как оказывается, к тому же, только для того, чтобы «дать им (людям. — С. Л.) возможность свободно вздохнуть». В романе подобная «проблема» самым глубокомысленным образом обсуждается на Космическом совете, с участием представителей других планет солнечной системы, специально собравшихся для этого на экстренное заседание.
Итак, с одной стороны, Космический совет, как бы свидетельство того, что в эпоху, изображаемую автором, человечество уже вступило в какой-то высший этап развития, установило контакты с разумными существами других миров. С другой — дискуссия вокруг научной проблемы, низведённой до фельетонного уровня.
Впрочем, и сам этот совет, представленный скопищем каких-то уродов, может лишь усугубить недоверие к описываемому. Кого только нет в зале собрания! И какие-то люди со скошенными черепами, и посланцы иных планет с зелёными волосами и четырёхпалыми верхними конечностями. Встречаются здесь и быстрые, проворные существа, у которых три глаза, зато отсутствуют руки, что с успехом восполняется, впрочем, обилием щупалец. Некоторые, наоборот, неповоротливы, вовсе не имеют шеи, но покрыты прозрачной кожей и т. п.
Главное место в книге — история космического полёта группы астронавтов на далёкое Магелланово Облако (рассказ об их встречах на иных планетах с армиями механических роботов некоего Железного диктатора, истребивших там всякую цивилизацию, должен, как видно, проиллюстрировать абсурдность идеи Семония).
Естественно было полагать, что герои романа, современники того «коммунистического далеко», когда человечеству станут по плечу любые титанические задачи, вроде полёта на Магелланово Облако, предстанут перед нами как люди действительно большие, сильные, с широким диапазоном мысли, душевным благородством, словом, вполне на уровне своей эпохи. Но ближайшее знакомство с персонажами романа разочаровывает: они мелки, ограниченны.
Вот, к примеру, командир звездолёта «Думка», отважный астронавт Георгий, которому безраздельно отданы авторские симпатии (впрочем, не только авторские: ради него одна из героинь — Марианна даже решилась усыпить себя на несколько тысячелетий, лишь бы дождаться его возвращения!)
Трудно, однако, поверить в силу этой любви, побеждающей пространство и время. Георгий покидает свою возлюбленную, может быть, навсегда. Что же говорит он ей в эти короткие драгоценные минуты?
«— Ты последние дни вовсе не хотел видеть меня, — упрекает его Марианна… — Ты никогда не любил меня!
— Это неправда! Нет и никогда не будет у меня иной любви, кроме тебя! Но ты же знала, что мы были заняты подготовкой нашего корабля к полёту! У меня не было времени…
— Значит, не возьмёшь меня?
— Нет, Марианна, не возьму!.. — Твёрдым шагом Георгий прошёл мимо девушки, поднялся на трибуну».
Заметим, кстати, что подобная же манера поведения присуща и другому персонажу книги — Светозару. Правда, в отличие от Георгия, он порывает с девушкой не ради Космоса. Его жизненные идеалы скромнее: Светозар готовит себя к профессии архивариуса. Однако объясняется он со своей подругой столь же решительно и на её упрёки отвечает почти теми же словами: «—…Только ты одна делила со мной мечты моей юности. Однако иные думы владеют мной… Я часто думаю, что не имею права отдаваться личному!»
В обоих случаях «устремлённость» действующих лиц, их приверженность к своей профессии, к делу выглядит каким-то ущербным фанатизмом, ничего общего, разумеется, не имеющим с подлинно коммунистическим отношением людей к своему труду. Душевные же качества героев здесь явно обеднены.
Конечно, в романе о будущем писатель-фантаст может лишь эскизно очертить облик человека далёкого грядущего. Но специфические особенности жанра, которые создают особые трудности, не могут амнистировать писателя, тем более, если он при этом идёт не путём поисков, а следует самым дурным литературным штампам.
Сама значимость дел, главных жизненных устремлений таких героев, как Георгий, не представляется нам грандиозной, титанической, подчас и просто нужной, необходимой. Например, цель их полёта на соседнюю галактику мало-мальски серьёзно не обоснована. Недаром Институт космонавтики противится подобному предприятию. И тут настойчивость экипажа, стремление добиться этого чуть не ценою того, что придётся надолго исчерпать энергетический запас планеты, представляется простым упрямством, капризом. Астронавтам, впрочем, вообще, безразлично куда и зачем лететь, лишь бы лететь. Недаром их командир Георгий размышляет: «Запастись бы вдоволь даровым горючим и мчись тогда, хотя бы сквозь всю бесконечность».
Понятно, что и рассказ об их космическом путешествии, не освещённый какой-то единой, большой авторской мыслью, выглядит простым набором случайных эпизодов. Читая обо всех межгалактических странствиях звездолёта, о том, как астронавты бьются на дальних планетах с армиями роботов, встречаются с какими-то несчастными, забитыми существами, подобно морлокам Уэллса, загнанным в глубокие катакомбы, или о том, как путешественники оторопело созерцают застывшую в виде статуи обнажённую красавицу, «с божественно правильным телом», видишь, что все попытки автора с помощью этих бутафорских приёмов создать впечатление космического размаха ему явно не удаются.
Неудача, постигшая Бердника, вполне закономерна. Ведь, если уже практически осуществлён полёт ракеты на Луну, её облёт по заданной траектории, то фантасту в наши дни, чтобы оказаться «с веком наравне», мало «формально» превзойти подобное событие: скажем, забросить ракету на Марс или Венеру. От фантастической книги уже ждёшь иного: какого-то более глубокого осмысления писателем облика грядущего, предвосхищения им отдельных черт характера человека будущего. Именно здесь, в этой сфере, писатель-фантаст сталкивается с основными трудностями.
Когда-то зачинатель советской фантастики А. Беляев заметил в одной из своих статей, что в произведениях этого жанра «самое трудное для писателя… угадать хотя бы две-три чёрточки в характере человека будущего». Мало представить состояние героя, скажем, во время полёта космического корабля в межпланетном пространстве: ощущение им невесомости и т. п. Надо суметь, помимо этого, предугадать новые черты духовного облика героя, изменения, происшедшие в его сознании под воздействием многих перемен, совершившихся в обществе.
Вот почему, когда в одном из наших фантастических романов последних лет читаешь, как герои во время космического рейса, чтобы «скоротать время», принимаются играть «в балду», этому никак не хочешь верить. Понятно, что такая игра затевается лишь потому, что писателю попросту нечего добавить к облику своих героев, нечего сказать о них. И хотя он и послал их в далёкое будущее, сам он остался ещё где-то в позавчерашнем дне, на уровне довольно убогих духовных устремлений.
В романе Бердника многие сцены тоже напоминает «игру в балду». Его герой, например, единственный из уцелевших астронавтов, встречается во Вселенной со звездолётом другой галактики. Впервые, таким образом, между двумя галактиками, разъединёнными мёртвыми глубинами космоса, переброшена тонкая нить разума. Какая победа мысли над временем и пространством! Казалось бы, вот ситуация, над которой есть о чём подумать писателю-фантасту.
Но как жалко, бедно выглядит столь знаменательная встреча. Один из далёких пришельцев на глазах изумлённого землянина «прямо из воздуха», подобно доброму волшебнику, создаёт алмаз и небрежным жестом Монте-Кристо презентует его своему новому знакомцу. Вот уж действительно представление о людях грядущего сквозь призму мещанских идеалов! Как будто горстка драгоценных камней для грядущих поколений будет иметь столь же решающее значение, как и для персонажей «Двенадцати стульев»!
Повесть В. Савченно «Чёрные звёзды» посвящена нашим дням, однако в ней гораздо отчётливей проступают контуры того будущего, к которому устремлены мысли его героев. Действие сосредоточено здесь в основном в небольшой лаборатории, где искусственным путём создан сверхтвёрдый, обладающий максимальной непроводимостью металл нейтрид, способный противостоять разрушительному воздействию радиации. Такой металл позволит людям окончательно «приручить» атом, до конца использовать его силу. Атомные реакторы из нейтрида уменьшатся до размеров бензинового мотора. Произойдёт подлинный переворот в технике.
Над решением этой задачи бьётся старик-профессор Голуб вместе со своим ассистентом Сердюком. Однако сама по себе такая узко специальная проблема не смогла бы сделаться главной, ведущей в книге. Вся мысль произведения неизбежно свелась бы к простой популяризации технической идеи, чего, разумеется, мало для научно-фантастической повести, которой необходимы крылатость, устремлённость вперёд.
Да, герои В. Савченко как будто бьются над решением одной, вполне конкретной задачи. Но недаром один из учеников Голуба говорил о профессоре, что он «не привык к быстрым победам». И Голуб, олицетворяющий в повести неуспокоенность самой авторской мысли, замечает по поводу своего открытия: «Мало получить нуль-вещество, мало назвать его нейтридом. Нужно ещё понять, определить его место в природе». Вот почему, хотя нейтрид открыт почти в начале повести, поиски продолжаются. И так и этак переворачивают его герои, пытаясь глубже понять его природу, стремясь «пробить» эту твердь усиленной «бомбардировкой» мезонами. Упорные поиски приводят Голуба к новому открытию, на этот раз действительно грандиозному, последствия которого не может ещё предвидеть и сам учёный. Найдено антивещество, пробивающее даже нейтрид.
Правда, и Голуб и его ассистент Сердюк погибают на пороге совершённого ими деяния. Взрыв, превративший лабораторию в щепы, оборвал и две эти жизни. Уцелела лишь кафельная стена, опалённая взрывом, а на ней — гигантская белая тень, «след человека», дерзнувшего вырвать у природы ещё одну сокровенную тайну... Сама деталь эта — тень на стене — поднята здесь до большого обобщения, до своеобразного фантастического символа. До подобных же грандиозных размеров в нашем представлении вырастает невольно и смысл самого открытия, сделанного Голубом. За всем этим вырисовываются контуры чего-то гораздо более значительного. Новое вещество, полученное Голубом здесь, на земле, это микроскопическая частица того, из чего, может быть, состоят далёкие, неразличимые «чёрные звёзды», существование которых пока является лишь гипотезой.
Так от крупицы этого вещества, полученного в маленькой лаборатории, мысль писателя переносится к иным, широким понятиям: к антиматерии, антипространству, к неведомым мирам «чёрных звёзд», с иным строением материи, возможно, с обратным бегом времени, с другой органической жизнью… И незаметно раздвигаются рамки произведения, а сами герои его, Голуб и Сердюк, невольно представляются нам смелыми героями науки, прокладывающими для неё новые, непроторенные пути. Недаром кафельная стена с запечатлённым на ней человеческим силуэтом устанавливается как памятник перед новым корпусом Ядерного института, где ученики Голуба продолжают начатое им дело…
Не всё одинаково удачно в книге Савченко. Есть тут и известная заданность авторской мысли, особенно в тех главах, где он перебрасывает действие за рубеж, показывая, как те же примерно проблемы разрабатываются в лабораториях милитаристов, вынашивающих новые планы глобальной войны. Здесь тоже встречаешь отдельные удачные находки, вроде символической картины гибели изобретателя «снарядов смерти» Вебстера, однако в целом вся эта линия лишь внешне раздвигает рамки повести.
Не всё удаётся «дотянуть» ему и в психологическом плане. Наиболее удался ему образ старого учёного Голуба, человека, безраздельно преданного науке. В его образе автор удачно подмечает ряд живых деталей. Однако, например, конфликт его с учениками, двумя молодыми специалистами, оказавшимися менее стойкими и последовательными, конфликт, интересно намеченный, не реализован, не осмыслен до конца.
И всё-таки даже при отдельных просчётах и срывах, которые, видимо, объясняются недостаточной авторской опытностью, «Чёрные звёзды» представляются интересной и плодотворной работой фантаста. От как будто сугубо локальной проблемы Савченко построил смелую проекцию в будущее. Это расширило горизонты его книги. Вот почему, читая её, как бы ощущаешь лёгкое дуновение Грядущего. А в романе Бердника этого нет, хотя там есть и космос и полёты в далёкие галактики…
Смелость фантаста чем-то сродни смелому научному поиску. Ищущая мысль автора, захваченного большой идеей, увлекает читателя, будоражит его живое воображение. В этом и сила подлинной фантастики, её настоящий размах.
С. Ларин. Горизонты фантастики // «Дружба народов», 1960, № 5







