16. Статья в рубрике “Felieton”, которую написал польский писатель НФ и журналист Яцек Собота, входит в цикл его статей «Признания идиота» и носит название:


Книги умирают немного иначе, чем люди. В материальном измерении процесс их разрушения кажется – это прозвучит не слишком хорошо -- более приятным, менее поглощающим чувства, в конце концов они просто превращаются в пыль. В метафизическом измерении смерть книг и их содержания — это забвение, которое наступает быстро, когда их авторы бредят; процесс вырождения замедляется прямо пропорционально возрастанию смысла и красоты фразы (это оптимистическое предположение, ибо, как известно, бывает по-разному). Есть еще третий тип умирания — убийство книги как медиума, как носителя информации; я хотел бы в первую очередь разобраться с этим типом умирания...
В этом контексте меня беспокоит соглашение Google с американскими издателями, означающее, что шедевры (и не только) литературы передаются в Интернет и могут быть там прочитаны бесплатно, что, вероятно, гарантирует смерть книги в обозримом будущем. С одной стороны, мы имеем дело с демократизацией доступа к информации, поэтому явление выглядит позитивным. С другой стороны, это своего рода пищеварительный процесс; присвоение новых областей культуры через Интернет, измельчение их в кашу должно привести к девальвации книги. Так происходит с музыкой, чье дорогостоящее сочинение и производство кажется нонсенсом, учитывая масштабы ее бесплатного поглощения пользователями Интернета; то же самое относится и к кино (масштаб явления, красочно названного цифровым дарвинизмом, пожирания культурных ресурсов Интернетом, описан Эндрю Кином в его интересной книге «Культ дилетанта. Как Интернет разрушает культуру»).
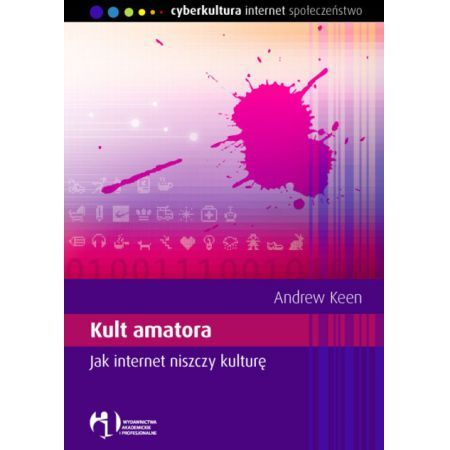
Должен признаться, что для меня книги — это нечто большее, чем просто заключенная в них информация. Они как застывшее время — стоят на полках, как таблетки воспоминаний, достаточно взглянуть на корешек, чтобы вспомнить события, произошедшие во время чтения. Например, «Дальние пути» (первая часть эпопеи «Люди как боги») Сергея Снегова -- советская соцреалистическая космическая опера и одновременно первая научно-фантастическая книга, прочитанная мною.

Толстый кирпич, испачканный шоколадоподобным веделевским продуктом, который я проглотил вместе с ним — выражение "книга имеет свой вкус" приобретает в данном случае тревожную буквальность. Помню, что во время чтения я заболел паротитом — лицо мое начало стремительно увеличиваться, как будто вдруг опухоль лица решила конкурировать с книгой Снегова в соревновании на объемность. Да, книга – это не только ее содержание. Есть в этом что-то чувственное, что-то поглощающее чувства, этот запах антикварной лавки, библиотеки, не очень приятный, несколько пыльный, и все же так хочется дышать этим прогорклым воздухом
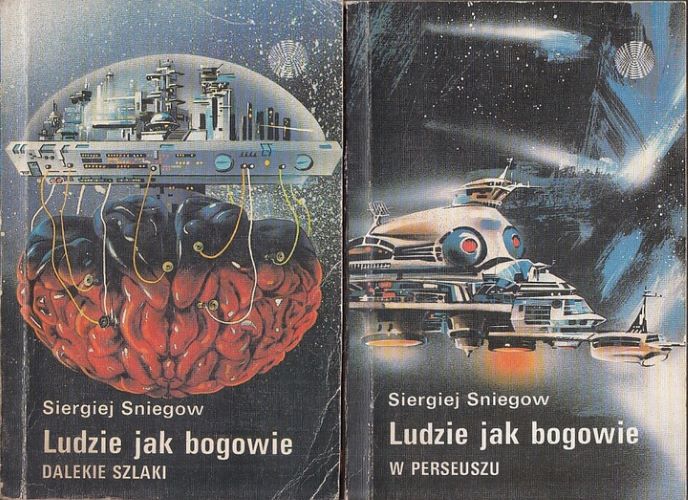
Невролог Дэвид Винер подчеркивает чувственность тома и эту «книжность» книги. Соприкосновение с книгой, которая пахнет и шуршит, должно стимулировать гораздо больше, чем чтение ее содержания с экрана. Он называет чтение «воплощением познания» — более увлекательным и развивающим чувства (особенно у молодежи). Конечно, электронная бумага уже существует, и в дальнейших разработках можно представить себе шелест электронной бумаги и испускаемые ею запахи. Но это была бы некая книжная мимикрия: нонсенс в том смысле, что попытка идеальной подделки привела бы к созданию оригинала, то есть книги (есть также аргументы различных экологических террористов, которые нападают на классический том во имя высоких экологических требований, но я не буду вступать в эту дискуссию).
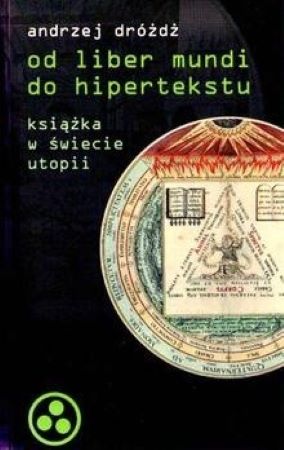
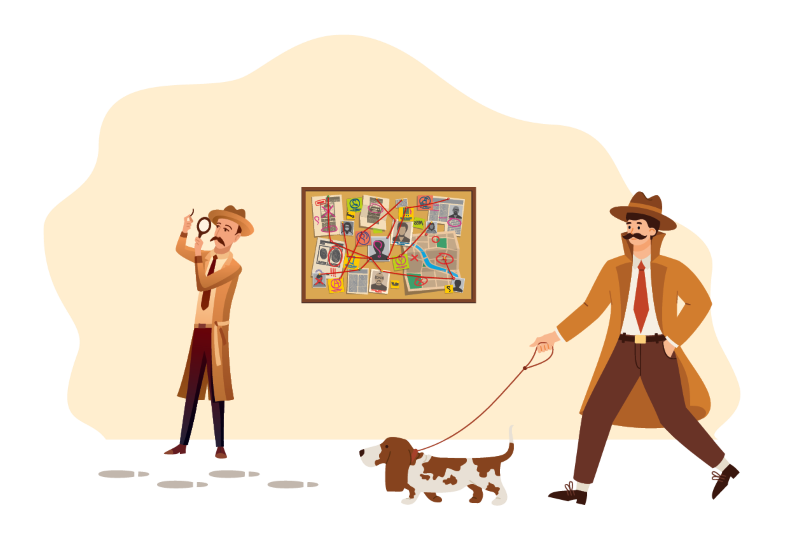
С несколько иной стороны подходит к вопросу несовместимости книжных и сетевых носителей информации Анджей Друздж в книге «От Liber Mundi к гипертексту». По мнению автора, традиционная передача информации характеризуется непрерывностью, которая проецирует на воображение читателя подобную непрерывность (постоянство) мира. Тем временем аксиомы, на которых основывался логический мир книги, были подорваны Интернетом (гипертекст, тотальный текст, среда, которая сама по себе является информацией). «Гипертекст разрушает старые иерархии текста и авторства, деформирует векторы времени и пространства и искажает реальность, а вместо этого создает кратковременные иллюзии преодоления ограничений природы», — говорит Друздж. В этом, несомненно, что-то есть — чтение заставляет нас дисциплинировать себя в замкнутом пространстве страницы, мир книги закрыт и упорядочен. Мир гипертекста, напротив, открыт. Чем отличаются люди книги от людей гипертекста, какую систему ценностей породит поколение Интернета, которое сейчас входит в культурный поток? Что ж, предполагается, что гипертекст искажает ощущение иерархии и законности мира; увековечивает веру в ее случайность и виртуальность, ослабляет чувство связности в пользу полифонии и разобщенности явлений. Поэтому электронные источники не подкрепляют идеи о постоянстве мира (это была домена книг). В то же время можно задать себе вопрос – а что, если такой источник знаний, прекрасно отражающий разрывность мира и текучесть реальности, лучше выражает ее суть? Многие философы (от античных скептиков, через Фрэнсиса Бэкона до Ницше и Бергсона) утверждали, что ошибки в процессе установления истинного образа мира кроются в нашем сознании, мир может быть гораздо более сложным, текучим и процессуально ориентированным, чем нам, бедолагам, кажется. Люди имеют склонность нахально антропоморфизировать мир, настойчиво ожидая смысла от реальности, безразличной к этим притязаниям. Поэтому мы создаем искусственные конструкции (одним из инструментов их создания была книга), в которых нам легче передвигаться, легче жить и безопаснее находиться. Кем будут наши дети? Это хороший вопрос.
Я, конечно, прекрасно сознаю, что содержащиеся здесь стенания имеют ясность и важность шепота амебы и что процессы, происходящие в культуре, являются результатом мощных механизмов, совершенно необратимых детерминант. Возможно, эти культурные трансформации и обмены носителями информации приносят с собой некоторые положительные моменты, которые я упустил из виду. Сетовать шепотом — такова уж роль идиота.


