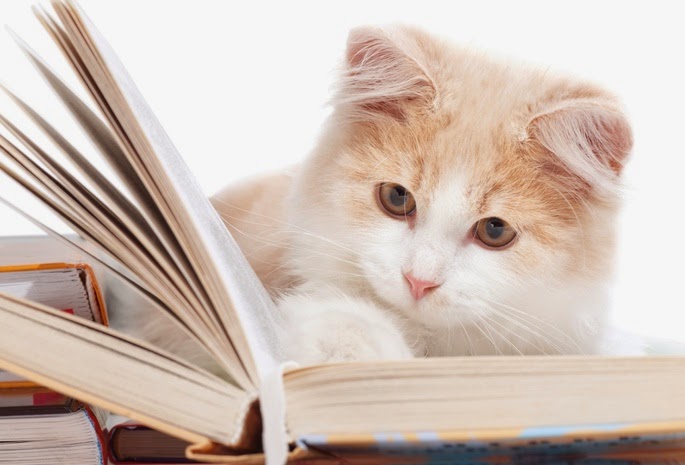Вслед за Айзеком АЗИМОВЫМ советским критикам Евгению БРАНДИСУ и Владимиру ДМИТРЕВСКОМУ, отрывок из статьи которых из журнала «Коммунист» был опубликован в октябрьском номере журнала «The Magazine of Fantasy and Science Fiction» за 1965 год, ответил Пол АНДЕРСОН. Он посчитал, что критики-коммунисты вообще не поняли его рассказ «Прогресс».
Ответное слово Пола АНДЕРСОНА
Коммунизм воплощает благородную идею о том, что человека и его судьбу можно улучшить, и долг каждого человека — помочь в этом улучшении. Является ли эта идея истинной или даже осмысленной, не имеет значения. Факт остается фактом: на протяжении существенного периода истории некоторые люди действовали в соответствии с ней.
К сожалению, коммунизм — точнее, марксизм-ленинизм — утверждает способность человека к совершенствованию в качестве догмы, а не как теорию, гипотезу или благочестивое пожелание. Затем коммунизм добавляет еще одну догму о том, что есть один-единственный правильный способ достижения улучшения, и он уже открыт. Из этого логически следует вывод, что люди, которые знают этот путь, обязаны убедить своих собратьев идти по этому пути. Конечно, лучше убедить их разумом и примером; но если этого не удается, то принуждение не только допустимо, но и обязательно.
Влияние этих догм на философию и литературу заключается в том, что оптимизм становится обязательным. Или, иначе говоря: в то время как коммунист признает, что смерть и страдания, случаются, и что даже в социалистической стране могут совершаться серьезные несправедливости, это ему, тем не менее, не дает ощущения трагедии.
Более того, из-за навязанных догм его идеал находится в неизбежном конфликте с благородным идеалом свободы. Да, он тоже говорит о свободе, но, по его мнению, власть принуждения не может быть сброшена до тех пор, пока индивид не будет настолько хорошо воспитан, что не станет противопоставлять себя коммунистической идеологии. Ему даже не приходит в голову, что индивид уже сейчас может иметь право на свободу: свободу, ограниченную только пределами, необходимыми для поддержания функционирования общества — ограничениями физическими, но не вторгающимися вглубь его сознания.
Я знаю, что слишком упрощаю. На самом деле американцы не настолько свободны, никогда таковыми не были и, вероятно, никогда не будут. А люди за железным занавесом не так уж порабощены. То, что я пытаюсь донести, — это всего лишь контраст между ориентациями, конечными ценностями и целями двух обществ. Поскольку литература неизбежно является упрощением жизни, в ней легче увидеть конфликт, чем в запутанной и постоянно меняющейся сфере реальной политики.
Например, было бы невозможным для идеалов коммунизма утверждать, что человек — это низменная, обреченная обезьяна: то, что мы называем "добром" — для него редкость и противоестественно, а то, что мы называем "злом", является нормой. Но на Западе такая мысль вполне приемлема. Я не утверждаю, что это правильная мысль — я сам в это не верю, — но я утверждаю, что ее продвижение вредит свободному обществу не больше, чем продвижение любой другой идеи. Я не верю и в то, что тотальная ядерная война неизбежна, и надеюсь так же искренне, как господа БРАНДИС и ДМИТРЕВСКИЙ, что ничего подобного никогда не произойдет. Тем не менее, чувствую себя вправе рассматривать в художественной литературе такую возможность и описывать ее вероятные последствия.
«Прогресс» на самом деле — оптимистичная история. Она предполагает, что человек может пережить почти все, например, ядерную войну, восстановиться и снова познать счастье. А также, что наша нынешняя машинная культура, возможно, не является оптимальной для такого животного как человек. Я не знаю, так на самом деле или нет; но я не верю, что кто-либо это знает.
Мне кажется, глубоко ненаучным утверждать, что история имеет определенный характер и в будущем будет следовать определенному курсу. Правда, Маркс и Ленин (так же как Сталин и Мао!) сделали несколько очень интересных выводов об истории. Но настаивать на том, что это были самые основополагающие выводы, которые когда-либо будут сделаны, значит выходить далеко за рамки имеющихся у нас данных.
Научная фантастика на Западе обретается в той области, которую человек еще не знает и не испытал на себе. По сути дела, эти вещи непознаваемы до того, как они произойдут. Поэтому наша художественная литература, не ограничена догмами и рассматривает множество возможных ситуаций, как приятных, так и неприятных. Без всякой идеологической подоплеки.
В заключение хочу сказать, что я был знаком с коммунистами и спорил с ними. Когда споры велись цивилизованно, как взаимный поиск взаимопонимания, а не как соревнование в оскорблениях, мы всегда приходили к каким-то выводам. Так, например, я увидел, что одно из наших коренных отличий заключается в том, что они несколько больше верят в человеческую рациональность, чем я. Возможно, когда-нибудь научная психология докажет, какая позиция ближе к истине. Между тем, они имеют право на свою веру, и я на свою. Тоталитаризм заключается в отказе кому бы то ни было — кому бы то ни было вообще, в праве на его личные убеждения и на его способ исследования реальности.
P.S. Интересно, что эта реплика Пола АНДЕРСОНА вызвала, в свою очередь, немаленький жесткий комментарий Анатолия БРИТИКОВА в его классической монографии «Русский советский научно-фантастический роман» 1970 года:
— Американскому писателю П. АНДЕРСОНУ, специализирующемуся на исторической фантастике, принадлежит рассказ «Прогресс». В нем изображена примитивная жизнь остатков человечества несколько столетий спустя после сокрушительной атомной войны. В статье «Будущее, его провозвестники и лжепророки» («Коммунист», 1964, № 2) Е. БРАНДИС и В. ДМИТРЕВСКИЙ отметили, что мрачная концепция рассказа перекликается с пессимизмом буржуазных философов, проповедующих бессилие человека перед якобы неопределенным (и неопределимым!) ходом истории. В журнале «Fantasy and Science Fiction», напечатавшем подборку откликов американских фантастов на эту статью, АНДЕРСОН возразил: «Прогресс» — рассказ оптимистический, ибо «внушает ту мысль, что человек может пережить почти все, даже атомную войну, и вновь построить свое счастье».
Показателен этот «оптимизм» посредством пессимизма, перекликающийся, кстати сказать, с псевдореволюционной оценкой оружия массового уничтожения как бумажного тигра. Для АНДЕРСОНА, как и для Мао Цзе-дуна (которого писатель ставит на одну доску с К. Марксом и В. И. Лениным), не существует вопроса, во имя чего человеку надо пережить всеобщее уничтожение. Для него фатально равнозначны оба гамбита: «если атомная война будет» и «если атомной войны не будет». Подобно тому, как для АЗИМОВА тезис: «если коммунизм будет продолжаться» равноправен (с точки зрения игры ума) антитезису: «если капитализм будет продолжаться».
Разумеется, АНДЕРСОН приводит другое объяснение: «Наша научная фантастика, не ограниченная никакой догмой, говорит о многих мыслимых ситуациях, иные из которых приятны, иные нет. Какого-либо другого идеологического смысла наша фантастика не имеет».
Но этот-то смысл и существен: здесь и появляется «научный» релятивизм в оценке исторических тенденций.
АНДЕРСОН не согласен с «марксистской догмой», что история носит «определенный характер» (будто она сама этого не доказала!) и что «в будущем она пойдет по одному пути», т. е. к коммунизму. На словах — свобода от догм, на деле, в выборе фантастической ситуации, — догма фатализма (в этом мы убедимся и в главе о повести А. и Б. СТРУГАЦКИХ «Трудно быть богом»). На словах АНДЕРСОН «искренне надеется», что атомной войны не будет, на деле все-таки рисует ее возможные последствия, а не возможность устранения.
Примечательна одна полемическая обмолвка. АНДЕРСОН сожалеет, что марксизм-ленинизм в своем историческом детерминизме якобы догматизировал "теорию, гипотезу или благочестивое пожелание совершенствования человеческого рода". Можно было бы не придираться к этой небрежности, если бы уравнивание коммунистической доктрины с прекраснодушным провиденциализмом не было оборотной стороной попыток дискредитировать научный фундамент коммунистического учения о революционном преобразовании мира во имя человека. Приспешник Б. ГОЛДУОТЕРА черносотенец Т. МОЛЬНАР призывает вообще разделаться с научной теорией, потому что она «является, по сути дела, позвоночником утопизма, а точнее мысли о том, что человечество должно… полностью взять под контроль свою судьбу». В этой философии проступает отчетливая политическая программа: «Наука ослабляет человека, обещая ему всяческие утопии, как марксизм, в котором основным тезисом является борьба с отчуждением, дабы вырвать человеческую судьбу из рук слепого случая». Ясно, о каком ослаблении идет речь.
АНДЕРСОН, который на словах отмежевывается от подобных «ястребов», на деле, в своей фантастике, превращает человечество в игрушку случая и после этого утверждает, что его фатализм и есть научная позиция.
P.P.S. Евгений БРАНДИС и Владимир ДМИТРЕВСКИЙ тоже ответили Полу АНДЕРСОНУ в статье «Фантастика в движущемся мире», опубликованной в 1-м номере журнала «Иностранная литература» за 1967 год:
— Пол АНДЕРСОН, подчеркивая свое несогласие с доктриной коммунизма, тем не менее признает: «Коммунизм воплощает благородную идею о том, что люди способны совершенствоваться, что судьба их может быть улучшена и что долг каждого индивидуума помочь этому улучшению... Я знал многих коммунистов и спорил с ними. Когда спор шел в вежливой форме и мы больше искали взаимопонимания, чем старались обвинить друг друга, мы всегда к нему приходили. Так, например, я понял, что одно из коренных наших разногласий состоит в том, что у них больше веры в человеческий разум, чем у меня».
Не будем сейчас говорить о том, что нам трудно принять апелляцию АЗИМОВА к библейскому «царству любви», точно так же, как и метафору БРЭДБЕРИ о «двух группах слепцов, движущихся в темноте». Гораздо важнее в этих заявлениях отметить искреннее стремление отыскать в первую очередь не то, что нас разделяет, а то, что в какой-то степени может сблизить.
Принципиальные расхождения начинаются там, где американские писатели противопоставляют коммунизму свое понимание свободы. И в этом отношении наиболее показательны высказывания Пола АНДЕРСОНА, полагающего, что коммунистический идеал «из-за присущего ему догматизма, обязательно вступает в конфликт с не менее благородным идеалом свободы».
Это старая песня! Против понимания свободы как осознанной необходимости «ниспровергатели» марксизма выступают со времен его зарождения. Но любопытно еще и такое признание Пола АНДЕРСОНА, которое следует непосредственно за его толкованием «идеала свободы». «Американцы, – заявляет он, – такой свободой не пользуются, никогда не пользовались и никогда не будут пользоваться ею. Не так уж порабощены и люди за «железным занавесом». Что я хочу показать, так это только контраст между ориентацией, высшими ценностями и конечными целями обоих обществ. Так как литература по необходимости всегда есть упрощение жизни, то конфликт легче увидеть в ней, чем в запутанной и вечно меняющейся сфере современной политики».
Не найдя воплощения идеала свободы ни за «железным занавесом», ни в своей стране. Пол АНДЕРСОН пытается утвердить этот идеал в собственных фантастических сочинениях.
Как и многие его коллеги, АНДЕРСОН видит в истории лишь хаотическое нагромождение событий, где нет и не может быть никаких закономерностей. И потому ему ничего не стоит замещать в своих произведениях современные отношения канувшими в лету патриархальными порядками. И даже корда он переносит действие на просторы вселенной, далекое будущее фатально оказывается все тем же прошлым.