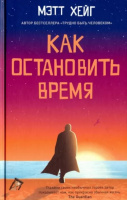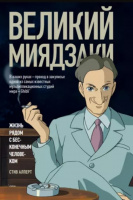Каждый месяц Алекс Громов рассказывает о 9 книгах
Это первое, что я должен вам сказать. Чему вы вряд ли поверите. Увидев меня, вы решите, что мне около сорока, и сильно ошибетесь.
Я стар, как бывают старыми деревья, моллюски-венерки либо картины эпохи Ренессанса.
Поясню: я родился более четырехсот лет назад, третьего марта 1581 года, в спальне моих родителей, на третьем этаже небольшого французского замка, который был моим домом. День стоял не по сезону теплый, и моя мать попросила кормилицу отворить все окна.
– Господь тебе улыбнулся, – сказала мать. Думаю, что добавила при этом: – Если он все же существует.
С тех пор ее улыбка навсегда сменилась нахмуренными бровями.
Моя мать умерла очень давно. А я вот не умер.
Видите ли, организм мой пребывает в весьма своеобразном состоянии.
Довольно долго я думал, что это недуг, но недуг – слово не совсем точное. Недуг предполагает плохое самочувствие и постепенное угасание. Я предпочитаю говорить об особом состоянии. Редком, но не уникальном. О котором не известно никому, кроме тех, кто в нем пребывает.
…Состояние это развивается в переходном возрасте. В общем-то ничего особенного при этом не происходит. Вначале «страдалец» даже не замечает, что с ним что-то не так. В конце концов, проснувшись поутру, человек видит в зеркале то же лицо, что видел накануне. Изо дня в день, из недели в неделю, даже из месяца в месяц человек не меняется разительным образом.
Но по прошествии времени, в дни рождения и другие знаменательные даты, окружающие начинают замечать в нем полное отсутствие признаков взросления.
На самом деле такой человек вовсе не перестает стареть. Он стареет, как и все прочие. Только гораздо медленнее. Скорость старения среди подверженных анагерии может незначительно колебаться, но в основном составляет 1:15. Некоторые стареют на год за тринадцать или четырнадцать лет, я – скорее за пятнадцать»
Мэтт Хейг. Как остановить время
Люди обычно боятся старости и смерти, но так ли хороша противоположность – жить если не вечно, то очень долго, почти не меняясь внешне? Именно такую ситуацию показывает в этой книге английский автор бестселлеров, в которых аллюзии на классику перемешаны с фантастикой и фэнтези.
Главный герой имеет особенность, которая замедляет его старение и дает очень долгую жизнь, от Шекспира до наших дней. Он такой не один. Существует даже общество, объединяющее долгоживущих «альбов». Он видел тех, о ком современные люди могут только читать в учебниках и трудах историков, играл на одной сцене с Шекспиром, путешествовал по свету еще в эпоху великих открытий. Но одиночество не исчезает, и он мечтает найти свою давно потерянную дочь. Она унаследовала его странность, но когда-то он оставил ее у матери.
И вот этот почти бессмертный возвращается в родную Англию, в Лондон. Устроился преподавать историю, что у него, по понятным причинам, отлично получалось. И сразу нарушил одно из правил «альбов» — не влюбляться в обычных людей.
«Она еще не оправилась после длительного перелета. Как и я. Мне хотелось, чтобы она побыла у меня подольше, но она говорила, что Лондон провоцирует у нее приступы паники, а ложиться в больницу она не желала. По ее словам, на Фетларе, одном из Шетландских островов, по-прежнему стоял заброшенный дом, в котором она жила в 1920-е годы. Туда она и собиралась вернуться. Кое-какая наличность у нее была. И к следующим выходным – после моей новой рабочей недели в школе – она уедет. Это меня огорчило, но я все понимал и пообещал при первой возможности ее навестить.
– Там, на островах, время застыло, – сказала она. – И я чувствовала себя такой, как все. В окружении неизменной природы. В городе все намного хуже. В городах всякое случается.
У нее снова задрожали руки. Какие ужасы ей пришлось пережить? Она вытеснила их из памяти. Что сулит нам будущее? Что будет с ней и со мной теперь, когда тайна альб, скорее всего, раскроется? И не исключено, что раскрыть ее предстоит нам – или Омаи.
Заглянуть в будущее невозможно – таков порядок вещей. Ты смотришь новости и ужасаешься, но понятия не имеешь, чем все кончится. В этом особенность будущего. Тебе не дано его знать. В конце концов ты миришься с этой данностью. Перестаешь забегать вперед и стараешься сосредоточиться на той странице, которую читаешь.
Авраам спрыгнул с дивана и потрусил на кухню. Мэрион подошла и села рядом со мной. Мне захотелось ее обнять, но я не знал, понравится ли ей это. Вдруг она молча опустила голову мне на плечо. Мне вспомнилась та ночь в карете – Мэрион было десять лет, – когда ее голова так же лежала у меня на плече. Тогда мне казалось, что все кончено. Теперь я думаю, что все только начинается.
Временами время способно нас удивлять».
— Ротмистр Желябов, могу я вам чем-нибудь помочь, сударь?
Сергей включил компрессор и, выпрямившись, отрицательно покачал головой.
— Нет, спасибо, офицер. Все нормально. Колесо подспустило. Решил подкачать, чтобы зуммер на нервы не давил.
Полицейский окинул его цепким взглядом, затем его глаза смягчились, и он понимающе кивнул:
— Да, бывает… — но потом все-таки уточнил: — Значит, техпомощь не нужна?
— Нет, делов на пару минут. Да и некогда… Дочку еду встречать, во Внуково. Две недели каталась — Ирак, Египет, Греция, Италия… Она у меня в пятый класс идет.
— А-а, — понимающе кивнул полицейский, — курс школьных экскурсий „История цивилизации“. Мой старший сейчас во Франции. У них по программе будущего года как раз Наполеоновские войны…»
Роман Злотников. Время вызова, или Нужны князья, а не тати
Необычный «идейный» (отчасти – философский) роман, (с обилием диалогов) в котором судьбы наших современников, попавших в водоворот бурных событий недавней современности (Перестройки), дележа собственности и бандитских разборок, оказываются под пристальным вниманием двух таинственных господ – Каспара, Мельхиора и Бальтазара (такие знакомые классические персонажи). Ради чего живет человек? Князь – это не тот, кто награбил больше всех. А тот, кто сумел преодолеть трудности и создать ценности (родовое дело), достойные потомков. Кто кроется за теми и иными делами, вершит свои планы? И как не ошибиться в выборе? И объяснить остальным.
«— Вы этого помнить не можете, — продолжил он, — а я помню, как у вас было, когда рухнул ваш Советский Союз… Нищета, разруха, миллионы людей уезжали из страны, считая, что у них здесь нет никакого будущего. А те, кто оставался, им страшно завидовали и мечтали о том, чтобы им тоже представился шанс уехать… Как все изменилось. — Он покачал головой. — Один ваш коммунистический классик как-то сказал: „Идеи, овладевая массами, становятся материальной силой“. Когда у вас появилась эта самая идеология Времени Вызова, на Западе многие смеялись. Мол, русские жить не могут без какой-то идеологии и потому снова изобретают себе очередной коммунизм. Где они теперь, эти насмешники? — Немец развел руками. — А ведь вроде все так просто: любые трудности — это испытание, вызов, новый шанс. Возможность подняться над собой… И опасность потерять себя. И чтобы этого не произошло, храни в себе четыре ценности: верность слову, ценность жизни, язык и служение разнообразию. Вот этим служением разнообразию вы всех и зацепили…»
На Земле пилот бомбардировщика или оператор установки залпового огня за раз уничтожает никак не меньше, но есть разница между нажатием на кнопку и заклинанием, выпущенным на волю почти «в упор».
Виталий Зыков. Владыка Сардуора
Роман (один из цикла) хорош тем, что дает яркую, осязаемую картинку происходящего, в котором все "детали" и персонажи находятся на своем месте. Хороший стиль, динамичный сюжет, своеобразный, порой мрачноватый юмор, обилие персонажей (среди которых — зачарованные чудовища) и герои, способные совершать непредсказуемые деяния. И даже моральные "размышления" — умерено и к месту. Бурная жизнь главного персонажа, неуклонно движущегося вверх по символической карьерной почтгероической лестнице в живописном мире меча и магии, где все так просто и порой даже не сказочно.
«Зачем не спать ночами, изучать новые заклинания, если и так хорошо? Неглупые в общем-то парни и девчонки обожали рассуждать о том, как бы они всем показали, обретя волшебный дар, как, позабыв про покой и сон, выгрызались бы в гранит тайных наук, исследовали неведомое. А вместе с тем в обычной жизни они так и начинали изучать языки, кое-как осваивали профессию, боялись начинать что-то новее и, словно бараны, продолжали ходить на ненавистную работу».
И они обойдутся. Каждый этаж в японском офисном здании, как правило, предназначен для использования его в качестве единого большого открытого пространства. И даже в самых известных корпорациях за одним столом работает несколько человек. Стол делят между собой от четырех до шести сотрудников, сидящих по обеим сторонам лицом друг к другу, в то время как подобием разделительного барьера служит компьютер или стопки папок. Один принтер, одна копировальная машина и один факс на весь этаж. А иногда и на два этажа, и тогда людям приходится сновать вверх и вниз, чтобы забрать распечатанный документ или пришедшее по факсу сообщение.
Офисы «Токума Сетэн» располагались в весьма шикарном с точки зрения архитектуры здании. Но внутренние помещения планировались для японских сотрудников. А вот офис «Токума Интренейшнл» предназначался для гайдзина. Внутри только что возведенных стен каждый из четырех первых сотрудников «Токума Интернейшнл» имел собственный рабочий стол нужного размера и свой компьютер. На четверых был один принтер, одна копировальная машина и факс. Кроме того, мы располагали диваном и двумя креслами для повседневных совещаний, а также столом и четырьмя офисными стульями для таких совещаний, когда нужна была поверхность, чтобы разложить на ней документацию.
Еще у нас стояли книжные шкафы, заполненные важными, но редко используемыми книгами по законодательству в нашей отрасли плюс массивными японско-английскими и англо-японскими словарями. А в витрине демонстрировалась вся продукция и книги, выпущенные когда-либо студией «Гибли».
Наш офис на десятом этаже имел большие угловые окна с видом на дорогу, ведущую к Токийскому заливу. Со своего рабочего места я мог одним взглядом обозреть все разнообразие видов японского транспорта. Сверхскоростной пассажирский экспресс «Синкансэн» медленно отъезжал по направлению к станции Токио. Каждую минуту прибывали и отправлялись местные электрички и поезда дальнего следования, имеющие определенную цветовую маркировку. Только что запущенный в эксплуатацию автоматический электропоезд двигался по линии Юрикамомэ в сторону развлекательной зоны Одайба и конференц-центра «Биг Сайт». Старая, но грациозная монорельсовая дорога, оставшаяся от Олимпиады 1964 года, зачем-то отклоняясь влево, образовывала петлю на своем пути в аэропорт Ханеда.
Изящно изгибались ответвления Шуто – скоростных магистралей, идущих поверху. Транспорт, стоявший на них в пробках, едва двигался в течение дня. Пару раз в день я замечал паром, только что зашедший на стоянку у набережной Такесиба после двадцатичетырехчасового путешествия от одного из отдаленных островов Идзу-Огасавара, почему-то официально относящихся к метрополии Токио. В поле зрения попадал и недавно построенный Радужный мост, связывающий город с островом Одайба. Он серебрился в утренних лучах или купался в ярких огнях на фоне подернутого розово-фиолетовой дымкой неба в сумерках…»
Стив Алперт. Великий Миядзаки. Жизнь рядом с бесконечным человеком
В тексте рассказывается о своеобразии японской культуры и традиций, описанными автором – гайдзином (иностранцем, «человеком извне), жившим и работавшем в Японии. И, что немаловажно, в течение пятнадцати лет являвшимся одним из руководителей студии «Гибли» и членом режиссерского совета.
В книге приводится история создания студии «Гибли» режиссерами Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой и выпуск ее первого фильма – «Навсикая из Долины Ветров», представлявшего собой антиутопию о мире будущего, в котором уничтожены экосистемы.
«Навсикая из Долины Ветров» стала первым японским полнометражным анимационным фильмом, на просмотр которого пришли в кинотеатры миллионы зрителей.
Одна из тем книги – это проблемы перевода, точнее будет сказать – адаптации фильмов студии «Гибли» для зарубежного (западного) проката, связанные с этим переговоры, и потерях в переводах. И вопрос в правах — Стив Алперт отмечает, что если в Америке фильм принадлежит продюсеру, то в Японии – режиссеру. Тем более, что «аллюзии и различные версии образов, созданных Хаяо Миядзаки, можно встретить в работах прославленных независимых и голливудских режиссеров, включая тех, чьи фильмы бьют рекорды по кассовым сборам. Хаяо Миядзаки называют Уолтом Диснеем и Стивеном Спилбергом японского кинематографа. Его влияние на других кинематографистов огромно». При этом сама студия, расположеная в зеленом жилом районе Коганей, что в западной части Токио. Довольно маленькая по размерам. Хотя именно здесь Хаяо Миядзаки сделал двадцать два полнометражных фильма и работает над следующими.
«Несколько слов о заглавии этой книги. «Бесконечный человек: Хаяо Миядзаки». Так назывался документальный фильм режиссера Каку Аракавы, показанный по японскому телевидению в 2016 году. Определение «бесконечный человек» относилось к Хаяо Миядзаки, и его придумал давно работающий на студии продюсер Тосио Сузуки. Японское название Owaranai Hito звучит точнее. Его можно перевести как «человек, который никогда не кончается, у которого не иссякают идеи», и этот нюанс указывает на то, что у Миядзаки есть ощущение, что его фильмы никогда не кончаются и что, если бы не требования кинобизнеса и необходимость успевать к сроку, он, возможно, никогда не завершал бы фильм. А еще данная фраза указывает на человека, который никогда не перестанет выпускать фильмы…
«Студия «Гибли» была основана для того, чтобы удержать команду, выпустившую «Навсикаю из Долины Ветров», и создавать новые фильмы. Возникновение «Гибли» окружено многими мифами. Тосио Сузуки говорил, что название для нее было выбрано неслучайно: словом «гибли» пилоты итальянских самолетов-истребителей времен Второй мировой войны называли горячий ветер, дующий из пустыни Сахара. Сузуки пояснил, что перед «Гибли» стояла цель стать свежим горячим ветром в мире японской анимации. Когда о названии спросили Хаяо Миядзаки, он изложил такую версию: имя было выбрано, когда Сузуки объявил ему, что для них создается собственная студия – и нужно придумать название. Когда вошел Сузуки, Миядзаки как раз просматривал книгу об авиации Второй мировой войны и случайно указал на самолет, изображенный на открытой в тот момент странице. Может быть, и то и другое правда, а возможно, и нет. Так или иначе, но именно Ясу-еси Токума нашел деньги на реализацию этого проекта».
К счастью, презрение индийских писателей (и скульпторов) к точным историческим фактам вовсе не означало безразличия к реальной жизни, которая их окружала. Но опять же следует отметить, что описания зачастую являются образными и иносказательными. Например, царский дворец описывается не как конкретное здание, а как идея царского дворца, то есть каким он должен быть. А рядом тот же автор рисует весьма достоверную картину со множеством подробностей, с бытовыми деталями из обихода людей, занимавших более низкое общественное положение. В произведения устного народного творчества странствующие рассказчики и сказители вплетают приметы повседневности. Скульпторы и художники отражают в своих работах различные элементы окружающей действительности. Благодаря им мы имеем представление о жизни в городе, деревне и при царском дворе тех времен. Об этом же мы можем судить по сохранившимся запискам зарубежных путешественников, в основном из Греции и Китая, которые в те времена посещали Индию. По их воспоминаниям, а также по старинным барельефам, настенным рисункам и надписям, светским и религиозным текстам можно восстановить картину жизни Древней Индии и сравнить ее с сегодняшней.
Однако прошлое предстает перед нами лишь в самых общих чертах. Сохранившиеся источники редко рассказывают о конкретных людях и событиях. Они скорее описывают то, что должно быть в идеале, чем реальные факты. Например, мы до сих пор не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем, является ли знаменитая работа «Артхашастра», приписываемая Каутилье и считающаяся обязательной для изучения истории Древней Индии, достоверным жизнеописанием времен правления династии Маурьев. Археология тут не поможет: жилые дома как богатых, так и бедных были построены из недолговечного материала и давно обратились в пыль. Их изображение можно воссоздать только на основании произведений искусства и литературы. А точное описание того или иного здания или местности встречается подчас лишь в записках посетивших Индию иностранцев. Действительно, о реальном прошлом Индии мы знаем удивительно мало, точнее сказать, очень мало знаем о конкретных исторических лицах. Даже когда упоминается некий исторический деятель, у нас нет уверенности, существовал ли он вообще. У очень многих литературных произведений Древней Индии не указаны авторы, а если указаны, о них практически нет никакой информации.
Из всего этого следует, что для воссоздания точной картины надо правильно разобрать материал. До недавнего времени изучением индийской истории занимались в основном европейские ученые, которые привнесли в это изучение как ценности, так и предрассудки своей цивилизации, а это в известном смысле мешало глубоко понять значение и сущность цивилизации индийской. Переводы древнеиндийской литературы ограничивались в основном буддийскими и индуистскими священными текстами. Отсюда пришло несколько неверное представление об Индии и индийцах того времени. Некоторые ученые рассматривали Индию только как вместилище разума и глубочайших духовных истин, которое в известном смысле служило противовесом растущему материализму Запада».
Майкл Эдвардс. Повседневная жизнь Древней Индии. Быт, религия, культура
Давние, давние времена. В тексте описаны основные касты и связанными с ними традиции, кшатрии-цари и их походы, величественные брахманы и хитроумные торговцы, почти бесправные неприкасаемые, сожжение вдов и другие ритуалы, а также – науки и искусства. Уделено внимание городской и сельской жизни, суевериям, одежде и быту, украшениям и сокровищам.
С древних времён в Индии изготавливали разнообразные ювелирные украшения из благородного металла, золота, сверкающего и не подверженного коррозии. Многие золотые дел мастера жили на Юге, в Канчипураме. Из золота делались и статуи богов для храмов и дворцов. Золото упоминалось в древних религиозных текстах (в «Атхарва-Веде» и «Ригведе», где говориться говорится о подарках в форме золотых украшений, ожерелий и головных уборов), слово «Хиранья-гарбха» на санскрите означает золотое семя, золотое яйцо или золотое лоно. Лакшми, Богиню благополучия, изобилия и богатства, изображали с четырьмя руками в которых она держала мешочки с золотом.
В эпосе Махабхарата есть упоминания о муравьином золото, которое использовалась на торжественных церемониях коронаций. Оно получило такое название, потому что часто его добывали именно посредством промывки золотоносной почвы термитников и муравейников.
«В I в. до н. э. в Северо-Западную Индию из Средней Азии проникли племена саков (шаков), которые в китайских источниках называются племенами сэ. Сначала саки, столкнувшись с индо-греческими династиями, находились под их верховенством, а затем образовали свои индо-сакские государства. Сакастан, «страна саков», занимал территорию современного Систана. Династия Кушан создала огромную империю, охватившую районы Северной и Северо-Западной Индии, современного Пакистана и Афганистана, а также Центральной Азии. Кушанское царство занимало часть Бактрии в Средней Азии. Кочевые племена юэчжей вытеснили саков в Бактрию, завоевали Бактрию, образовав там пять владений. Затем верх одержало объединение Кушан (в китайских хрониках – Гюйшуань). О связи Кушанов с юэчжами ведутся дискуссии, она не бесспорна; есть мнение, что кушанский этнос сложился внутри Бактрии. Один из кушанских правителей I в. до н. э. Кушан Герай пользовался греческим письмом. Жители Бактрии говорили на бактрийском языке, относящемся к группе иранских языков. А письменность возникла на основе греческой. Юэчжей связывают с тохарами – племенами Центральной Азии, покорившими бактрийцев, но утратившими свой язык. То есть кушаны, по этой теории, больше связаны, с точки зрения глубокого культурного воздействия, с оседлым населением Бактрии, чем с кочевниками-юэчжами. К моменту прихода кушанских племен Бактрия была очень развитой страной с прочными традициями государственности и культуры. Население говорило на бактрийском языке, принадлежавшем к группе иранских языков, и имело письменность, возникшую на основе греческой. Кушаны восприняли эти традиции оседлого населения Бактрии, хотя, конечно, большую роль в складывании кушанской культуры продолжали играть традиции кочевых племен».
Уильям Дерезевиц. Экономика творчества в XXI веке. Как писателям, художникам, музыкантам и другим творцам зарабатывать на жизнь в век цифровых технологий
Развитие интернета, казалось бы, облегчило творцам путь к слушателям, зрителям и читателям. Автор этой книги указывает, что в наши дни популярна легенда, происходящая из Кремниевой долины, — мол, всякий, кто имеет ноутбук и смартфон, уже владеет всем нужным для творчества. У него или нее есть и студия звукозаписи со всеми желаемыми инструментами, и камера для съемок, и приложения для самостоятельного создания электронных книг и выставления их на маркетплейс. Пиши, рисуй, верстай, выкладывай, и вот ты уже звезда в своем жанре. Но оказалось, что финансовую сторону дела цифровизация не слишком улучшила.
Однако реальные творческие люди возражают: выложить свое произведение вы, конечно, можете, но кто его купит? Контента море, и как сделать так, чтобы люди захотели платить именно за тот, который производите вы? Удивительно, но искусством сейчас, тем не менее, занимаются многие. И очень активно. Каким же образом им удается выживать, а кому-то даже и процветать. В книге разоблачаются мифы, что можно работать по вдохновению пару часов в день и получать огромные деньги, и рассказывается на реальных примерах, как на самом деле разбираются с финансами те, кто работает в сфере искусства.
«Можем ли мы жить без профессиональных авторов? ИТ-евангелисты заставляют нас думать, что можем. Они утверждают, что мы вернулись в золотой век дилетантства. Сделано на коленке, как в старые добрые времена. Но из всех выбранных вами произведений искусства – сколько создано дилетантами? За исключением группы вашего соседа по комнате, полагаю, немного. Вы уже были в театре импровизации вашего двоюродного брата? Разве именно таким вы хотите видеть искусство – не только до конца вашей жизни, но и до предполагаемого конца истории человечества? Еще один гаражный бэнд? Великое искусство, даже просто значимое лежит на плечах индивидуумов, готовых потратить львиную долю своей энергии на творчество, – другими словами, на плечах профессионалов. Любительский креатив – без сомнения, прекрасен для тех, кто им занимается. Но не стоит его путать с подлинно гениальным…
Одним из наиболее вопиющих (и самых известных среди музыкантов) примеров технополлианизма стала публикация Стивена Джонсона, известного писателя, популяризатора науки и теоретика СМИ, в The New York Times Magazine в 2015 году. В статье «Творческий апокалипсис, которого не было» (The Creative Apocalypse That Wasn’t) он опирался на некоторые очень общие (и поверхностно интерпретированные) данные, утверждая (угадайте, что?), будто сейчас – самые благодатные для авторов времена. В ответной статье «Журналистика данных, которой не было» (The Data Journalism That Wasn’t) Кевин Эриксон, директор Future of Music Coalition, исследовательской агитационной группы, камня на камне не оставил от аргументов Джонсона и продолжил следующим: «Если вы хотите знать, как идут дела у музыкантов, спросите их самих, и желательно не у одного. Разные исполнители дадут разные ответы, и все они будут корректны с точки зрения их собственного опыта. Но общая картина будет более точно отображать многообразие происходящего».
Од де Керрос. Современное искусство и геополитика: Хроники экономического и культурного доминирования
Издание посвящено анализу роли современного искусства в окружающем мире и переменах на арт-рынках. Керрос подчеркивает, что искусство стало всемирно признанным и ликвидным, а затем – транслирующим идеи и стирающим границы. В тексте описаны умопомрачительные рекорды арт-рынка, использование приемов маркетинга и новые экономические функции искусства в глобальном масштабе.
В тексте описано, как Америка победила в холодной войне культур, в результате чего американское понимание искусства стало мейнстримом. Уделено внимание многообразию русского диссидентства, японским спекуляциям и культурной политике Китая.
В 1980-х годах в Нью-Йорке в художественных галереях и клубах начались перемены – вместо анализа произведений и деятельности художников для широких масс стали распространять скандальные и забавные случаи из жизни создателей, часто мастерски придуманные и представленные. «Отсутствие таланта больше не мешало художнику прославиться. СМИ приобрели огромное влияние: они могли произвольно наращивать стоимость арт-объекта». Множество художников устремились в Нью-Йорк, а потом эти механизмы обретения признания стали актуальны и в других местах…
В тексте рассказывается о покорении Парижа и Москвы, создании официального искусства во Франции, многообразии русского диссидентства, и открытии Китая для внешнего влияния.
«Музеям помогали коллекционеры-меценаты, за счёт чего им удавалось поднять престиж своих коллекций, освободиться от уплаты налогов и создать себе лестный образ филантропов. «Блокбастер» в мире искусства: продажа «Спасителя мира» В ноябре 2017 г. в «Кристис» решили продать одну картину сомнительного происхождения, в плохом состоянии, но с подписью Леонардо да Винчи. Проведение кампании по продаже было одновременно и достижением, и переломным моментом в понимании искусства и арт-рынка. Определяющими стали правила маркетинга. Использовались те же стратегии, что господствовали в культурной индустрии последние 20 лет: гигантомания и сенсация. Продажа должна была стать «блокбастером» в мире искусства. Приёмы маркетинга, использованные при подготовке к торгам, потрясали. Ко всеобщему изумлению, «Спаситель мира» попал в отдел «современного искусства», где он, впрочем, соседствовал с работами таких модернистов, как Поллок и Бэкон, а также с работами идолов «современного искусства», среди которых — звезда стрит-арта Жан-Мишель Баския, Джон Каррен, работающий на стыке порнографии, китча и академизма, и новый афроамериканский художник Керри Джеймс Маршалл. После этого цены на работы последнего подскочили до отметок в $5 млн. Ради такого можно и все отделы перемешать. Контраст был поразительным. Соседство таких работ изумило и коллекционеров «современного искусства», и авантюристов от бизнеса, и сведущих финансистов, и любителей реинвестировать средства туманного происхождения. Помимо прочего, им было лестно увидеть свои привычные 19 2000 трофеи бок о бок с работой самого известного художника Ренессанса, героя романа-бестселлера «Код да Винчи» и одноимённого фильма. Сведущие люди и образованные коллекционеры, знакомые с принципами работы отдела старых мастеров, более критически смотрели на происходящее, более внимательно слушали экспертов, а те оценивали работу в $100 млн, учитывая её проблемность. Но в «Кристис» пошли дальше и превратили эти торги в культурное событие мирового масштаба».
Ф.О. Нофал. Очерки по истории зайдитской мысли VII–XI вв.
Эта книга — научный труд, посвященный исследованию раннего этапа развития зайдитского калама. Как отмечает автор в предисловии, это направление классической философии Востока на данный момент недостаточно хорошо известно и западным, и отечественным специалистам. Зайдизм как философско-религиозное течение сформировался в VIII веке на территории Арабского халифата. Его основателем стал Зайд ибн Али, внук имама Хусейна и праправнук пророка Мухаммеда. Он жил в городе Куфа, расположенном на берегу реки Евфрат (на территории современного Ирака) и был почитаем в народе как авторитетный богослов. Вожди местных племен, недовольные правлением династии Омейядов, убедили его выступить против халифа, пообещав массовую поддержку.
В 739 году Зайд ибн Али стал предводителем повстанцев. Но спустя десять месяцев восстание потерпело поражение. Сам Зайд ибн Али в самом начале 740 года был смертельно ранен в бою и вскоре скончался. Сподвижники тайно похоронили его на дне одного из рукавов Евфрата, предварительно устроив временную запруду выше по течению. Но видевший это случайный соглядатай донес об этом наместнику. Могилу разорили, голова Зайда ибн Али была отослана в Дамаск… Мученическая кончина способствовала появлению множества преданий о Зайде ибн Али и распространению его учения, разнообразные аспекты которого и рассматриваются в данной книге.
«Как и ранние хариджиты, Зайд обращался к проработке категории «способность к действию» (’истит̣а̄ʻа) вне ее связи с онтологией времени. ’Истит̣а̄ʻа, верит зайдитский лидер, является неотъемлемым атрибутом человеческой самости — «сердца». Абсолютно свободный человек творит свое действование в соответствии с собственными же выбором и могуществом, без принуждения к тому со стороны Творца или твари. Вопреки У. Маделунгу, неоднократно заявлявшему о неаутентичности corpus texti Зайда на основании противоречия, якобы существующего между содержанием трактатов имама и отдельными пассажами его «фаталистически-ориентированного» «Толкования…», мы находим в последнем заключение об автономности человеческого деяния, ежедневно «восходящего» к Богу через одни из двух небесных врат…»
Ирина Дружаева. Хозяйка Спасского озера. Заволжские сказки
Лесным Заволжьем называется регион, расположенный на левом берегу Волги от Нижнего Новгорода до Костромской области и Республики Марий Эл. Этот край связан со многими важными событиями отечественной истории и знаменит многообразным фольклором. В этом красочном издании с иллюстрациями Марины Дамбиевой собраны сказки разных народов, живущих здесь, — русских, марийцев, мордвы, татар. Эти сказки автор книги слышала в детстве от своей бабушки, других жителей городецких и керженецких деревень.
Сказка, давшая название всей книге, повествует о том, как в древнем Городце, в нижней его части, жил парнишка по имени Акимка Сомов. Он рано остался сиротой, жил один, круглый год рыбачил. А с наружностью ему не повезло, некрасив был, девушки совсем не обращали на него внимания. В Нижнем Городце весной Волга разливается так, что по улицам можно передвигаться только на лодках. Дом Акимки стоял у самой воды, у протоки, называемой Щучья воложка, и в каждое половодье вода по окна поднималась. Но поскольку у Акимки не имелось никакой скотины или птицы, то особого урона в том не было, а сам он на чердаке это время пережидал. Зато рыбачить было удобно, щук без всякой снасти ловить получалось у самого дома. Однажды Акимка увидел огромную щуку, которая на самом деле оказалась русалкой. И вот ей-то неказистый Акимка очень даже приглянулся…
«А щуки прямо по ногам хвостами бьют. Голыми руками поймал парочку, в мешок засунул, хотел в избу вернуться. Но тут перед глазами в воде такая рыбина показалась, что парень мешок со щуками в воду выронил.
«Вот это рыба – на удивление. Белорыбица, осётр крупный?»
Стоит Акимка в воде, гадает, что за чудо только что увидал. А его словно за ноги кто схватил. Парень вскрикнул и в воду упал на рыбину огромную. А чудище речное с перепугу в открытую дверь затопленной избы бросилось. Акимка – следом кинулся. Да дверь-то и прикрыл.
— Ну, теперь поймаю, никуда не денешься. Будет чем перед соседями похвастаться.
Вглядывается парень в воду в полутемной избенке, ищет свою добычу».