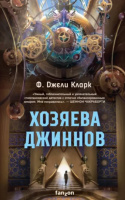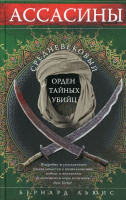Каждый месяц Алекс Громов рассказывает о 9 книгах
Арчибальд остановился передохнуть у гигантской реплики медного чайника с изогнутым, будто клюв, носиком, опустил свою ношу. Это безобразие, что человек его лет, доживший до шестидесяти и одного в этом 1912 году, вынужден подвергаться подобным унижениям. Ему бы проводить ночь с крепким напитком, а не рысить вверх по дурацким ступеням!
– Все для короля, страны и компании, – пробормотал он.
Утирая со лба пот, Портендорф мечтал дотянуться до сырости на спине и других неприличных мест, к счастью, скрытых темным костюмом. Для ноября было тепло, и в этих перегретых землях казалось, что его тело уже не знало, как не потеть. Арчибальд со вздохом обратил усталые глаза к арочному окну. В этот час он все еще мог различить пологие силуэты пирамид, их камни сияли под светом полной луны, повисшей в черном небе.
Египет. Таинственная жемчужина Востока, земля фараонов, легендарных мамлюков и бесчисленных чудес. Десять долгих лет Арчибальд проводил три, четыре, даже шесть месяцев кряду в этой стране. И в одном он был совершенно уверен – с него достаточно.
Портендорф устал от этого ужасающе жаркого, сухого места. Тридцать лет назад страна созрела, чтобы стать еще одним завоеванием Империи Ее Величества. Сейчас Египет превратился в одну из великих держав, а Каир быстро превосходил Лондон, даже Париж. Местные горделиво вышагивали по улицам – насмешливо называя Англию «серым островком». Их еда расстраивала его желудок. Их молитвы разносились днем и ночью. И они наслаждались, прикидываясь, что не понимают английский, когда он знал, что они все прекрасно понимают!»
Ф. Джели Кларк. Хозяева джиннов. Роман, новеллы
Смесь фэнтези и стимпанка в восточном антураже. Начало ХХ века, но колониальное устройство мира уже рухнуло — когда некий гениальный мудрец-мистик аль-Джахиз сумел пустить в обычную реальность множество волшебных созданий, которые до того водились лишь в сказках и легендах. И не просто пустить, но и подчинить их людям. Так и кончилось владычество белых людей с их техникой, ведь никакие паровые машины и двигатели не сравнятся с мощью пароходов, паровозов и фабрик, движимых неутомимыми и не нуждающимися в запасах угля и воды магическими сущностями. Египет превратился в великую державу, а его столица Каир в огромный мегаполис.
Но как во всяком мегаполисе там есть темная сторона жизни. Наличие магии придает криминальной жизни особо красочные оттенки, значит, без специализированной полицейской структуры не обойтись. Именно там, в Министерстве алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей, и служит главная героиня по имени Фатима, которой выпало распутывать загадочное массовое убийство, необъяснимым образом связанное с именем того самого аль-Джахиза. Она действует вполне успешно, хотя расклад гендерных сил в повествовании — лучшие спецы Министерства только женщины, самая опасная городская банда тоже они, да плюс всякие актуальные нетрадиционности – вызывает подозрения, что автор то ли перебарщивает с пресловутой «повесткой», то ли напротив изящно над ней глумится.
«– Если громко стучать в ворота таких людей, они спускают своих псов, – сказал инспектор. – Давай поймаем самозванца. Если в деле замешан Уортингтон, человек, притворяющийся аль-Джахизом, скорее всего, окажется мелким мошенником. Или хуже того – театральным актером. Я умею раскалывать и тех и других. Они сдадут своего нанимателя.
Фатима посчитала, что это разумно. К воскресной ночи она была на взводе.
Следователь сидела в полицейском фургоне из кортежа громыхавших по улицам Каира машин. Хамид устроился прямо напротив в наглаженной министерской униформе – серебряные пуговицы сияли, а на штанах идеальные стрелки. Он выглядел иллюстрацией из учебного руководства – вплоть до красной фески. Единственной выбивавшейся деталью были его ботинки: черная армейская модель с толстой подошвой. Остальные трое мужчин в фургоне – все с широкими плечами и толстыми шеями – носили такие же.
Фатима подумывала надеть униформу. Около десяти секунд. Костюмы гораздо удобнее. Сегодня она выбрала угольно-серый: строгий, без обычного ее щегольства. Ну, помимо костяных пуговиц на пиджаке и жилете. И, возможно, кобальтовый галстук с мандариновыми полосками был слишком эффектным. Зато туфли обычного черного цвета, пусть и лаковые. Они предназначались для бега и прыжков. Она подготовилась. Просто со стилем».
На десятом, последнем месте, психопат и убийца Фармо Десятый. Последний экспонат лаборатории Министерства обороны Кархили. Полиморф и телепат. Принимает любой облик за пять-десять секунд. В основном пользуется образами друзей или подруг жертвы. Примерно двести смертей».
Андрей Земляной. Дом, что мы защищаем
Любой цивилизации нужен санитар, не перевязывающий раны и утирающий слезы, а наводящий ужас на мелких тайных злодеев и явных негодяев. Во многих фантастических романах таким героем становится выходец с малоизвестной (поскольку в данном контексте не применимо слово "захудалой") планетки, который спасает Императрицу (принцессу), женится на ней (причем – не корысти ради, а по взаимной любви) и начинает на досуге спасать Империю. Обязательно – лично и рискуя при этом драгоценной головой принца-консорта. В данном варианте герой, дабы навести межгалактический порядок и порвать как грелку негодяев, принимает на себя официальную главного Имперского палача, лично вершащего правосудие, при этом не слишком обращая внимания на трудности космической юриспруденции. В ходе своей непростой миссии герою приходится общаться и с богинями…
«А в общем и целом мой план был прост. Я собирался отобрать себе для дальнейшей жизни пару железок покруче, а остальное запечатать так, чтобы вся королевская рать обломала зубы.
И начал, естественно, с уничтожения портала-ключа. Рвануло, надо сказать, от души. Взрывчатки я не пожалел. Затем по внешнему периметру замка установил автоматические пушки и излучатели. Естественно, не своими руками, а с помощью монтажных роботов. Это все мне предоставила моя Джи, таскавшая оборудование и материалы прямо с центрального склада имперских ВКС.
В итоге замок, напоминавший архитектурой средневековый, злобно ощетинился стволами, а внутренность приобрела современную электронную начинку.
Ресурса линейки спин-реакторов должно было хватить на пару тысяч лет, а пределов надежности электронного оборудования и вооружения я просто не знал. Просто надеялся, что хваленая гатрийская сверхнадежность не была блефом.
В общем, когда дней через пять я осмотрел все сделанное, то был вполне доволен. Магия магией, а пушки – они и колдуна в клочья порвут.
С утра следующего дня я спустился в подвал, где находился склад артефактов.
Назначение большинства предметов было мне абсолютно неведомо. Но, памятуя о том, что захватили их в ходе боевых действий, я не без основания полагал, что назначение это – война».
В современных обстоятельствах пригодное к угону транспортное средство, не защищенное добрым десятком смертоносных заклятий… — большая редкость».
Ярослав Коваль. Техномагия
Что случится, если в мир вернется настоящая магия? Когда-то энергетическая основа мира была основательно "сокрыта". Но потом была снята печать (причем находившаяся не где-нибудь, а в нашей Карелии), у многих людей появились чудо-способности, и они стали их активно использовать. Начались войны чародеев и как следствие – анархия. Тогда один из магов (и по совместительству – полковник ФСБ) принялся жестко наводить порядок – при помощи магии…
У него появились последователи – так и возникла ОСН, Организация Специального Назначения. Но в ответ под руководством "злых волшебников" стали возникать Ордена и Гильдии. Но ОСН открыла путь в иные миры и внеземляне стали курсантами, будущими воинами — ведь они никогда не станут служить местным магическим Орденам.
У Организации есть не только тайные базы, но свои дома в Петербурге, где живут их сотрудники. И вот однажды возле своего дома молодой человек из Организации защитил от убийц молодую девушку, состоявшую когда-то в одном из Орденов. Но действительно ли она, обладающая уникальными способностями оператора информации, сможет помочь Организации в борьбе с несанкцироваными магами? Но это только начало приключений и встреч с неведомым, в том числе и из других миров. Борьба за власть (энергию, ресурсы) продолжается. Люди остаются людьми. Во всех смыслах. Кстати – успешно выживших персонажей оказались и те, занимался исторической реконструкцией. Тем более, что они объединились, чтобы вместе выжить.
«Я использовала иллюзии для того, чтобы помешать им напасть на меня. По возможности отвлечь. Как я понимаю, иллюзия нахлынувшей вводы оказалась слишком убедительной, и четверо из бойцов, поверив, захлебнулись…
Они поверили, что воды была. Сознание, которое было в этом уверено, в результате оказалось сильнее тела и убило его потому, что гибель ему показалось неизбежной…
Хорошая иллюзия – страшное оружие. Если под ногами у человека разверзается иллюзорная пропасть, он либо погибнет от разрыва сердца в процессе "падения", либо от черепно-мозговой травмы в самом конце. Или шею сломает».
Они прошли в широкую, переливающуюся серебристыми искрами каменную арку и внезапно оказались в небольшом круглом зальчике с гладким, как стекло, мерцающим тусклыми жёлтыми и зелёными огнями и оттого будто бы мозаичным полом. Как ни странно, здесь совсем не чувствовалось холода; воздух был сухим и тёплым, как в метро — не живым, но и не мёртвым, и слабо пах морской солью. Сухое тепло распространялось из тёмных стенных ниш, прикрытых местами хитросплетениями толстых, похожих на гигантские серые канаты лиан, которые тянулись с далёкого потолка и временами начинали извиваться в воздухе, как живые. Золотисто-белый свет вокруг был странно похож на дневной, но это светились сами камни, части стен и высоких неровных сводов.
Посреди зала неуверенно переминалось с ноги на ногу странное существо, больше всего похожее на гигантскую чёрную обезьяну с волчьей головой.
— Это Тим, — сказала существу донья Милис. — Твой новый соратник из внешнего мира.
«Вот тут бы мне проснуться», — подумал Тим. Его отчего-то кольнула смутная тревога».
Свенья Ларк. Враг един
Что будет, если браслеты, случайно купленные в подарок подруге, вдруг очень не захочется отдавать? Ну в самом деле, можно хотя бы померить эти тонкие обручи из металла, похожего на золото?.. Героиня этого романа так и поступает. Конечно, она понятия не имеет, что примерно в то же самое время подросток-сирота, тоже случайно, находит письмо, отправленное отцом из последней командировки и так никем и не прочитанное. Из конверта выпадают два браслета – сувенир, как написано на экзотической открытке, подарок для матери мальчика. Может, если надеть браслеты, погибших родителей получится хотя бы во сне увидеть?
…Давным-давно на Земле появились они. Представители высокоразвитой цивилизации, чья родная планета израсходовала свои ресурсы. Но по отношению к новой родине пришельцы разделились. Одни были благодарны за приют, другие восприняли Землю как захваченную добычу. И началась битва, которая то затихая, то вспыхивая, длится уже много веков. Надевший браслеты становится одним из них. А на чьей стороне – зависит от душевного состояния в момент превращения.
Это обстоятельство добавляет закрученному фантастическому сюжету психологической глубины и сложности, заставляя читателя задуматься. В самом деле, так ли велика заслуга быть довольной жизнью, если у тебя всё хорошо и с родителями, и с друзьями? А несчастный осиротевший мальчик, которого обижает злая тетка и травят в школе, неужели он настолько виноват в своем тоскливом настроении? Сложно сказать… Недаром Петербург, город Достоевского, полный загадок и смыслов, так часто становится местом действия и фоном повествования.
«Сумерки постепенно делались всё гуще, укрывая блестящую от луж улицу тонким покрывалом, которое у самой земли ловили и держали на себе цветные огоньки высоких изогнутых фонарей и автомобильных фар. Они перешли через узкий пешеходный мостик с ажурными перилами, который с двух сторон охраняли фигуры гигантских чёрных грифонов с мощными лапами и словно бы светящимися, переливающимися в тусклом вечернем свете позолоченными крыльями. Верена поймала себя на мысли о том, что, если она сейчас вдруг увидит, как все четыре крылатых силуэта разом отрываются от земли и стремительно взмывают в небо, она, наверное, почти не удивится этому.
— …а тули-па между тем вовсе не дураки, знаешь ли, — задумчиво продолжала Пуля, неторопливо шагая по звонким тротуарным плиткам. — Они предлагают лишь то, чего человеку больше всего не хватает, когда ему страшно или плохо… когда он ослаб, когда опустил забрало. Ничего не требуют… Сначала. Сперва. То есть даже не предлагают, нет. Как можно предлагать человеку самое себя? Может быть, просто показывают. Показывают одну из дорог. Может быть, приглашают.
— Приглашают воевать против человечества? — недоверчиво спросила Верена.
— Ты знаешь, существует одна такая история, — задумчиво сказала Пуля. — Может быть, она тебе даже знакома. Про человека, который жил в этом вот городе, — как раз, кстати, где-то здесь недалеко и жил, где мы с тобой сейчас идём… И этот человек всех окружающих пытался делить на дрожащих тварей и на имеющих право убивать. Так вот, понимаешь ли, тули-па считают себя такими имеющими право. Они не относят себя к человечеству. Оттого и действительно перестают быть людьми иногда — иногда даже в прямом смысле слова, физически».
Бернард Льюис. Ассасины. Средневековый орден тайных убийц
Об ассасинах в Европе узнали во времена крестоносцев. Но вряд ли сейчас возможно реконструировать реальные представления (и тем более – взаимоотношения) европейских королей, пап, герцогов и баронов, епископов и купцов о вождях Аламута и их приверженцах. До наших дней дошли лишь легенды и предания, ужасающие истории о тайных убийствах и не менее шокирующих переговорах. Всплеск интереса европейцев к ассасинам возник после того, как вышла и стала популярной книга Марко Поло, побывавший в 1273 году в Аламуте (где уже полтора десятилетия не было асссасинов). 15 декабря 1256 года Аламут был осажден монголами, а спустя 4 дня сдался. Присутствовавший в монгольском войске ученый и историк Ата Малик Джувейни разбирал и сохранял найденные в залах Аламута рукописи. Часть их была уничтожена.
После падения Аламута уже несколько веков бродят преданиях о чудесных механизмах, которые искусные мастера делали по распоряжениям Старцев Горы, и спрятанных сокровищах. Но эти самые предания были популярны далеко за окрестностями Аламута (да и всей Персии), а местные жители занимались своим делами и не интересовались легендарными слухами, не приносящими им никакой конкретной выгоды (не считая позже возникшей тяжелой работы на раскопках).
Ситуация поменялась лишь в XX столетии, когда в Иране местные ученые стали проводить археологические раскопки, финансируемые государством. Реза-шах были заинтересован в создании истории великого прошлого Ирана. При помощи государственного финансирования руководство Тегеранского университета в 1937 году открыло кафедру археологии, стали публиковаться научные работы по изучению многих археологических памятников (Тахте-Джамшид, Пасаргады, Накше-Ростам). Производились раскопки Аламута, но никаких упоминаний о найденных старинных тайниках с необычными и ценными находками опубликовано не было.
Но в многочисленных повестях, романах, рассказах, в радиоспектаклях (а позднее – в фильмах и компьютерных играх) появились ассасины и Аламут. Так в 1918 году известный американский историк, сценарист, романист и писатель, популяризатор истории Гарольд Альберт Лэмб, окончивший Колумбийский университет (изучал историю народов Азии), владевший арабским и персидскими языками, написал для популярного журнале «Adventure» рассказ «Аламут».
Главным героем этого и многих других рассказов был странствующий казак Клит, отправившийся на поиски приключений и чтобы увидеть разные места. Он побывал в Самарканде и Тибете, Кашмире и Китае. Время действия — правление Бориса Годунова. В рассказе «Аламут» Клит посещает Персию и крепость ассасинов, но к реальным ассасинам это не имеет значения.
Лэмб был любимым писателем Роберта Говарда, создателя Конана, ставшего одним из самых популярных героев жанра фэнтези. Говард, явно вдохновившись названными выше сюжетами, в некоторых собственных сочинениях описывал приключения казаков. Более того – одно время и сам Конан был причислен к ним. Но наиболее известный роман Говарда на «казацкую» тему – «Тень стервятника» с героиней Соней из Рогатино, воинственной казачкой, отличившейся в первой Венской битве. Потом стараниями Роя Томаса она превратилась Рыжую Соню из комиксов и одноименного фильма.
Мир, созданный Говардом, во многом имеет черты Центральной Азии и Персии в том числе. Царь Йездигерд, один из противников Конана, носит реальное имя персидских владык. Тайным и могущественным орденам там тоже нашлось место.
«Много подробных исследований было проведено учеными в разных уголках мира, включая тех, кто сами являлись исмаилитами. В одном отношении обретение утраченной литературы этой секты принесло некоторое разочарование — в части истории. Обнаруженные книги затрагивают почти исключительно религию и связанные с ней вопросы; труды исторического характера малочисленны и бедны по своему содержанию, что, наверное, неизбежно в малочисленной общине, у которой не было ни территориального, ни организационного центра; лишь о нем средневековый исследователь и мог задумать написать историю. Только в княжестве Аламут, по-видимому, были свои летописи, но даже их писали историки-сунниты, а не исмаилиты. Но литература исмаилитов хоть и бедна историческим содержанием, ни в коем случае не лишена своей исторической ценности. Ее вклад в повествовательность событий невелик: кое-что об ассасинах Персии, значительно меньше об их собратьях в Сирии. Однако она является неизмеримым вкладом в лучшее понимание религиозных истоков этого движения и дает возможность заново оценить верования и цели, религиозное и историческое значение исмаилитов в исламе и ассасинов как ветви исмаилитов. Итоговый портрет ассасинов радикально отличается и от зловещих слухов и выдумок, привезенных с Востока средневековыми путешественниками, и от враждебного и искаженного образа, нарисованного востоковедами XIX века по рукописным произведениям ортодоксальных мусульманских богословов и историков, главной задачей которых было опровергать и осуждать, а не понимать или объяснять. Ассасины уже не выглядят бандой наркотизированных жертв обмана, возглавляемых интриганами-самозванцами, заговорщиками и отвергающими моральные принципы террористами или группой профессиональных убийц, но от этого они не становятся менее интересны».
Дож Венеции, которого звали Энрико Дандоло и который был человеком весьма мудрым и доблестным, принял их с большим почетом — и сам он, и другие люди; и все встретили их очень хорошо. И когда они предъявили грамоты своих сеньоров, венецианцам было очень любопытно узнать, для какого дела они прибыли в их землю. То были верительные грамоты, и графы писали, чтобы их послам верили бы, словно лично им самим, и что они, графы, примут все условия, что эти шестеро учинят.
И дож ответил им: «Господа, я ознакомился с вашими грамотами. Мы удостоверились в том, что сеньоры ваши являются самыми знатными лицами из тех, кто не носит короны. И они просят нас доверять вам во всем, что бы вы нам ни сказали, и считать прочным все, что вы учините. Говорите же, что вам угодно».
И послы ответили: «Государь, мы желаем, чтобы вы созвали свой совет; и перед вашим советом мы скажем вам, о чем просят вас наши сеньоры, завтра, коли вам угодно» И дож ответил им, что он просит у них отсрочки до четвертого дня, и что тогда он соберет свой совет, и что они смогут сказать, чего хотят.
Они переждали до четвертого дня, который он им установил. Они вошли во дворец, который был весьма богат и прекрасен, и нашли дожа и его совет собравшимися в особом покое и изложили данное им поручение таким образом: «Государь, мы прибыли к тебе от знатных баронов Франции, которые приняли крест, чтобы отмстить за поругание, учиненное над Иисусом Христом, и отвоевать Иерусалим, если соблаговолит то Бог. И поелику они знают, что никакой другой народ не имеет столь великого могущества, как вы и ваш народ, чтобы оказать им содействие, то они просят вас, во имя Бога, чтобы вы сжалились над Заморской землею и отомстили за поругание над Иисусом Христом и чтобы вы решили, как они смогли бы получить у вас суда и корабли для перевоза».
Жоффруа Виллардуэн. Завоевание Константинополя
Книга открывает научно-популярную серию «Эпоха Средневековья», рассказывающая о различных аспектах средневековой жизни. Авторы серии — известные историки, раскрывающие читателям детали ушедшей эпохи, а тексты снабжены подробными комментариями и справочным аппаратом.
Жоффруа де Виллардуэн – один из вождей Четвертого крестового похода, во время которого крестоносцы для похода в Египет наняли корабли у Венеции, потребовавшей от них в оплату огромной суммы в серебре. Венецианцы уговорили крестоносцев захватить город Задар на побережье Адриатики, а затем вмешаться в борьбу за императорский трон в Константинополе.
Сын свергнутого византийского императора Исаака II Ангела – Алексей, обещал крестоносцам щедрое вознаграждение, если они вернут трон его отцу. В походе крестоносцев на Константинополь были заинтересованы венецианцы – Византия была их конкурентом. Крестоносцы подошли к Константинополю, император Алексей III бежал, власть была возращена прежнему «законному» императору, но крестоносцы настояли, чтобы он правил вместе с сыном, который обещал им вознаграждение, но не смог выплатить обещанное. В городе назревал мятеж и призвавший крестоносцев Алексей снова обратился к ним за помощью. Начался бунт, и воспользовавшись благоприятной для них ситуаций, крестоносцы взяли Константинополь штурмом.
Жоффруа де Виллардуэн, оценивая успешный штурм Константинополя, участником которого он был, поражался тому, что такой огромный и прекрасно укрепленный город удалось взять относительно небольшому войску.
В данном издании приведен не только текст самого Жоффруа де Виллардуэн, но и обстоятельные приложения. В первом из них приводятся библиографические сведения об авторе, во втором дается анализ его труда как источника сведений о Четвертом крестовом походе, приобретшем славу скандального; далее следует анализ воззрений Жоффруа де Виллардуэн (историк и рыцарский эпос»); затем – «Исторические воззрения, их двойственность». Следующее – «Рыцарский кодекс и его отражение в Хронике», «отступления от правды» и обширные примечания, органически дополняющие сам текст.
«Новый император часто навещал баронов в лагере; и он выказывал им великие почести, самые большие, какие только мог выказать; и, конечно, он должен был так поступать, ибо они ведь сослужили ему весьма добрую службу. И вот однажды он явился один повидать баронов в доме Бодуэна, графа Фландрии и Эно. Туда позвали частным же образом дожа Венеции и знатных баронов. И он молвил им слово и сказал им: «Сеньоры, я стал императором благодаря Богу и благодаря вам; и вы сослужили мне самую большую службу, какую когда-либо предоставляли христианину. Так знайте, что многие делают вид, что благоволят ко мне, а на самом деле вовсе меня не любят; и что греки весьма раздражены тем, что я вашими силами восстановлен в своем наследии. Близок срок, когда вы должны уехать; а ваш уговор с венецианцами продлится лишь до праздника св. Михаила. В такой короткий срок я не могу исполнить своих обязательств по отношению к вам. Знайте, коль скоро вы меня покинете, что греки ненавидят меня из-за вас; я потеряю свою землю, и они меня убьют. Сделайте же то, что я вам сейчас скажу: если вы останетесь до марта, тогда я обеспечу вам ваш флот еще на год начиная с праздника св. Михаила, и я оплачу венецианцам расходы, и я выдам вам все, что будет надобно вам, до Пасхи. А за это время я сумею так укрепиться в моей земле, что уже не потеряю ее; и мои обязательства вам тоже будут исполнены, ибо я получу деньги, которые притекут ко мне со всех моих земель; и у меня будут тогда корабли, чтобы плыть с вами или чтобы послать их с вами так, как я это обещал. И тогда у вас будет целое лето, с начала до конца, чтобы воевать».
Бароны сказали, что они поговорят об этом без него. Они хорошо понимали, что то, что он говорил, — правда и что это было бы лучше всего и для императора, и для них самих. И они ответили, что могут сделать это только с согласия всей рати, и что они потолкуют об этом со всеми ратниками, и что известят императора о том, что смогут узнать Итак, император Алексей покинул их и возвратился обратно в Константинополь. А они остались в лагере и на следующий день держали совет, куда собрали всех баронов и всех командиров войска, и большую часть рыцарей. И тогда всем были поведаны эти слова императора».
В Средние века считалось, что монета, к которой прикасалась рука святого человека, исцеляет любую болезнь. А европейские монархи из серебряных монет с изображением ангела мастерили себе амулеты, которые потом, не снимая, носили всю жизнь в надежде избежать злого рока.
Деньги являлись неотъемлемым атрибутом и в сношениях с потусторонним миром. Древние греки, к примеру, считали, что пропуск в загробный мир не может быть бесплатным. Своим умершим они клали в рот мелкие серебряные монеты. И свято верили, что этой платы будет достаточно, чтобы душа несчастного была перевезена мрачным паромщиком Хароном через Стикс — реку мертвых. Нечто подобное наблюдается и в некоторых обрядах современности. Например, китайцы, прощаясь со своими умершими, сжигают специально предназначенные для этого ритуала купюры, так называемые деньги мертвых. Они должны способствовать безбедному существованию души в ином мире. С середины XX в. качество этих «денег» немногим уступает настоящим, а по художественному оформлению нередко и превосходит находящиеся в обращении официальные бумажные ассигнации. И в этом нет ничего удивительного. На «пополнение счетов» в банках загробного мира работает целая индустрия. Часто лицевую сторону таких бумажных денег украшает изображение повелителя царства тьмы (рис. 1), в то время как на оборотной стороне можно видеть его богатый дворец (рис. 2). Кстати, шагая в ногу со временем, китайцы для своих покойников уже даже начали выпускать чековые книжки и пластиковые карточки».
Рольф Майзингер. История банкнот: тайны бумажных денег
Бумажные деньги существуют на Земле несколько веков. Люди настолько привыкли к их существованию, что порой не обращают внимания на помещенные на них изображения. А зря! На многих банкнотах размещены удивительные изображения: легендарные храмы и мифические животные, полководцы и мудрецы Древности, величественные памятники современной архитектуры и прославленные ученые. Деньги давным-давно стали спутником человека, причем перешагнув вместе с ним за грань смерти. Столетия назад китайцы ввели в обиход обряд сожжения ненастоящих денег на похоронах, в результате чего возникла целая ритуальная денежная индустрия: «В Китае «деньги мертвых» вместе с другими подарками для душ усопших можно купить в обычных магазинах… Китай также является и единственным в мире экспортером этой продукции, которая пользуется особым спросом в Сингапуре, на Тайване, в Малайзии и США». Великолепное иллюстрированное издание рассказывает о банкнотах, на которых изброжены первооткрыватели Америки и пропавший флот Александра Македонского, могущих зверях и экзотике коралловых рифов.
«Омываемый волнами Индийского океана Маврикий можно сравнить с чудесным островом из русской сказки «Аленький цветочек». Как в волшебной сказке, на нем произрастают удивительные растения, порхают необыкновенной красоты бабочки и чудные птицы. И множество диковинных зверей чувствует себя там как дома….
На Маврикии до сих пор бытуют легенды о пиратском прошлом острова. О тех морских разбойниках, которые приплывали сюда, чтобы зарыть на острове награбленные на бескрайних морских просторах сокровища. Кстати, корсары в свое время действительно использовали Маврикий в качестве перевалочного пункта. Здесь им не нужно было бояться служителей закона. Достаточно вспомнить знаменитого флибустьера Роберта Сюркуфа, который со временем может превратиться в национального героя острова. Что же касается гор, овеянных легендами, то кто знает, может быть, в глубинах их удивительных формаций и вправду захоронены несметные богатства. Причудливые силуэты гор Маврикия помещены на боне в 500 рупий, которая находилась в обращении с 1988 г.
Многие жители Маврикия убеждены, что где-то на их острове захоронены пиратские клады с несметными богатствами. Мало того, один из ярых кладоискателей острова некто Филипп Шеро де Монтелю утверждает, что даже знает наверняка, где они спрятаны. Поискам одного такого легендарного клада Филипп посвятил всю жизнь и потратил на это почти все свои деньги. Но пока его усилия оказались напрасными. Сокровищ он так и не нашел. Впрочем, несмотря на свой преклонный возраст, Филипп продолжает поиски. Ибо он уверен, что в давние времена у берегов Маврикия пираты взяли на абордаж английское судно, на борту которого были фантастические сокровища. В трюмах корабля англичане перевозили бриллианты и 750 тыс. золотых дублонов. Камни и золото флибустьеры укрыли в пещере. По версии Филиппа, она может находиться где-то у самой воды, скрытая от посторонних глаз в прибрежных скалах. И кто знает, может быть, рассматривая оборотную сторону боны в 5 рупий 1967 г., мы невольно скользим взглядом по тому самому месту, где когда-то был зарыт и по-прежнему покоится пиратский клад…»
Творчество Шахрияра пронизано гуманизмом, призывами оставаться верными вечным нравственным ценностям. Мир, согласие и взаимопонимание – вот те понятия, которые наиболее значимы для него. Многие произведения Шахрияра являлись реакцией на мировые события… Поэма Шахрияра «Герои Сталинграда» была опубликована отдельным изданием с предисловием Али Шаханде в 1946 г. Она состоит из 41 строфы по семь строк в каждой. Строфа представляет собой сочетание шести строк, объединённых тройной рифмой (чётные строки), и седьмой строки со сквозной рифмой по всей поэме».
Сейед Мохаммад Хосейн Табризи (Шахрияр). Герои Сталинграда
17 июля 2022 года исполняется 80 лет со дня начала Сталинградской битвы. Это грандиозное сражение предопределило ход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. После тяжелого первого года противостояния и неудачной попытки наступления в начале 1942 года Красной армии удалось остановить в Сталинграде войска Германии и ее союзников и полностью разгромить группировку противника.
По окончании Второй мировой войны знаменитый иранский поэт Сейед Мохаммад Хосейн Табризи, писавший под псевдонимом Шахрияр, опубликовал поэму «Герои Сталинграда». В этом произведении он сумел органично соединить описание недавних на тот момент событий и образы, традиционные для персидской классической поэзии. Зарождение нацизма в Германии поэт считает наущением Ахримана, воплощения зла из древних легенд. Начавшуюся в Европе войну символизирует зловещий и хищный дракон, пожирающий одну страну за другой. А Советский Союз описан в поэме как страна тружеников, вставших на защиту родной земли и своих близких, и проявивших героизм, достойный величайших витязей легендарных времен.
«Он возвестил Священную войну:
«Всемирных битв великие сыны,
Идёт война, в которой свет и тьма –
Добро и Зло – к черте приведены!
Набатом неба я сзываю вас,
За мной победы стяги уж видны!»
И этот клич клинком вонзился в нас…
Был голос этот воинам знаком –
Как будто сам Симург давал наказ.
Тогда мужи и жёны, стар и млад
Врагу навстречу встали в этот час.
Стал голос этот каждому знаком –
Он в битву за Отчизну вывел нас.
И на пути во тьме звезда зажглась…»
«Сезон» в городе приходится на зиму. После Пасхи начинается постепенный разъезд аристократов и грюндеров на курорты Германии, в Париж и на Лазурный берег, в имения. Обремененные семействами чиновники снимают дачи в ближайших окрестностях: от дорогого Павловска (где живут Епанчины из «Идиота») до демократичных Колтовской или Парголова (там снимали комнаты летом братья Достоевские).
После майского парада на Марсовом поле в Красносельские лагеря уходит гвардия, двор перебирается в Петергоф. Легко доставшиеся «бешеные» деньги так же быстро спускаются в «загородных садах» – ресторанах на открытом воздухе – под шансонетки Оффенбаха и цыганские хоры. В многочисленных танцклассах царствует канкан. Петербург наводнен кокотками со всей Европы, и в белые ночи на Острова, в тамошние модные рестораны, летят тройки лихачей.
В Петербурге остаются ремесленники, бедняки – те, кому, как героям «Преступления и наказания», ехать некуда. В это время десятки тысяч объединенных в артели и одиночных рабочих: каменщиков, плотников, столяров, штукатуров, мостовщиков – выходят на Знаменскую площадь (ныне – площадь Восстания) с дебаркадера Николаевского (ныне – Московского), Варшавского и Петергофского (переименованного в Балтийский) вокзалов. Начинается время строительства домов и исправления мостовых. «…Петербург превращается в огромную мастерскую, заботливо поправляющую свою физиономию… все покойно киснущие в продолжение зимы источники вони и удушливых испарений наполняют город и заставляют всех сколько-нибудь состоятельных обитателей столицы выезжать в ее окрестности с единственной целью скрыться от растревоженной духоты, а вследствие того и от заразы», – писал тогдашний газетный репортер. В этой пропитанной миазмами атмосфере летнего Петербурга существуют герои «Белых ночей», «Идиота», «Преступления и наказания».
А осенью снова съезжаются в город его постоянные обитатели, ломовые извозчики перевозят на новые квартиры мебель. Начинаются представления в театрах, кишат по двадцатым числам (день получения жалования чиновниками) посетителями трактиры и кафе-рестораны. Роскошные кареты дефилируют по Большой Морской, а Невский заполняется публикой самого разного рода».
Лев Лурье. Петербург Достоевского Исторический путеводитель
Книга подробно и увлекательно рассказывает не только о столице Российской империи на протяжении немногим менее полувека (между 1837 и 1881 годами), об его улицах, площадях, памятниках и зданиях, жителях и их занятиях, но и о тех петербургских местах, в которых обитали герои произведений Достоевского.
Герои романов Достоевского, как он описывает подробности их жизни, обитали по определенным петербургским адресам, ходили по реально существующим городским улицам. Сам исторический путеводитель состоит из 5 маршрутов, по каждому из которых пройтись в наше время. Итак, колоннада Исаакиевского собора. «К югу от собора – Петербург Достоевского. Практически всю свою жизнь он прожил в треугольнике, вершины которого – колоннада, на которой мы находимся, и видимые с нее две высотные доминанты – колокольни соборов Владимирской иконы Божией Матери и Троице-Измайловского. Застройка здесь особенно густа, а население скучено». Среди многих упоминаемых в издании писателей — и Лев Николаевич Толстой, который во время ареста Достоевского по делу петрашевцев являлся бывшим студентом, исключенным из Казанского университета «за не успешность», и проживавшим в санкт-петербургской гостинице с раздумьями о своей грядущей судьбе.
Другая история — о родах Нарышкиных и Мятлевых. Приятель Пушкина, камергер и хозяин светского салона, ценитель итальянских редкостей, богач и сибарит Иван Петрович Мятлев вошёл историю Отечественной литературы как основоположник специального жанра, предназначенного скорее для устного исполнения, нежели для чтения.
В своём самом известном произведении — поэме «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л’этранже» — Мятлев дал шутливое и забавное – описание европейских приключений обычной тамбовской помещицы, которая она сама в стихах рассказывает.
В тексте рассказывается об императорских дворцах и здании Кунсткамеры, особняках и домах, в которых обитали простые петербуржцы и приезжие.
«Императора Павла I называют «русским Гамлетом». Его мать, Екатерина II, вступила на престол, свергнув мужа, Петра III – отца Павла. Вскоре, не без ее участия, Петра III убили. Отношения Павла с матерью всегда были напряженными. Она отняла у него старших сыновей, своих внуков, Александра и Константина, и воспитывала их сама. Ходили слухи, что своим наследником, минуя Павла, она объявит Александра.
Внезапная смерть Екатерины сделала Павла императором. Все в его короткое царствование было перевернуто с ног на голову: екатерининские вельможи находились в глухой опале, установления императрицы пересматривались, сам уклад материнского царствования был невыносим ее сыну. Он не хотел жить и в ее резиденции – Зимнем дворце – и повелел построить новую, на месте пришедшего в ветхость деревянного дворца императрицы Елизаветы.
«Романтический наш император» (как писал А. Пушкин) распорядился возвести посреди Петербурга рыцарский замок. Павел бредил средневековьем. Известен его проект заменить войны турнирами владетельных особ враждующих держав. Православный человек, семьянин и отец, он сделался гроссмейстером католического мальтийского ордена, предполагающего безбрачие.
За три года (1797–1800) архитектор В. Бренна возвел на острове между Фонтанкой, Мойкой и двумя специально прорытыми каналами (засыпаны в 1820 году) новую императорскую резиденцию. По имени апостола Михаила, которого Павел считал своим небесным покровителем, замок назвали Михайловским.
Здание, квадратное в плане, с внутренним восьмиугольным двором, имеет сложные по конфигурации внутренние помещения (круглые, овальные, многоугольные, прямоугольные, с нишами). Боковые фасады снабжены закругленными выступами. В одном из них, выходящем на Садовую улицу, помещалась Михайловская церковь, в другом, на Фонтанку, – Овальный зал.
Замок имеет два равнозначимых фасада: один в сторону Липовой аллеи с въездом во внутренний двор, другой в сторону Летнего сада с обширной террасой-балконом. Красно-розовая окраска замка выбрана галантным императором по цвету перчатки его фаворитки А. Гагариной. Саксонский посланник при русском дворе К. Розенцвейг писал: «У дворца имя архангела и краски любовницы».