Трудно писать рецензии на классику, вдвойне труднее предложить читателю сего что-либо новое. Но я всё же попытаюсь.
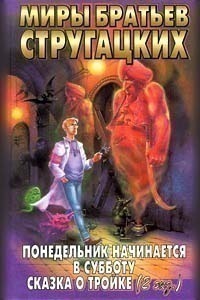 |
|
Во-первых, строго говоря, никакой это не цикл: братья-соавторы нигде об этом не упоминали. Представление об этих двух (или трёх) произведениях как о цикле — это принятое в среде поклонников допущение, с закономерной лёгкостью подхваченное редакторами Фантлаба. Ну, что же, никто, думаю, не против, в данном случае сведение произведений в цикл удобно прежде всего читателю.
Во-вторых, произведений на самом деле два: «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о Тройке». И тут мы плавно переходим к нелёгкой судьбе второго из них. Если «Понедельник», который публиковаться начал ещё при Хрущёве, пошёл на ура и стал настольной книгой творческой и особенно научной интеллигенции, то «Сказка» стала книгой, если так можно выразиться, «подстольной», поскольку путь её к читателю пришёлся уже на эпоху застоя, а потому был долог и тернист.
Начало писательской карьеры для молодых братьев-авторов складывалось более чем удачно: они описывали свой светлый и многообещающий Мир Полудня, где хочется жить и работать, созидать, приносить пользу людям, обществу, человечеству, а не корпеть над благополучием, воздвигнутом в отдельно взятой квартире. Тут и оптимистический взгляд в будущее, и целеустремлённые герои, и вполне заслуженная премия за первую опубликованную книгу — повесть «Страна багровых туч». Отсюда и атмосфера, царящая на страницах «Понедельника» — лёгкая и позитивная, дружеская и располагающая к открытиям и свершениям. Молодые люди трудятся в Научно-исследовательском институте чародейства и волшебства. Даже неуместную в советской действительности магию они воспринимают в качестве научной дисциплины и успешно ставят на службу народному хозяйству. Любую, даже самую заковыристую проблему они решают с лёгкостью и изяществом, а отрицательные герои забавны, скорее даже беззлобны и в сравнении с будущими антагонистами из «Сказки» вызывают улыбку.
К концу 60-х ставшие уже видными писателями Стругацкие успели столкнуться с кадавром советской цензуры, немало копий сломали в ходе публикации «Полдня» и «Хищных вещей века». Поэтому и нарисованные в «Сказке о Тройке» картинки совсем не радуют. Безысходностью и серостью пропитаны страницы, на которых полюбившиеся читателю оптимистически настроенные и никогда не унывающие герои сражаются с серостью и бюрократизмом, с тупостью и мракобесием. И именно в этот момент «Тройка» раскладывается на два своих варианта.
Первый экземпляр — это изначальный вариант, который, несмотря на старания авторов, ни одно издательство принять к публикации не осмелилось. Относительная вольница хрущёвской оттепели сменилась беспросветным консерватизмом брежневского застоя. Критика в адрес любого и всякого, в том числе — и в адрес вышестоящих, которая раньше в разумных пределах даже поощрялась, теперь превратилась в одну видимость. И авторам пришлось переработать повесть до более удобоваримого варианта путём удаления многих сцен и персонажей. Однако и в таком виде повесть, будучи опубликована в журнале «Ангара», вызвала недовольство кого-то сверху. Главного редактора журнала уволили, а Стругацкие впали в опалу. Вплоть до того, что в последующие 70-е не смогли опубликовать почти ничего из своих новых произведений. «Сказка о Тройке» же продолжила своё путешествие к читателю через самиздат — отсюда и употреблённый мною ранее эпитет «подстольное» произведение, то есть подпольное.
Таким образом творческий и жизненный путь Стругацких в контексте данной книги можно рассматривать как типичный путь интеллигента-шестидесятника. С большими надеждами и частичными свершениями. С радужными ожиданиями и горестными разочарованиями. Тернистой дорожкой, неверные изгибы которой манят соблазном свернуть, бросить всё и зажить как все, без страданий и бессмысленных жертв. Ведь цена вопроса-то всего-ничего — всего лишь совесть. А что совесть? Поболит и успокоится, делов-то.
И тут мы плавно приближаемся к вопросу, финальному и главному: а нам-то это зачем? Ну, были времена, непростые и своеобразные. Сейчас всё по-другому, а описанное в книге — не более чем исторический анекдот, тоскливая классика в духе Салтыкова-Щедрина.
Однако, думается мне, история не только повторяется дважды. Но и, несмотря на другую набившую оскомину аксиому, всё же должна чему-то учить. Путь настоящего культурного человека во все времена был непрост. Извилист и неровен. Дабы не потеряться, нужно не только держаться путеводной звезды, но и иметь под рукой путеводитель. Такой, например, как «Понедельник» и «Сказка», читая которые узнаёшь, как выглядит настоящий интеллигентный человек. А периодическое перечитывание не даёт забыть, что такое серость и бескультурье.



 М.:
М.: 







