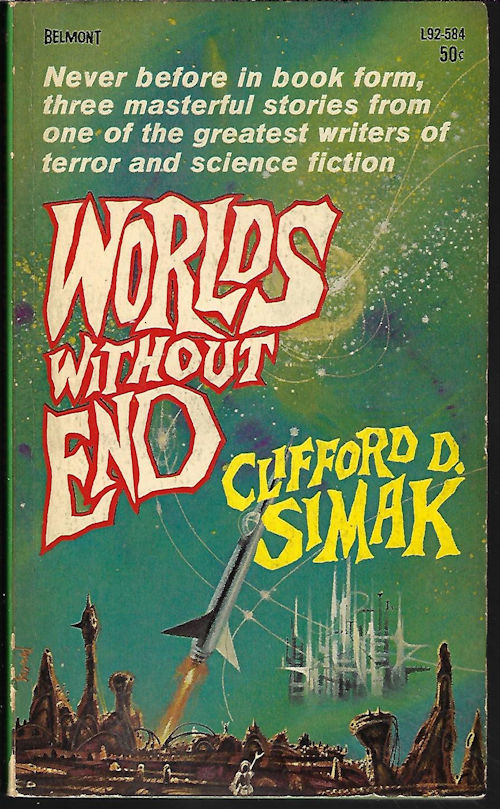В продолжение истории – просто три статьи, опубликованные в одном из номеров «NF» (1998, №3) как реакция (тут как бы не сказать «отповедь») на статью Дукая и, соответственно, буквально тезисные пометки на ту реакцию самого Дукая. (В скобках замечу, что вопросы почти всегда говорят о состоянии жанра даже больше, чем сам источник раздражения).
Петр Денбек
Магия фэнтези
В последнее время в «Новой Фантастике» появляются попытки анализировать фэнтези с помощью инструментария, выработанного для научной фантастики. По умолчанию принимается, что если уж фэнтези – тоже фантастика, то в ней должны действовать те самые правила, что и в соседней НФ.
Клиническим примером является Яцек Дукай («Filozofia fantasy», «NF» №8-9/97), которому магия в фэнтези «подрывает основы», а потому пытается он спасать рушащееся здание, проводя информационный анализ заклинания иллюзии. Основой для его размышлений о «модификации в реальном времени» становится молчаливое признание Первого Закона Дукая, гласящего, что всякая магия должна быть объяснима с точки зрения законов физики. А поскольку большая часть текстов фэнтези не желает этому подчиняться, то Дукай с чистой совестью может утверждать, что фэнтези – ненаучна, а поскольку наука – логична, то литература, с нею несогласная, логичной быть не может, эрго, нелогичная фэнтези является плохой литературой. Таким-то образом тезис об очевидном и не требующем доказательства несогласованности магии с законами физики становится гвоздем, которым Дукай прибивает приговор, обрекающий фэнтези на вечную подчиненность с точки зрения технической фантастики.
Беспомощность критика относительно фэнтези можно было бы счесть его личной проблемой, поскольку не присутствует таковое мнение в сознании читателей – ведь, в конце концов, читатели Толкина не возвращаются в книжные магазины в оскорбленных чувствах, что ни в одном атласе не удалось им отыскать Средиземья, а учебники биологии молчат о троллях и эльфах. Несмотря на свою абсурдность, кибернетический анализ заклинания иллюзии является, вместе с тем, характерным для постулатов такого препарирования фэнтези, опирающегося на законы точных наук. Дукай выбирает информационно-физическую модель и размахивает бритвой Оккама, режа в тексте Бялоленской все, что не соответствует базовой модели (прим. авт. – «На тему абсурдов информатизации всех аспектов реальности, предлагаю статью Станислава Лема «Грозит ли нам информационный барьер» («Czy grozi nam bariera informacyjna ») из журнала « PC Magazine po polsku » №11/1993 и полемизирующее с нею письмо Збигнева Зембатого в номере 2/1994 из того же журнала»). А когда оказывается, что не соответствует ничего, то виной всему, конечно же, не дурно подобранная модель, а исследуемая литература. Информатизация фэнтези – это приписывание проблем, которые существуют в рамках одной системы системе совершенно иной. Если уж чары должны получить физическое объяснение (а должны ли?), то отчего как «модифицированная в реальном времени» проекция образа, а не, например, непосредственное влияние на разум наблюдателя, подобием гипноза? Здесь я вхожу в спор с любителями помогать глазу линзой, но ведь нынешнее предположение насчет гомогенности НФ и фэнтези, если его придерживаться и дальше, грозит войти в учебники, и тогда понадобится новый Коперник, чтобы все то изменить. Непросто это, но кому-то нужно сказать, что кроль – голый, а фэнтези программируема ненаучно.
Постулирование логики естественных наук как фундамента литературы – вообще ход достаточно рискованный. Если бы наибольшие жемчужины мировой литературы «испытать раскаленным железом логики», то не уцелели бы даже классики реализма или натурализма, несмотря на программное для них согласие с естественными науками и логикой поступков, и страшно подумать, что осталось бы после верификационных мероприятий инквизитора Дукая от, например, поэзии. Ожидаю теперь с нетерпением доглубинное физическое объяснение феномена горящих кущей, расступающихся морей, воскрешения Лазаря и хождения по водам. Подобные проблемы с мотивацией фэнтези представляла, например, Каролина Левицкая («NF» 3/97), когда писала, что «можно признать фэнтези разновидностью сказки, поскольку она обладает сходными с той базовыми чертами, то есть, абсолютной фикционностью и наперед установленной «ориентацией на вымысел». В противоположность, например, реалистичному в каждой фразе «В пустоши и в пуще», израильским рассказам Марка Хласки или «Рисованной птице» Эжи Коссинского, где драконов нет, чарами никто не бросается, а потому все то должно быть правдой.
Осмелюсь напомнить, что вся литература, от реализма до фэнтези, не исключая НФ, является фикционной (прим. авт.: «ср., напр.: Хенрик Маркевич «Главные проблемы литературоведения», т. 3, Краков, 1996, гл. «Фикция в литературном произведении и ее познавательное содержание», а также Михал Гловиньський «Романные игры», Варшава, 1973, гл. «Роман и истина»»), а ее основания зиждутся на традиции или же на современных, неписанных договоренностях между авторами и читателями, на риторики. Если уж мы желаем говорить о какой-либо логике, то только о внутренней логике текста, которая, при том, никак не соотносится с опытом внетекстовой реальности. Как в духе рационализма можно прочесть тексты Бруно Шульца, ибероамериканский магический реализм или «Степного волка» Германа Гессе? Это, впрочем, касается не только механики литературных миров, но и психологии героев. Франц Кафка – творец персонажей с исключительно неправдоподобными психологическими мотивациями, но одновременно «Превращение» и «Процесс» совершенно когерентны, а поведение протагонистов правдоподобны и рациональны относительно внутренних законов текстов.
Ошибкой, которую вслед за Рафалом Кохановичем повторяют очередные критики, остается рассмотрение фантастичности фэнтези в категориях «чудесности». Чудесность подразумевает дистанцию наблюдателя относительно чудесного, требует существования как минимум двух миров: одного рационального, эмпирического, даже иронического – и второго, в котором полеты на метле или диване принадлежат повседневности. Такая модель культуры допускает существование Дукаевой «сверхчувственной» магии, каковая есть магией современной (прим. авт.: «ср.: Михал Буховский «Магия и ритуал», Варшава, 1993»), сознательной и совершаемой по выбору. Современная магия интерпретируется в категориях сверхчувственных явлений, которые господствующая идеология очерчивает как паранормальные либо игнорирует их, отрицая их существование. Примером использования «магии по выбору» является романы «Ребенок Розмари» Айры Левина и «Экзорсист» Уильяма Блэтти. Такого рода дуализм характерен для романа ужасов, где испуг прямо пропорционален степени несопоставимости обычного городка и прихода демонов, но не для мира Конанов и хоббитов, где, за исключением постмодернистских коллажей в духе Анджея Сапковского, герои не обладают ироничными резервами относительно собственного мира. Дистанция, делающая возможной рассмотрение дракона или чародейства в категориях «чудесности» возможна исключительно между представленным миром и читателем, да и то – лишь когда этот последний не знает о конвенции фэнтези.
Потому надобно отыскать ключ к логике фэнтези, таинственный модификатор, который приводит к тому, что становится она литературой, на которой тупятся орудия, достаточные для вивисескции текстов НФ, а о методах анализа современных мейнстримовых произведений я даже не говорю. Утверждения вроде «миром фэнтези управляет фантастическая мотивация, приводящая к тому, что в нем все возможно и позволено» – является признаком беспомощности. Странно лишь, что столько проницательных охотников за тайнами механизмов, что управляют мирами магии и меча, не пошли дорогой наиболее очевидной: фундаментом фэнтези является магия (прим. авт.: «Конечно, возможен вариант «фэнтези без магии», но тогда мы имеем дело с сайнс фэнтези в стиле «Планеты Роканнона» Ле Гуин – гибрида из приграничья фэнтези и НФ; гибридом, впрочем исключительно оригинальным, является и «Иррехаре» (повесть Я.Дукая) – кибернетическая фэнтези, где магия обладает кремниевыми корнями»), а следовательно и тайну ее литературного функционирования надлежит искать там, откуда магия происходит и откуда – несмотря на многочисленные заимствования и наследования – она черпается: из текстов этнографов и антропологов культуры, описывающих функционирование первобытных сообществ.
Тем временем, магия трактуется как пятое колесо в телеге, вместо того, чтобы видеть в ней направляющую силу. Если бы Дукай заглянул в народную германскую мифологию, в которой волкулачество и метаморфоза берсерка в медведя или быка была в порядке вещей, то не запутался бы безнадежно в диалектических решениях данной проблемы. Магия – ровно то для фэнтези, чем является гностическая, рациональная наука для научной фантастики – идейная и логико-мотивационная система. Иррациональность магии никаких основ не расшатывает, поскольку она сама по себе является основой.
Постулат Дукая, что рассматривая социально-психологические последствия существования магии «нужно отступить до Картензия», это своеобразное «возвращение в будущее» – магическое мышление значительно старше, чем идеи автора «Рассуждений о методе». Впрочем, подавляющее большинство миров фэнтези прекрасно сопротивляется такого рода упрекам, размещая действие раньше нашей истории (напр., в цикле «Колдовской мир», в «Шаннаре» или в «Трех сердцах и трех львах» Пола Андерсона). Это соотносится с четким указанием на базовые разницы в законах, управляющих миром реальным и литературной действительностью. Логика рационалистической философии это не единственная логика, ранее многие культуры функционировали, опираясь на логику мифа, которая нынче может казаться абсурдной. «В противоположность классической науке ХІХ-ХХ веков (...) логика мифа обладает характером метафорическом, символическим. (прим. авт.: «Е. Мелетинский «Логика мифа», Варшава, 1981 – пер. с издания М., 1978») (...) Согласно с ней, человек «первобытный» не отделял себя от окружающего мира природы и свои собственные характеристики переносил на объекты природы, которым приписывал жизнь, человеческие слабости, сознательную хозяйственную деятельность, умение обретать человеческий вид, организацию в виде племенного устройства и т.д. (прим. авт.: «Там же»)». Эти характеристики первобытного мышления достаточны для укорененности существования энтов, каменных троллей и прочих существ, связанных со стихиями или природными явлениями. Они также делают возможным диалог между человеком и животными, материальными предметами – для нас – неживыми, или существами сверхъестественными.
Кроме того «нечеткость первобытного мышления проявляется также в нечетком разграничении предмета и знака, материального и идеального, вещи и ее атрибутов, части и целого, статичного и динамичного, отношений пространственных и временных» (прим. авт. «Там же»). То есть, можно быть одновременно человеком и волком, поскольку логика мифа не признает правила исключенного третьего. Сильная связь имени с персоной или вещью в мире Земноморья вовсе не патент Ле Гуин, а вытекает из знакомства автора с культурной антропологии. Волшебство – как в фэнтези, так и в любом другом месте – опирается на тождественность названия и предмета, части и целого, образа человека и его самого. В магической культуре «исполнение действия символического характера обладает ровно таким же статусом, что и исполнение действия технически-рационального» (прим. авт.: «Михал Буховски. Цит. произв.»). Примером действия указанных выше тождественностей может служить кукла вуду – она является образом некоего существа, несет в себе его часть (волосы, ногти) и носит его имя, а потому то, что мы сделаем куколке, сразу же откликается и на человеческом оригинале.
Магия – это не дешевый трюк, но синкретическая философско-идейная система, потому ее влияние на литературу меча и магии не ограничивается ярмарочными пиротехническими эффектами, но прежде всего очерчивает структуру представленного мира. Первобытные сообщества для внутреннего наблюдателя были настолько же статичными, как и миры фэнтези, поскольку всякое изобретение, всякая инновация оказывались введены in illo tempore, в начале времен, богами или культурными героями. Смыслом жизни первобытного человека было повторение изначальных ритуалов: весеннего сева, осеннего сбора урожая, зимнего солнцестояния и пр. Погоня за техническими новинками, мода на прогресс – характерны для современности. Революционные изменения наступали исключительно дважды: в начале времен, при сотворении мира – и в конце времен, когда наступал распад известного порядка и гибель существующей культурной модели.
Подчеркиваю, в мирах фэнтези магия действует неизменно и независимо от воли адресата этого воздействия – у Бялоленской иллюзия пламени правдива (неисключительно интерсубъективна, по крайней мере), автосуггестия касается лишь ожогов, к которым это пламя приводит. В магии властвует магия профессионально-синкретическая, или же, как ее назвал автор «Иррехааре», – ритуальная, которая определяет главенствующую культурную модель. Она привычна и доступна, хотя существуют группы (чародеи, ведьмаки Сапковского, драконы у Ле Гуин), обладающие бОльшими возможностями в ее использовании. Тем не менее, уверенность в применимости магии у протагонистов текстов фэнтези выступает весьма часто, и это не вопрос веры, поскольку та соединена с выбором: можно либо верить, либо нет. Очевидным образом она влияет на ментальность и способ видения мира, особенно учитывая, что мир духов и призраков в фэнтези настолько же истинен, как и мир живых, причем граница между ними нерезкая и легко пересекаемая. Это подводит нас к ответу на вопрос Дукая: «где те отряды картографов Гадеса?». Очевидно ведь: никто из них не вернулся. Путник в лесу станет убегать с криком от духа не оттого, что тот не согласуется с Картензием, но потому, что в Средиземье каждый знает: «проявление эктоплазмы», называемое Назгулом, куда опасней эльфа или гнома.
Столь интригующее Дукая отсутствие связности между жестом и заклинанием и отдаленным и часто броским эффектом может быть объяснен с помощью меланезийского термина «мана». Мана – магическая сила, распространенная в первобытных культурах: всякое удачное воздействие возможно лишь благодаря использованию этой силы, которая, хотя и присутствуя везде, может быть сконцентрирована в предметах – все те магические палочки, зачарованные мечи и прочие Кольца Всевластия вовсе не замаскированные лазеры или генераторы полей. Носителями маны могут быть люди – герои способны к великим поступкам благодаря черпанью из внутренней силы. «Великий акт сотворения космоса был возможен только благодаря мане божества; вождь клана также обладает маной, англичане покорили маори, поскольку их мана была сильнее, литургия христианского миссионера обладает более совершенной маной сравнительно с локальными обрядами. (...) С точки зрения качества, это сила, отличная от физической силы и потому тоже действует арбитральным способом. Великий воин должен быть благодарен качествам величия не своим силам или умениям, но силе, которой его оделяет мана умершего воина; это мана размещается в малом каменном амулете, свисающем с его шеи, или в нескольких листках, прикрепленных к поясу, или в формуле, которую он должен произнести» (прим. авт.: «Мирче Элиаде «Трактат об истории религии», Лодзь, 1993»). Магическая сила наполняет весь мир фэнтези и, хотя лишь избранные могут ее свободно контролировать, проявления ее вызывают там не большие потрясения, чем у нас – сила гравитации, тоже ведь достаточно опасная. Магия – одна из сил природы, а маги – суть люди, которые научились нею манипулировать. Прекрасно показывают это как рассказы Эвы Бялоленской, «Земноморье» Урсулы Ле Гуин или «Сказание о войне двух миров» Раймонда Фэйста.
Нескольких замечаний требует упрек, что, де, в фэнтези нет религии. Отличие это является не недостатком текстов фэнтези, а очередным доказательством довольно точной реконструкции в этом жанре мыслительных структур архаических обществ. Профессиональная магия, составляющая идейный фундамент фэнтези, это ведь предрелигиозная система, которая отличается от религии по ряду базовых характеристик. Не будучи в состоянии давать здесь слишком долгие разъяснения, укажу только на одну достаточно значимую разницу: в религии сила происходит от Бога или богов, а это значит, что она капризна, что нет способа заставить Высшее Существо совершить то, что необходимо. В отличие от этого, магия обладает практическим характером: использование манны доступно, очевидно при исполнении определенных условий, для каждого. Это ситуация аналогичная использованию тока – надлежит включить телевизор в сеть и выполнять инструкции. Тут неосторожность грозит ударом тока – там превращением в жабу. Кроме того, отсутствие институциализированной религии в современном смысле не означает отсутствия символических мировоззренческих элементов – часто существуют боги, чья поддержка может увеличить эффект избранных ритуалов, подобно как, впрочем, и использование необычайных предметов.
Из вышеперечисленного вовсе не следует, что, якобы, фэнтези «подстраивается» под миф, пользуясь авторитетом культурной антропологии. Напротив, я отговариваю вероятных энтузиастов рассматривать «Хоббита» или «Шаннару» как реконструкцию мира архаических народов, поскольку идя этим путем, они быстро уткнуться в массу анахронизмов и непоследовательностей. Например, можно указать, что уровень материальной культуры миров фэнтези соответствует средневековью, а самым частым политическим устройством является монархия, но это отнюдь не магическая культура, которая достигла более высокого уровня социально-экономического развития. Как сказал этнографу один бушмен: «Зачем нам растить злаки, если в мире столько орешков монгонго».
Фэнтези – целостный жанр искусства и нет смысла искать для него основания вне его самого. Фэнтези почерпнула из мифа идейно-мотивационную систему и определенные решения, касающиеся онтологии и эпистемологии мира (как и аксиологии, но это особая история), но вместе со всем тем наследием она располагается в пространстве искусства. И если, как блестяще заметила Каролина Левицкая, «законы, управляющие миром сказки (...), мы принимаем как естественное следствие сказочного жанра», то, аналогично, и фэнтези мы должны принять как естественное следствие ее собственного жанра. Дукай прав, когда пишет, что большая часть современных писателей фэнтези – это подражатели, что нерефлексивно пользуются решениями, отработанными предтечами, но то же самое можно сказать обо всем искусстве. В конце концов, это традиция и нормы, чтобы менее талантливые могли ими пользоваться, а гении – ломать. Однако чтобы ломать нормы и создавать новые семантические системы, нужно понять значения и контексты, что расцвели на существующих жанрах.
Малгожата Вечорек
Руны или о возникновении жанров
«У меня нет намерения изгаляться над этим рассказом, отчасти даже симпатичным» – предупреждает Яцек Дукай в «Философии фэнтези». Но это лишь теоретический прием. Во второй части текста читатель дождался тезиса, ставящей всю фэнтези в угол купно с оленем в гон с настенного коврика. Тот факт, что олень и «Тайная вечеря» появляются в конце текста, я полагаю верным использованием риторики – то, что должно остаться в памяти читателя/слушателя, должно быть сказанным напоследок. Браво!
Все остальное для Дукая подчинено убеждению, что фэнтези – жанр более низкий, поскольку не выполняет он его, Дукая, постулатов. Что меня раздражает, так это тот факт, что приведенное им доказательство – нетщательное.
Автор пользуется обобщениями и бежит конкретных текстовых отсылок. Например, я не могу себе припомнить ни одного произведения фэнтези, где духи введены в постоянный элемент бестиария, потому что Призраки Кольца я полагаю существами исключительными. Ну разве что в «Ксанфе», но это дурной пример. Кроме того, если уж мы о логике, то ко многим аргументам Яцека Дукая можно прицепить ярлычок non sequitur.
Автор «Философии фэнтези» позволяет себе протекционистское похлопывание Бялоленской по плечу. Увы, с теми рунами – все не так! Даже когда пишешь что-то мимоходом, стоит стараться не расходиться с истиной! Бялоленская права: можно говорить о руне «Рука» или «Огонь». На курсе староанглийской литературе порой разбирается «Rune Poem» или «Рунический стих». Возник он, скорее всего, как помощь, должная помочь в обучении отдельных рун. Каждая из двадцати девяти строф является развитием символики данного знака. Например, тот, что сходен с руной, которой пользуется Гэндальф, означает на англосаксонском «Feoh» или Богатство. Конечно, руны можно было б использовать подобно современным буквам, тогда руна «Feoh» соответствовала бы низкой, совершенно не магической литере F.
Собственно, эта двойственность рун, обладание этим алфавитом второго значения сделало возможным использование их в магии. Если кто чувствует непреодолимое отвращение к германским рунам, тот всегда может обратиться к кельтскому алфавиту огам, чьи знаки обладали подобной двойной, явной и скрытой природой, как и руны. Хотя, как на мой вкус, руны попросту симпатичней. Можно пойти и по следу Толкина. Он создал свой собственный тенгвар, сохраняя форму рун – например, «Арда» – это земля, царство, но также и двадцать шестая тенгва в его алфавите (если говорить точнее, соответствует она звуку «rd» или «rh» – в зависимости от языка, для записи которого тенгвар был использован).
Яцек Дукай затронул и еще две интересных проблемы: соотношение реальность/фантастика и автор как демиурга.
Разными могут быть взгляды на наши любимые жанры: кое-кто говорит об их исключительности, я же полагаю, что фантастическое гетто – не больше, чем состояние сознания (как мейнстримщиков, так и фантастов) и полагаю НФ и фэнтези просто литературой. Из этого следует, что их должны касаться те же правила и критические методы, что и мейнстрим. Литературу на самом деле движут вперед два импульса: желание подражать реальности – миметизм, и его противоположность – фантазия (NB: в англоязычной литературе последний термин, собственно, передается как «fantasy»). Каждый из авторов сам очерчивает, в каких пропорциях его тексты должны переплетать эти два аспекта. Если автор пожелает, то может отменить законы физики, даже разорвать причинно-следственные связи. НФ здесь привносит дополнительный постулат – рационализирует то, что отклоняется от реальности (благодаря науке), но это не является условием, от которого не может быть отступлений. Окончательным арбитром выступает писатель – должно б тут напомнить окончание «Limes inferior» Зайделя.
Мне кажется, что Дукай взыскует рационализации в рамках фэнтези, хотя в этом случае рационализацию «посредством науки» хочет заменить рационализация «посредством магии». Эффект может оказаться интересным, но мне кажется, это постулирование нового жанра – фэнтези это не «чужая реальность» + поддающаяся логике магия. На характере фэнтези сильно отпечатался тот факт, что возникла она как литературная реализация сказки. И как сказка несет она на себе определенный груз психоаналитического, почти терапевтического содержания, подсознательного отобранного детьми, так и фэнтези должна быть описана в рамках своих культурных отсылок и бессознательного содержания. Определенные образы, упорно появляющиеся в фэнтези, не случайны. Об этом знал Лукас, когда во время работы над «Уиллоу» пригласил для дискуссии Джозефа Кэмпбелла. Разговаривали они о значении реки (ребенок, плывущий в корзине подобно Моисею – это мотив, протягивающийся на тысячелетия до возникновения Библии) и волшебниц в данных сообществах.
Стоит понимать, что делаешь – в этом вопросе я совершенно согласна с Дукаем. Хотя рецепт «улучшения» жанра я бы видела в понимании авторами литературной традиции как источника широко понимаемого вдохновения. Поскольку даже Толкин не творил из ничего: разъяренный кражей кубка дракон – прямиком из «Беовульфа», орлы, несущие людей – из Чосера, кольца – из германской мифологии, а имена гномов – цитаты из «Поэтической Эдды». Примеры можно бы длить бесконечно, важно помнить о базовом правиле: избегаем посредников, берем из источника. Остается только мелочь: оригинальная интерпретация да искра, позволяющая добиться большего.
Яцек Дукай пишет о сотворении миров, главный упор делая на несчастных авторов.
А я бы хотела вспомнить о читателях. Конечно, писатели совершают изярдное усилие, тем или иным образом компонуя свои миры, но результатом становится отпечатанная бумага. Она нисколько не напоминает даже самой слабой нематериальной иллюзии мира (поскольку ведь отнюдь не «правдивые» миры возникают во время творческого процесса!). До того момента, пока над книгой не сядет читатель. Каждый из нас, читая, оживляет тех черных червячков, придает им значение, интерпретирует по-своему. В чтении именно книги или любого другого текста мы вкладываем свою личность, вносим опыт других прочтений, просмотренных фильмов и т.п. Мы отличаемся – из этого следует, что и те наши прочтения должны бы отличаться. Отсюда расхождения, порой диаметрально противоположные мнения о книгах. Важно, однако, давать себе отчет в том, что в литературе нет места окончательным суждениям, поскольку нет и окончательного текста – их ровно столько, сколько читателей. Да и один и тот же читатель может по-разному прочитывать текст всякий раз. История литературы знает книги, ценимые и весьма популярные в свое время, которых, однако, нынче не показывают даже студентам-филологам, поскольку сильно изменилась человеческая ментальность. А потому – какова роль критика? Согласно с моей любимой дефиницией, критик должен рассказывать о приключениях своей души при контакте с текстом.
Я вижу уже то святое возмущение: нельзя высказывать критические замечания? Спешу успокоить: можно, а то и нужно. Однако надлежит осторожно подходить к вынесению окончательных приговоров. Надевая маску безошибочности, стоит порой потратиться и на определенную здоровую дистанцию, памятуя о разнице между верным замечанием и вынесением суждений, обесценивающих данного автора или – о, ужас! – целый жанр.
Яцек Дукай
Ответ
1. Магия ex definitione нарушает законы физики; фэнтези ex definitione пользуется магией.
2. Нигде и никогда я не утверждал, что фэнтези это жанр хоть в какой-то мере худший (плохой). Худшими (плохими) могут быть лишь отдельные произведения.
3. Единственное правило, которое должно действовать как в НФ, так и в фэнтези, это правило внутренней логики произведения. Доказывать несовпадения законов магии с законами физики мне не интересно (потому что см. п.1). В случае фэнтези удержание связности состоит в избежании несоответствий законов магии другим законам магии или же законов магии – законам, управляющим немагическими элементами миров. Выбор/создание всего вышеуказанного лежит исключительно в рамках компетенции автора, и мы имеем полное право журить его относительно замеченных противоречий.
4. Сказка и фэнтези. Внешне переход здесь плавен, однако существует определенная фундаментальная разница. В сказке автор ничего не объясняет. Сказка сопротивляется «логической вивисекции» благодаря оставлению максимального пространства умолчаний. Количество возможных интерпретаций здесь настолько огромно, что в совокупности их всегда доступен как минимум один комплект, который создает вполне когерентное объяснение. Наоборот, в фэнтези существует большее или меньшее стремление к подробнейшей креации и зауживанию возможностей читательской интерпретации текста. Только взгляните на те приложения, карты, прочтите весьма научные описания магии, записи книг заклинаний и т.д. Таковы интенции авторов в фэнтези. Они хотят, чтобы читатель выстраивал свою веру в выдуманные миры силой бессознательного накопления деталей. Те тысячи страниц, десятки томов... Поддержание сказочной недосказанности здесь невозможно с точки зрения чисто технической. (Вам, пан Денбек, нельзя защищать Бялоленскую, интерпретируя заклинание невидимости как гипнотическое воздействие, поскольку она сама написала explicite, что оно состоит в «наложении на собственную фигуру иллюзии фона», а потому откуда-то оный фон надобно знать. Могла она того не писать; могла не входит во множество прочих подробностей, как и в сферу психики – тогда бы мне не было к чему цепляться. Но она это сделала. Потому что, видите ли, это фэнтези, не сказка).
5. Разве я приписывал Картензию авторство «магического мышления»? Пожалуй, напротив. Отступать в доисторичность или параллельные миры – бессмысленно: здесь не идет речи о датах, идет речь о ментальности. Длинные размышления насчет верований в первобытных культурах и их понимания магии, сказать по правде, неуместны (впрочем, я и сам в «Философии» указал на использование авторами фэнтези магического реализма, как и на поиск исторических интересностей в качестве иллюзии движения, бегства от проблемы). Может, будет непросто меня понять из-за затмевающих разум миазмов культурного релятивизма, но на самом деле отнюдь не все взгляды на мир равноправны, и шаманы тысячу лет назад вовсе не обладали силой останавливать Солнце, и не потому англичане покорили маори, что мана тех первых была сильнее. Это наша реальность, и таковы ее законы. В фэнтези же, в свою очередь, маори силой маны своих колдунов покорили бы англичан. Потому что там магия была бы силой настолько же реальной, как и гравитация. В то время как в реальности она таковой не является, и прививание культурных образцов из нашего, немагического мира в universa имманентные магически имеет столько же смысла, что вкладывание в пасти осьминогов с Андромеды диалогов об актуальных спорах насчет абортов или смертной кары.
6. Статичность миров фэнтези. Смотри пункт выше, насчет разницы между верованиями и реальностью. А теперь primo: в 99% произведений фэнтези (исключение здесь, между прочим, часть нашей «славянской» фэнтези) герои обладают ментальностью людей, современных нам, а не членов первобытных сообществ; sekundo: факт, что верили, будто так-то и так-то было всегда, не означает, что так-то оно и было на самом деле, и что прогресс не существовал; tertio: прогресс, как технологическое движение в градиентах эффективности, эргономии и полезности, не может существовать в пространстве знания, ложного в своих основаниях.
7. Неправда – и я такого никогда не утверждал – что в фэнтези нет религии. Но религии фэнтези – неоригинальны, убоги и внутренне противоречивы относительно онтологии представленного мира. Предлагаемая паном Денбеком теургия ничего нового не вносит.
8. Фэнтези – целостный жанр искусства и нет смысла искать для него основания вне его самого. Со второй частью этого утверждения я согласен полностью.
9. И что следует из вышесказанного: автор фэнтези, возможно, и должен оказаться знатоком старогерманской мифологии (наверняка это ему не помешает), однако читатель этой обязанности не имеет.
10. Что до проявлений посмертной жизни в фэнтези – мои адресанты противоречат друг другу. Я же все жду фэнтези с эсхатологическим отзвуком хотя бы раннего ибероамериканского магического реализма.
11. Пани Вечорек пишет: Кроме того, если уж мы о логике, то ко многим аргументам Яцека Дукая можно прицепить ярлычок non sequitur. К каким именно?
12. Всякий миф можно выражать в рамках любого жанра, все будет зависеть от степени аллегоричности.
13. Очевидно: текст, прежде чем он повстречает своего читателя, является мертвым; очевидно: всякий читает и помнит что-то свое. Однако, похоже, что пани Вечорек полагает, будто знает, что я имел в виду, когда писал «Философию фэнтези». Точно так же и я в праве оценивать идеи, вложенные в чужие тексты.
14. Отдельно насчет рун, пани Вечорек права: существуют такие руны, которые не отвечают энциклопедическому определению, на которое я опирался. Однако же мне известно, что Эва Бялоленская после моей статьи обдумывала поменять в своих рассказах, сделавшихся здесь жертвой, «руны» на «знаки». Оставляю здесь без ответа вопрос: насколько закрепленные в нашей культуре поля значений отдельных слов влияют на образ описываемых с их помощью фантастических миров? И мог ли, например, Камешек писать оными квази-идеографическими рунами в мире, где не было ни кельтов, ни германцев, ни Толкина?
15. Конец «Limes inferior» мне нравится чрезвычайно.
*
Статьи – все три – я оставляю без комментариев: кажется, они достаточно прозрачны.
И, полагаю, это еще не конец «истории с фэнтези» (в том числе и на уровне литературной реальности: в 1999 вышел «Разбойный шлях» Анны Бжезинской, задавший в польской фэнтези если не новый стандарт, то – новые горизонты; в 2002 – ее же «Сказания Вильжинской долины», показавшие, как можно отыгрывать средневековую ментальность в текстах, которые мы привычно полагаем «иронической фэнтези»). Все двухтысячные жанр в Польше медленно трансформировался – порождая и рефлексию. Как минимум, одна из бесед в формате S.O.D. была посвящена изменениям в фэнтези вообще – и Джону Харрисону, как раз вышедшему тогда на польском, в частности.
В общем, продолжение следует...