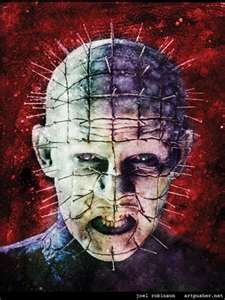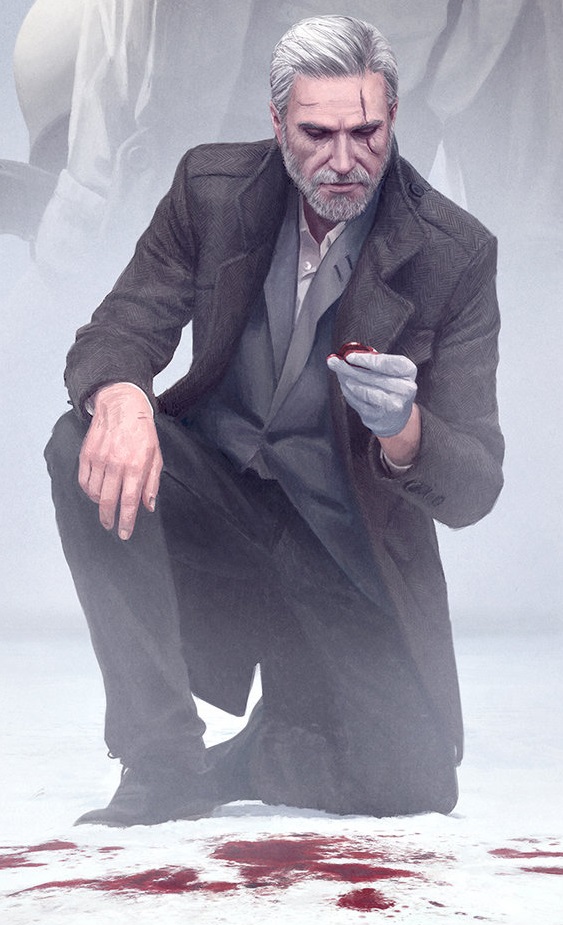Продолжаем приобщаться к киноклассике. На очереди — год 1982, уносящий нас в год 2019, на экране — знаменитый фильм Ридли Скотта "Бегущий по лезвию". Итак...
Мир переливается всеми оттенками холода, здесь вообще нет тепла. Солнечным лучам не пробиться сквозь улетающие вверх стелы небоскребов. От всего здесь веет искусственностью — искусственные животные и птицы, безжизненные друзья, механические жизни. Под ногами путаются клубы пара, вокруг -пустота и одиночество. Наверху не видно ни неба, ни Бога — одна светящаяся реклама. Если бы Данте вдруг увидел эти урбанистические пейзажи, то тотчас написал бы про 10 Круг, Круг Тотального Безразличия. Но это всего-лишь Лос-Анджелес 2019 года.
Вообще, написанный в 1960 году роман Филлипа К. Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?», на первый взгляд кажется книгой, совершенно не пригодной для экранизации. Роман представляет собой типичный авангард из направления «новой волны» с многочисленными сложными ассоциациями и образами, которые невозможно перенести на большой экран. Скотт это прекрасно осознавал, и взяв от первоисточника только основной сюжетный посыл о полицейском, преследующим сбежавших человекоподобных роботов, снял на этом материале, фактически совершенно независимое от первоисточника, собственное кино.
Книга была об охотнике и харизматичном роботе- убийце. Главным героем фильма, пожалуй является сам Лос-Анджелес в своем, не столь отдаленном будущем.
Желая восполнить пробел романа в полном отсутствии описаний, Скотт самостоятельно выстроил визуально совершенную и впечатляющую картину жизни людей 37 лет спустя, которая по своей уникальности, является практически «фильмом внутри фильма» и говорит о режиссерской концепции, зачастую куда больше самого сюжета и поступков главных героев.
Проблема заключалась в том, что до Скотта такой масштабной реконструкции будущего, еще не предпринимал никто. Джордж Лукас в «Звездных войнах» и Дэвид Линч в «Дюне» описывали грядущее спустя тысячелетия, совершенно не связанное с повседневной реальностью. Скотт же поставил гораздо более сложную задачу: предугадать развитие облика современных городов так, чтобы за футуристичночтью картинки можно было бы угадать черты современности.
В результате, в созданном им городе органично сочетается технократичность ланговского «Метрополиса» с декадансом, характерным для послевоенных фильмов «нуар».
Экспериментируя с различными стилями из киноклассики, Скотт сам того не ведая, своими визуальными решениями открыл основы нового жанра — «киберпанка». Правда, сам термин появится лишь 2 года спустя — в 1984 году, после выхода знаменитого романа Уильяма Гибсона «Нейромант». Однако, знаменитая первая фраза из этой книги — «Небо над портом напоминало телеэкран, включенный на мертвый канал» представляет собой литературную квинтэссенцию того стиля, который воплотил в своем фильме Ридли Скотт. Сочетание щемящей атмосферы духовного упадка из классического «нуара» с кибернетическими пасторалями, главный герой- одиночка, напоминающий частного сыщика из романов Хэммета и Чандлера, всесилие техники и мелочность человеческой природы, впоследствии, сойдут с экрана в литературу и станут неотъемлемыми чертами целого стиля.
Известно, что поручив режиссеру этот сценарий, продюсеры тем самым рассчитывали на повторение успеха предыдущей картины Ридли Скотта «Чужой». Однако, Скотт удивил своей способностью сочетать совершенно противоположные стили: в отличие от бешеной динамики и саспиенса на борту «Ностромо», «Бегущий по лезвию» выдержан в созерцательном, скорее медитативном ключе. При съемках, Скотт начал именно с панорам города и серьезно перерасходовал бюджет — так, что большинство ключевых сцен пришлось снимать в студийных павильонах.
Из-за этого иногда складывается впечатление, сто сам сюжет и герои выступают лишь фоном для роскошной визуальной составляющей, но это совсем не так. И атмосфера, и сюжет с разных сторон призваны подвести зрителя к ответам на одни и те же вопросы.
Кто на самом деле виноват в том, что репликанты так похожи на людей: достижения последней технической мысли или сами люди, которые настолько разучились чувствовать, что уже напоминают роботов? Кто кому более подобен в этом мире: робот — человеку или человек-роботу?
Роботов научили имитировать человеческие эмоции, и может быть поэтому, они пытаются использовать эти нововведения по полной программе: они страшатся смерти, проявляют гнев, ярость. даже-любовь , что необычно для существ,состоящих не из нервов и плоти, а из сочетания проводов и микросхем. Но человек в будущем просто устал от переживаний, чувств и эмоций, он настолько отдалился от своих собратьев, что стал совершенно автономным.
Рик Декард выполняет обычную биологическую программу: ест, спит, пьет, снова ест, работает, совокупляется. С одинаковым безразличием, он убивает и имитирует любовь. На этом фоне, не обремененный моральными догмами, персонаж Хауэра выглядит воплощением человечности, гораздо более живым чем сами люди. Только в отличие от тех, кто бесполезно проводит время, называемое жизнью, у него на все есть только 4 года — такова участь всех творений будущих Франкенштейнов. Их убивают, лишь за естественное преступление — жажду жить, которую человек будущего, очевидно сам подрастерял во время долгой дороги из прошлого в настоящее.
Отдельное место в фильме занимает музыка Вангелиса — это один из тех редких случаев, когда саундтрек идеально передает не только атмосферу, но и ритм самого фильма. Отдельные электронные аккорды, преобразующиеся в сложную симфонию звуков, прекрасно передают разрозненность этого мира, где каждый элемент живет сам по себе, стараясь не согласовываться с другими: отчуждение, страсть к принудительному одиночеству — в итоге, рождающие скоттовскую атмосферу систематического хаоса.
Удивительно, но несмотря на культовый и классический статус ленты, которую многие считают лучшим фантастическим фильмом всех времен и народов, никто до сих пор не осмелился ее повторить или переплюнуть. Отдельные элементы визуального стиля «Бегущего» мы позднее найдем и у Верхувена в «Вспомнить все», и у Бессона в «Пятом элементе». Но замахиваясь на постановочную часть, никто из режиссеров пока не смог повторить той самой неповторимой атмосферы «технодекаданса» и не пытался претендовать на новый «кибернуар», что делает этот фильм по-настоящему, уникальным явлением в кинофантастике будущего и настоящего.
На дворе уже год 2009. До время действия фильма остается 10 недолгих лет. Субъективно, но пока еще эта технократическая бездна не сумела полностью поглотить современного человека. Несмотря ни на что, пока еще мы можем чувствовать, ненавидеть, любить — жить, а не существовать. Как думаете: успеем наверстать?




 как говориться: ППКС
как говориться: ППКС