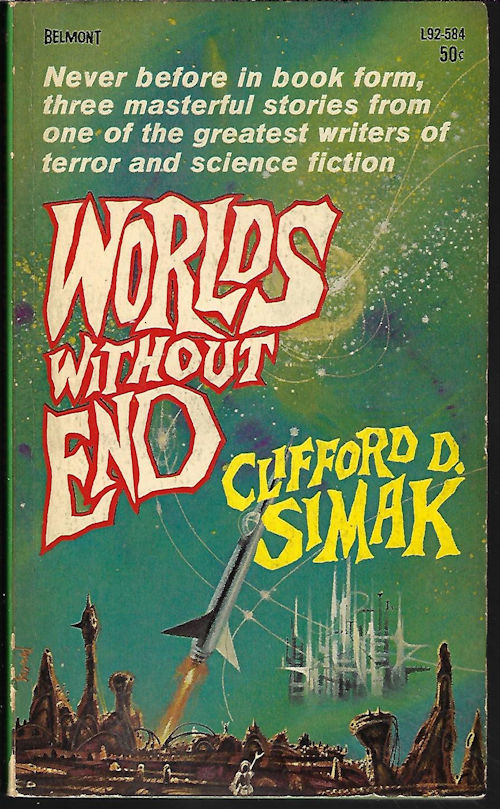В книжных интернет-магазинах она ещё не появилась, но уже есть и на АЛИБе http://www.alib.ru/find3.php4?tfind=%E1%EE%EB%E5%F1... , и на книжном рынке.
Мариновали они её более шести лет, но всё же пришлось выпустить, во избежание потери материала для издательства.
Надо ли говорить, что это очень качественно сделанная книга.
Лесьмян и сам по себе — уникален,чудесен.
А если учесть, что переводчики в книге — такие Мастера слова, как, например, Б. Пастернак, М. Петровых, Д. Самойлов, А. Гелескул, то становится ясно: перед нами — настоящий шедевр поэзии.
Составление и комментарии — Н.Р. Малиновской, вступительная статья — А.М. Гелескула.
Анатолий Михайлович, как всегда, блестяще раскрывает суть и смысл представленного в книге; любые его комментарии и статьи — это великолепные образцы обращения со словом, не только поэтическим.
Впрочем, читатель сам в этом убедится, едва раскрыв книгу.
Мне же хотелось бы вспомнить другое, более короткое по содержанию, но тем не менее замечательное предисловие Гелескула, материал в четвёртом номере «Дружбы Народов» за 2005 год :
Душа в небесах.
Однажды, где-то в конце 20-х уже прошлого века, школьная учительница в захолустном Замостье, тогда еще польском, потребовала: “Дети, назовите мне великого польского поэта”. Пока дети напрягали память, две девочки, вскочив из-за парты, дружно проскандировали: “Наш папа”. Уяснив, что фамилия папы Лесьмян, учительница растерянно сказала: “В учебнике его нет”. И была права. Целых полвека Лесьмян не упоминался ни в учебниках, ни в иных послужных списках литературы… Однако недаром молодой и дерзкий бунтарь Юлиан Тувим при встрече целовал ему руку.
Болеслав Лесьмян родился в 1877 году на Украине, по окончании Киевского университета эмигрировал и какое-то время жил в Париже. Как ни странно, Франция не оставила следов в его поэзии, больше того, в Париже он написал свои первые “лесные” стихи. Много позже, когда заговорили о “непостижимой зелени Болеслава Лесьмяна”, он заметил: “Это Украина, где я вырос. Дивные люди были на Украине, такие же дивные, как и зелень тамошняя”.
В 1918 году он вернулся в уже суверенную Польшу, где прожил, большей частью в захолустье, жизнь не только незаметную, но довольно бедственную. Щуплый, маленький, обаятельный и странный до смешного, нервный, пылкий, беззащитный, жадный к общению и с годами все более нелюдимый, все более угнетенный и печальный, он казался персонажем Гофмана, но попавшим на страницы Кафки. Провинциальный нотариус, он не раз был ограблен компаньонами и, наконец, обобранный до нитки, запутался в долгах и едва избежал тюрьмы. Литературный его путь не был усеян розами. Первую и единственную литературную награду он получил пятидесяти четырех лет, а называлась она Премией Молодых. Однако прав Тувим, сказавший: “Если есть где-то в занебесье Государство Поэзии, то именно Лесьмян был на земле его посланником”.
Почему голос Лесьмяна не был расслышан? О польской поэзии сказано, что порой она заменяла полякам родину. Это обязывало поэтов ставить судьбы родины во главу угла. Над новой поэзией, обретшей родину, витали тени Мицкевича, Словацкого, Норвида. Лесные видения Лесьмяна казались духовным отшельничеством. Но таков был склад его дарования. Его умная, печальная поэзия текла, как река в теснине; за узостью русла многие проглядели глубину.
Болеслав Лесьмян умер осенью 1937 года от сердечного приступа — смерть в наше время почти массовая, но по причине всегда единичной. У дочери поэта, начинающей актрисы и очень хорошенькой, объявился кавалер, и заботливый отец пригласил его, дабы выяснить серьезность намерений. Ухажер, член профашистской молодежной организации, пояснил старорежимному родителю: “А что, пану невдомек, какие намерения можно питать к дочери еврея?” И удалился с той же снисходительной усмешкой. А поэта Болеслава Лесьмяна не стало… Много раньше он писал: “Грядут года небытия, И гибнут девушки, как птицы” — но сам до этого не дожил и не увидел, как жену и дочь угоняли в Маутхаузен. А тогда, довоенной осенью, он на скудные средства семьи был похоронен рядом с могилой сестры.
Лишь через четверть века его поэзия вернулась в польскую культуру — и вернулась победительницей. Его стихи перелагают на музыку, поют, изучают, а главное — издают и читают. Словом, он вошел в учебник.
Болеслав Лесьмян — поэт органной клавиатуры, щедрой на самые разные регистры, мелодии и краски. Предлагаемая подборка затрагивает лишь одну из его мелодий — правда, возникшую еще в ранних стихах и окрепшую в поздних. Лесьмяна нередко называли “поэтом мертвых”. Многое в его стихах происходит на том свете. Но создавая свою мифологию смерти, он находит для потустороннего мира почти житейское название — “чужбина”. Загробный мир Лесьмяна — это как бы жизнь в обратной перспективе: мертвые еще присутствуют в мире, только начинают умирать — и умирают по мере того, как тускнеют в памяти живых. Для Лесьмяна мысль о том, что нет настолько любимого человека, без которого жить невозможно, страшней, чем сознание смерти.
Это и есть та пропасть, что отделяет его от декадентов, уютно смакующих нашу бренность, обреченность и прочие затасканные борзописцами страхи.
У нас в России стихам Лесьмяна явно повезло. Его переводили поэты — Борис Пастернак, Мария Петровых, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Леонид Мартынов. Лучшие из лучших. В 1971 году в издательстве “Художественная литература” вышла небольшая, но достойная книга избранных стихов Лесьмяна.
Но судьба, зло шутившая над ним при жизни, осталась верной себе. Помимо обычных и неизбежных, в книгу вкралась опечатка, достойная Книги Гиннесса. На обложке вместо “Цена 48 коп.” — такие тогда были цены — напечатали “18 коп.” Таких цен не было и тогда, даже для детских раскладушек. Книга продавалась считанные часы, после чего обескураженные завмаги для выяснения вернули тираж в книготорг, где его частью сгноили на складах, частью пустили под нож.
Знакомые книгорезы подарили мне один такой экземпляр, и я узнал, как выглядит зарезанная книга. Выглядит неважно. Но книга — не человек, и ее можно вернуть к жизни, о чем я давно мечтаю.
...................................................... ...........................................
Ну что ж, дорогой Анатолий Михайлович, Ваша мечта сбылась, пусть и поздно..







 ... Хоть «научного», хоть «радужного».
... Хоть «научного», хоть «радужного».