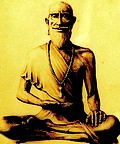| автор |
сообщение |
Alex Fenrir-Gray 

авторитет
      
|
 18 ноября 2024 г. 05:38 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 18 ноября 2024 г. 05:38 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
Знатокам книжных иллюстраций. В предисловии к переводу "1001 ночи" Ясмин Сил упоминаются интересные иллюстрированные издания:
Издания девятнадцатого века, основанные на тексте Галлана, были дополнены иллюстрациями ведущих деятелей того времени. Например, «Развлечения арабских ночей» Томаса и Эдварда Далзиэлов, опубликованные с 1863 по 1865 год, включали 842 гравированные иллюстрации известных художников, а во Франции Гюстав Доре проиллюстрировал издание 1865 года классического перевода Галлана (*62 — Визуальная вселенная «Арабских ночей» была определена этими иллюстраторами XIX века, и они оказали длительное влияние на фильмы и графические романы о “Ночах» в XX веке. См. Robert Irwin, Visions of the Jinn: Illustrators of the Arabian Nights (Oxford: Oxford University Press, 2010); Kazue Kobayashi, “The Evolution of the Arabian Nights Illustrations: An Art Historical Review,” in The Arabian Nights and Orientalism: Perspectives from East and West, ed. Yuriko Yamanaka and Tetsuo Nishio (London: I. B. Tauris, 2006), pp. 171–93).
|
|
|
Alex Fenrir-Gray 

авторитет
      
|
 18 ноября 2024 г. 18:28 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 18 ноября 2024 г. 18:28 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
В 2021 году вышло подробно комментированное издание избранных, наиболее влиятельных сказок из свода "1001 ночи". Автор идеи и главный редактор Паоло Лемош Орта заказал поэтессе Ясмин Сил новые переводы, как с арабского, так и с французского языков. В том числе в сборник включили сказки из дневников Галлана, не включённые им в основной текст его компиляции. В то же время сделана попытка вписать классические тексты в актуальный контекст современности. Вот что пишет, в частности в большой вводной статье сам Паоло Лемош Орта:
Решение восстановить в этом издании удовольствие от рассказывания историй как в арабской основе «Ночей», так и во французских дополнениях Дияба и Галлана привело к тому, что я заказал новый перевод поэтессе Ясмин Сил. Ни один современный английский перевод не предлагает полного списка сказок Дияба или такого же набора характерных женских персонажей. (*90 ) Знаменитые викторианские версии «Арабских ночей», призванные выполнить эти условия, — издания Джона Пейна и Ричарда Бертона — сделаны с сознательным архаизмом и не в состоянии передать провокационные скачки повествования Дияба. По правде говоря, старые версии просто не выдерживают пристального внимания нового поколения читателей, и современные издания все еще оставляют место для новой версии сказок, отличающейся редкой выразительностью переводчика.
Исторически сложилось так, что английские переводы «Ночей» подчинялись романтическому убеждению, что сборник сказок воплощает жизнь и обычаи арабов, и под видом аутентичности формировали сборник сказок так, чтобы он служил этой цели. Среди переводчиков викторианской эпохи бытовало представление о «Ночах» как об уделе исследователя, искателя приключений и антрополога, а их содержание рассматривалось как свидетельство особых исламских добродетелей или как героические сказания, которые должны быть переданы с подобающей мужской энергией. (*91 — ) Несмотря на то что в обширном арабском сборнике рассказов содержится множество грозных женских персонажей, викторианские переводчики регулярно сокращали или урезали рассказы с участием женщин или женщин-повествователей. Эдвард Лейн опустил цикл «Женские козни» в свои примечания, а Ричард Бертон, продавая частным подписчикам «неотредактированную» версию «Ночей», свел женское начало к сексу. И Бертон, и Пейн отдавали предпочтение фигурам халифа Харуна ар-Рашида и его визиря Джафара как ключевым героям арабского сборника рассказов в ущерб Шахразаде и другим женщинам в сказках. (*92).
Еще более проблематичным было одностороннее отождествление Бертона с мифической Аравией, которое сопровождалось антагонистическим отношением к ее предполагаемым врагам и культурным «другим». Его примеру последовал французский переводчик Ж. Ш. Мардрюс, и в результате два исторических перевода, наиболее широко доступные в Интернете и в любовно иллюстрированных переизданиях, не только подчеркивают, но и подробно описывают случаи предрассудков в отношении евреев, зороастрийцев и африканцев к югу от Сахары. Бертона и Мардрюса иногда вспоминают за то, что они опередили свое время в принятии гомосексуальности в конце XIX — начале XX века, но расизм в их дополнениях к «Ночам» был регрессивным, даже если судить по стандартам их собственного времени. (*93 — ) Пусть любопытный читатель остерегается: экстраполяции, привнесенные Бертоном и Мардрюсом, которые, пользуясь собственными предрассудками, усиливали экзотичность своих версий историй, не поддаются исправлению.
Смелость дикции и стиля в переводах Бертона часто вызывала восхищение как новаторская попытка передать подлинную инородность исходной культуры текста. (*94- ) Однако кажущиеся революционными жесты Бертона — сохранение аллитерации, ассонансов и рифмованной прозы, а также вкрапление архаизмов и иностранных слов в средневековье, напоминающее прерафаэлитов, — скрывали его вопиющие заимствования у предшественников. (*95 — ) Каждый раз, когда я сталкиваюсь с рецензентом, который, утомленный плоскостью современной версии «Ночей», возвращается к яркой и якобы подлинной версии Бертона, я еще больше убеждаюсь в необходимости нового перевода, чтобы нанести окончательный нокаутирующий удар по расистской и ориенталистской фантасмагории Бертона и Мардрюса.
Перевод Хусейна Хаддави 1990 года, основанный на арабском тексте под редакцией Мухсина Махди, нарушил эту традицию, но он был основан на другой марке культурного эссенциализма. Перевод «Тысячи и одной ночи» Хаддави вызывает всеобщее восхищение своей точностью, но он опирается на текст, отредактированный с убеждением, что сборник сказок должен быть очищен от всех позднейших добавлений, как на арабском, так и на французском языках. Непредвиденным следствием опоры на единственную рукопись, содержащую всего 282 ночи повествования, является отсутствие сильных женских персонажей, которые, как жаловалась Марина Уорнер, отсутствуют в большинстве доступных версий «Ночей». (*96 — ) Учитывая широкое распространение издания Хаддави, эти упущения оказываются досадными, поскольку обещание рамочной истории, что женщины могут иметь возможность ответить или опровергнуть обвинения мужчин против них, остается невыполненным при отсутствии историй, в которых они получают шанс сделать это.
Читатели версий Малкольма и Урсулы Лайонс получат большее удовольствие, но в их издании отсутствуют все сказки, кроме двух, добавленных на французском языке из рассказов Дияба, поскольку оно было опубликовано до того, как заново открытая "Книга путешествий » Дияба привлекла внимание к сирийскому сказителю как к самостоятельному автору. Даже в том, что касается оригинального арабского ядра, остается возможность для более богатого и яркого современного перевода, подобного недавнему французскому переводу Джамеля Эддина Бенчейха и Андре Микеля. (*97 — )
|
|
|
Zangezi 
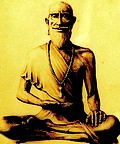
гранд-мастер
      
|
 18 ноября 2024 г. 20:07 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 18 ноября 2024 г. 20:07 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
Alex Fenrir-Gray Спасибо, давно пора! Еще в Илиаде слишком много мужских персонажей, надо половину заменить сильными женскими.
|
–––
Aut liberi aut libri
Nec Caesar supra grammaticos |
|
|
Андреуччо 

авторитет
      
|
 18 ноября 2024 г. 22:19 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 18 ноября 2024 г. 22:19 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
Alex Fenrir-Gray
цитата сказки из дневников Галлана
Наверное эти дневники в BNF.
Вот интересно, в угоду каким политикам сделана такая вводная статья и новый перевод.
|
|
|
Alex Fenrir-Gray 

авторитет
      
|
 19 ноября 2024 г. 04:50 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 19 ноября 2024 г. 04:50 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
Думаю, уместно напомнить, что М. Салье в 1959 г. писал следующее:
Другой английский перевод, выполненный в конце 80-х годов прошлого века известным путешественником и этнографом Ричардом Бёртоном, преследовал совершенно определённые, далёкие от науки цели. В своём переводе Бёртон всячески подчёркивает все сколько-нибудь непристойные места оригинала, выбирая самое резкое слово, наиболее грубый вариант, придумывая и в области языка необычайные сочетания слов архаических и ультрасовременных.
Наиболее ярко отразились тенденции Бёртона в его примечаниях. Наряду с ценными наблюдениями из быта ближневосточных народов они содержат огромное количество «антропологических» комментариев, многословно растолковывающих всякий попадающийся в сборнике непристойный намёк. Нагромождая грязные анекдоты и подробности, характерные для современных ему нравов пресыщенных и скучающих от безделья европейских резидентов в арабских странах, Бёртон стремится оклеветать весь арабский народ и пользуется этим для защиты пропагандируемой им политики хлыста и винтовки.
Тенденция подчеркнуть все мало-мальски фривольные черты арабского подлинника характерна и для французского шестнадцатитомного перевода «Книги тысячи и одной ночи», законченного в первые годы XX века Ж. Мардрюсом. Из немецких переводов «Книги» новейшим и лучшим является шеститомный перевод известного семитолога Э. Лиггмана, впервые изданный в конце 20-х годов нашего века.
Голландская исследовательница Миа Герхардт также считала лучшим перевод Литтмана, включающий текст Калькутта-2 и дополнительные сказки Галлана-Дияба. Её работа вышла в 1963 г.
То есть, если бы современные учёные внимательнее отнеслись к работам неанглоязычных исследователей, то не было бы необходимости декларировать с таким пафосом очевидные вещи и бросаться лозунгами в духе военного коммунизма типа "нанести окончательный нокаутирующий удар".
Таким образом, делаем вывод, что до сих пор не существует адекватного, разумного перевода на английский язык, типа нашего Салье или Литтмана. Но в целом исследования Орта-Марзолфа-Ирвина очень интересные и содержательные, хотя забавно наблюдать, как их прогибают современные политические тенденции.
|
|
|
Alex Fenrir-Gray 

авторитет
      
|
 19 ноября 2024 г. 09:22 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 19 ноября 2024 г. 09:22 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
Для тех, кто заинтересовался, предлагаю полный перевод вступительной части "Комментированной 1001 ночи" с содержанием, иллюстрациями и ссылками. Подробно и доходчиво рассматривается история происхождения сборника сказок и роль в этом Галлана и Ханны Дияба.
|
|
|
Alex Fenrir-Gray 

авторитет
      
|
 19 ноября 2024 г. 18:38 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 19 ноября 2024 г. 18:38 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
Комментарий к рамочной истории в этой книге выглядит так:
ИСТОРИЯ О ЦАРЕ ШАХРИЯРЕ И ДОЧЕРИ ЕГО ВЕЗИРЯ ШАХРАЗАДЕ
В «Тысяче и одной ночи» Шахразада рассказывает множество историй, но ее собственная история не входит в их число. Первая сказка знакомит с испытаниями двух братьев-царей, которые считают себя жертвами шокирующих актов неверности своих жен и убеждаются в сущностной двуличности женщин после встречи с плененной невестой джинна. Страдая от сексуального предательства, царь Шахрияр игнорирует свои обязанности правителя и начинает безудержную кампанию насилия, каждый день женится и убивает новую невесту. Эта рамочная история, несомненно, шокирует тех, кто ожидает более мягкого очарования европейской сказки, и в детских изданиях «Арабских ночей» она систематически вырезалась. Однако она является ключом к фундаментальным темам, определяющим восприятие сборника на протяжении последних трех столетий.
Для западных читателей, познакомившихся с «Арабскими ночами» в первых европейских переводах, скатывание Шахрияра в мстительный гнев, угрожающий всему его царству, часто ассоциировалось с опасностями восточной тирании, а также с эротическими фантазиями о гареме. Однако другие читают этот рассказ о жестоком правлении вместе с историями из «Ночей», в которых речь идет об идеализированном халифе Харуне ар-Рашиде, чтобы более широко рассмотреть вопросы справедливости и управления в своих собственных обществах. Последний подход характерен для более поздних арабских романистов, опирающихся на сказки «Ночей». Например, в романе «Арабские ночи и дни» (1979) египетский автор Нагиб Махфуз использует мотивы из сборника сказок, чтобы создать своего Шахрияра, который научится осознавать коррумпированность своего царства и важность отправления правосудия и милосердия.
Другие критики обращают внимание на Шахрияра как на мощный символ патриархального насилия, а феминистские интерпретации «Ночей» подчеркивают вмешательство Шахразады в сюжет сказки как вдохновляющую историю о мужестве и находчивости перед лицом мужского угнетения. Ее решимость спасти свое царство, предложив себя в качестве невесты и сплетя ночную паутину историй, чтобы отвлечь и перевоспитать сломленного царя, служит образцом сопротивления, который продолжает вдохновлять читателей. В этой интерпретации Шахразада должна постепенно разрушить убеждение Шахрияра в том, что женщинам нельзя доверять, постепенно расширяя опыт царя, чтобы включить в него множество различных типов женщин, которые являются жителями «ночных» историй: верных любовниц, умных девушек-рабынь, преданных сестер, преданных матерей. Некоторые критики рассматривают этот процесс как расширенное гуманистическое образование, призванное привить Шахрияру понимание тонкостей человеческого поведения. Другие придерживаются психоаналитической модели и описывают рассказы Шахразады как уникальную форму «говорящего лекарства», предназначенного для лечения классического случая психоза.
Независимо от того, воспринимаются ли эти рассказы как привкус безумия или нет, отношения Шахрияра и Шахразады задают фундаментальное напряжение в сборнике в целом между мужскими и женскими персонажами. Некоторые истории «Тысячи и одной ночи» задают острые вопросы о нравственности женщин — например, сказки, собранные в цикле под названием «Женские козни», — но другие сказки решительно утверждают обратное и разоблачают порочность, скрывающуюся в сердцах мужчин. Ливанская писательница Ханан аль-Шайх, создавшая собственную переработку сказок, видит в «Ночах» эту постоянную борьбу полов, а не только женоненавистничество, выраженное Шахрияром в первой сказке. Сестра Шахразады Дуньязада присутствует на протяжении всех этих долгих ночей, и есть соблазн рассматривать ее как суррогат женской аудитории этих сказок. Втянутая в любовный союз со своей сестрой, Дуньязада получает собственное образование в борьбе за власть между мужчинами и женщинами и в многочисленных формах сопротивления.
Прежде всего, первая сказка «Ночей» знакомит мир с характером Шахразады, тем самым являясь одной из самых влиятельных демонстраций силы повествования в литературе. Ее пример вдохновлял целые поколения писателей, некоторые из которых решили выразить себя в аналогичных условиях угнетения и насилия. Для Марины Уорнер Шахразада — высший пример ценности писательского искусства: «Сила историй, способная ковать судьбы, никогда не была выражена так ярко и остро, как в этом цикле, в котором лезвие палаческого меча лежит на шее рассказчика» (Stranger Magic, p. 5). В «Арабских ночах» сказки становятся оружием, поддерживающим жизнь перед угрозой забвения, и А. С. Бьятт утверждает, что с этой угрозой сталкивается каждый читатель: «Все мы, подобно Шехерезаде, приговорены к смерти, и все мы думаем о своей жизни как о повествовании, с началом, серединой и концом» («Повествуй или умри»).
1. Рассказ начинается: Использование рамочных сказок для объединения нескольких историй можно увидеть в древних санскритских текстах, но имена персонажей и расположение этой сказки в эпоху Сасанидов (226-641 гг. н. э.) указывают на важность персидского контекста в генезисе этой сказки. Несмотря на это, «Ночи» не привязаны к определенной хронологии, и в последующих историях смешиваются исторические события из разных периодов.
2. Старший, Шахрияр: В этой версии вводной сказки подчеркивается сила царя Шахрияра, но другая влиятельная рукопись «Тысячи и одной ночи» (в недавнем переводе Малкольма Лайонса) придает значительный блеск характеру Шахрияра, говоря о том, что он славился справедливостью своего правления и был любим своими подданными. В этой версии последующее погружение царя в кампанию иррациональной мести против невинных женщин своего царства выглядит, пожалуй, более нелепо.
3. желал увидеть своего брата: Другая версия этой рамочной сказки (возможно, предшествующая этой) появляется в «Ста и одной ночи», другом арабском сборнике сказок. Там царь тщеславен, а юноша, вызванный к его двору, — соперник в борьбе за звание самого красивого из живущих. На ежегодном празднике царь приказывает мужчинам надеть лучшие одежды и вызывает желающих на состязание перед большим зеркалом, спрашивая своих приближенных, знают ли они человека красивее его. Сюжет завязывается, когда старый купец осмеливается упомянуть о более красивом мужчине, сыне продавца духов в далеком Хурасане (с. 3).
4. «У женщин нет верности»: Это высказывание можно рассматривать лишь как первый залп в непрекращающемся на протяжении всех историй «Тысячи и одной ночи» споре о том, кто из полов вероломнее — женщины или мужчины. Несмотря на женоненавистничество, проявляемое двумя разочарованными царями в рамочной сказке, в последующих историях представлено множество женских персонажей, опровергающих негативные стереотипы, подпитывающие гнев Шахрияра.
5. двадцать женщин-рабынь: Рабы — неотъемлемая часть общества, как оно представлено в сказках «1001 ночи». В арабских странах, где родились эти сказки, рабы имели самое разное происхождение. Они могли быть эфиопами или берберами, турками или черкесами, выходцами с Балкан или из других регионов Средиземноморья. Упоминания о рабах в «Ночах» порой отражают то, что, по мнению Мухсина аль-Мусави, является «скрытым предпочтением белой расы, предпочтением, противоречащим исламскому учению» (с. 86).
6. Она ходила среди них: Вариация на тему этой сказки, содержащаяся в «Сто и одной ночи», содержит более богатое описание царицы: «Ее тело казалось сделанным из света или имело прозрачность хрусталя. Как будто розы брали свой цвет с ее щек, а газели заимствовали свой взгляд у ее лица и глаз». Ее украшает «одежда, затканная золотом», и «корона, усыпанная различными драгоценностями». Сцена сопровождается музыкой: «Девушки-рабыни держали в руках лютни с длинными и короткими грифами, барабаны, литавры и флейты, и они начали двигаться, танцевать и размахивать руками» (с. 13).
7. десять темнокожих рабов были мужчинами: Роберт Ирвин представляет этот момент сексуальной и расистской паранойи, сосредоточенной на фигуре раба, как пример очень распространенного явления в средневековом арабском обществе, и он находит отклик в таких сказках, как «Три яблока» и «Заколдованный принц».
8. «Это наш общий жребий»: Удвоенная история царей-рогоносцев воспроизведена в «Неистовом Роланде», эпической поэме XVI века Людовико Ариосто. Когда король Джокондо прибывает ко двору своего брата Астольфо, он обнаруживает, что Астольфо также был предан своей женой, и радуется этому открытию. Повторяя схему из рамочной сказки «Ночей», два брата-короля отправляются в путешествие, чтобы узнать, существует ли такая вещь, как женская верность.
9. Хозяйка дома окликнула: Объяснения поведения безымянной царицы и ее сексуального партнера на протяжении веков сильно различались. Если в ранних прочтениях этот публичный акт сексуальной неверности рассматривался как проявление врожденной испорченности, то более поздние комментаторы, такие как Кэти Трампенер, считают действия неверных женщин в рамочной сказке «отчаянными попытками найти какую-то узкую сферу действия и свободы в мире, который поработил или сковал их» (с. 220).
10. Разум Шахрияра почти покинул его: В некоторых интерпретациях рамочной сказки предполагается, что Шахрияр действительно впал в безумие при виде предательства жены и что это необходимое объяснение его последующей кампании убийств. В своей психоаналитической интерпретации Бруно Беттельхайм утверждает, что Шахрияр символизирует человека, над которым полностью господствуют примитивные импульсы «ид», в то время как Шахразада олицетворяет контроль, осуществляемый с помощью «эго». Только через слияние этих двух начал можно вернуть благополучие в царство (с. 88-89).
|
|
|
Alex Fenrir-Gray 

авторитет
      
|
 19 ноября 2024 г. 18:39 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 19 ноября 2024 г. 18:39 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
11. Они увидели, что это был джинн: В арабской культуре джинны созданы из огня и обладают сверхъестественными способностями. Они населяют свои собственные царства, но могут жить и среди людей, хотя обычно невидимы. Они не являются ни ангелами, ни демонами христианской космологии. Генри Торренс, переводчик «Арабских ночей», утверждал, что они «смертны по своей природе и подвержены человеческим желаниям и страстям» (p. ii, n. 7). Джинны признаны в Коране, и некоторые из них могут считаться истинными мусульманами, послушными законам Аллаха. Другие восстали против Соломона, которому Бог дал власть над всеми живыми существами, и были наказаны тем, что их заключили в тюрьму или бросили в море. Некоторые джинны раскаялись перед лицом этого наказания, но другие так и остались агентами зла и нечестия.
12. Лицо, подобное луне: В арабской литературе луна считалась воплощением красоты, и она часто используется для описания человеческой красоты, как женской, так и мужской.
13. «Жемчужина среди женщин, которых я похитил»: Джинны могут быть полезными или зловредными, и в «1001 ночи» есть несколько историй, в которых джинны похищают женщину и прячут ее в каком-то отдаленном месте (см. сказки “Второй дервиш», «Принц Сайф аль-Мулук и принцесса Бадиат аль-Джамаль» и «Абу Мухаммед — лентяй»). Ульрих Марзолф и Ричард ван Левен нашли аналогию этому эпизоду, в котором женщина находится в плену и при этом находит способ заниматься сексом с другими мужчинами, пока ее хозяин спит. Похожие истории встречаются в «Океане сказаний», индийском сборнике сказок XI века, а также в персидской «Тути-наме» XIV века (Arabian Nights Encyclopedia, p. 372).
14. девяносто восемь колец: Необходимость нового перевода хорошо демонстрирует практика прошлых переводчиков в этом эпизоде — в частности, Бертона, который рассматривает украденную джинном невесту как пошлую шутку. В версии Бертона число колец равно 570. Он объясняет, что предпочитает юмор в преувеличенном количестве любовников (vol. 1, p. 12, n. 2).
15. «Он думал, что я у него в руках»: В столкновении с джинном и пленной невестой Шахрияр отождествляет себя с джинном и не замечает несправедливости, которой подверглась пленница. В своей интерпретации этой истории Джером Клинтон задается вопросом, не занимала ли жена Шахрияра положение, подобное положению невесты джинна, — «женщина, желанная как драгоценность и хранимая как вещь, которой можно наслаждаться по своему усмотрению». Он спрашивает, не чувствовала ли она себя «пленницей чудовища, чья огромная сила уязвима только в одном месте» (с. 489-90). Феминистские интерпретации этой истории рассматривают бунт пленной невесты как единственный способ самоутверждения против контроля джинна над ее телом.
16. «Никогда больше не жениться»: После того как аналогичный квест в «Неистовом Роланде» демонстрирует тщетность попыток контролировать желание молодой женщины, Астольфо и Джокондо приходят к иному выводу, чем Шахрияр: они с тем же успехом могут вернуться к своим женам.
17. «Взять мою жену и убить ее»: Жестокость рамочной сказки представляла собой серьезную проблему для авторов, адаптировавших ее для детей. Первым, кто предпринял заметную попытку создать «Арабские ночи» на английском языке для детей, был Ричард Джонсон, опубликовавший свой морализаторский пересказ под псевдонимом «Преподобный мистер Купер» в 1791 году. В отличие от некоторых детских авторов, которые вообще опускали рамку, он объяснил, что султан «нежно любил» свою жену, пока она не «предала его доверие» и не была задушена (Alderson, pp. 84-85). Детская версия Джорджа Ньюнса, изданная в 1899 году, избежала обсуждения сексуальной неверности, но создала впечатление, что первая царица Шахрияра предала свою страну иностранным врагам, а версия Хелен Марион Бернсайд, изданная в 1893 году, подразумевала, что в чем-то виновата Шахразада, а не предыдущая царица (Caracciolo, ed., p. 41)
18. Среди отцов и матерей поднялся шум: Шахрияр явно воспринимается как опасность для всего царства, нарушивший свои обязанности правителя. В рассказе тщательно показано, что разные слои общества в равной степени пострадали от бесчинств царя, а комментарии Шахразады, сделанные позднее в рассказе, свидетельствуют о том, что она понимает, что безумие царя представляет угрозу для всего народа.
19. Шахразада прочитала много книг: Описание Шахразады не фокусируется на ее физических атрибутах и не включает стандартные формулы приписывания красоты женщине. Вместо этого она демонстрирует ценность образованного ума и служит первой в ряду умных и находчивых героинь сборника сказок в целом. В другой сказке «Ночей» рабыня Таваддуд поражает двор Харуна ар-Рашида, споря с выдающимися учеными Багдада по вопросам теологии, физиологии, астрономии и философии. В своем французском переводе «Ночей» Антуан Галлан счел нужным сделать Шахразаду «совершенной красавицей».
20. «Чтобы я могла освободить свой народ»: Во многих версиях истории Шахразады акцент делается на ее личной опасности. В этом переводе ясно, что ее цель — не просто пережить еще один день, увлекая Шахрияра захватывающей историей, а освободить свое царство от угрозы, исходящей от его правителя, даже ценой собственной жизни. Интригующим остается вопрос, была ли она сама готова убить Шахрияра, если бы ее уловка с рассказом потерпела неудачу. Роз Балластер описывает Шахразаду как «государственную героиню», которая рискует жизнью ради восстановления благополучия своего царства (с. 85).
|
|
|
Alex Fenrir-Gray 

авторитет
      
|
 19 ноября 2024 г. 18:40 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 19 ноября 2024 г. 18:40 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
21. Сказка об осле и быке: Визирь не верит в способности своей дочери, и эта встроенная история призвана продемонстрировать ее глупость. Подобная «поучительная вставка» — самое простое из многочисленных оправданий сюжета в «Тысяче и одной ночи», но не самое распространенное.
22. Его научили языку зверей: Другой арабский сборник рассказов периода Аббасидов, «Калила и Димна» (версия индийской «Панчатантры»), включает в себя басни о животных, взятые из индийского текста, организованные как уроки для царя. Вероятно, эта история имеет схожие корни. Миа Герхардт утверждает, что такого рода сказки с участием животных относительно редки в «Ночах» (с. 283-84).
23. Под ударами человека он попытался схитрить: Животное использует свою хитрость (makr), чтобы отказаться от власти торговца. Сил указал на самое раннее значение слова ruse- «уловка, уклоняющееся движение загнанного животного» — как на остроумное описание «Ночей» в целом. «Ночи» — это длинная уловка: Шахразада использует хитроумные средства, чтобы спасти свою жизнь».
24. «И ты, моя девочка»: Визирь доносит до читателя предполагаемый урок своей истории, но Джером Клинтон сомневается, насколько убедительным он может быть. Трудно понять, как мораль этой истории применима к решению Шахразады выйти замуж за Шахрияра. Визирь апеллирует к мелким корыстным интересам, в то время как Шахразада явно готова рискнуть смертью ради достижения своих целей.
25. оставил жене и детям причитающуюся им долю: Эти подробности о том, как следует готовиться к смерти, можно истолковать как способ напомнить слушателям об их обязанностях в исламе. Освобождение раба считалось для мусульман достойным поступком. Джек Зипс считает, что одной из целей сказок «Арабских ночей» было приобщение слушателей к мусульманским обычаям и законам путем включения подобных деталей (с. 587-88).
26. «Он должен взять дубовую ветвь»: И снова рассказ визиря выглядит неудачным, когда он представляет себе Шахразаду в роли женщины, требующей дисциплины. Его предложение заставить ее повиноваться или подвергнуться жестокой расправе, похоже, свидетельствует о том, что он либо не знает характера своей дочери, либо еще не столкнулся с реальностью ситуации.
27. «Не пытайтесь произвести на меня впечатление»: Шахразада уверенно отвергает слабые попытки отца отговорить ее от действий и заявляет о превосходстве своего умения рассказывать истории. Она быстро показывает, что способна на более страшную угрозу, когда обличает визиря в его собственном лицемерии — он посылает молодых женщин на смерть, защищая при этом собственных дочерей. Шахразада отказывается пользоваться той же властью, которая терроризирует и убивает других женщин.
28. «Когда я буду у царя, я пошлю за тобой»: Заговор между сестрами — важная часть рамочной сказки и источник вдохновения для последующих писателей. Марина Уорнер пишет, что отношения сестер «казались самой полной метафорой любви против смерти, выраженной через союз девушек против мужчин, имеющих над ними власть» (с. 5). Роуз Балластер рассматривает эти сестринские отношения как источник политической власти для таких авторов XVIII-XIX веков, как Джейн Остин (стр. 93-96). Джеймс Джойс, на которого оказали сильное влияние «Арабские ночи», также упоминает этих «неразлучных сестер, неконтролируемых ночных болтушек» в своем романе «Поминки по Финнегану».
29. «И Дуньязада сказала: «Да»»: Присутствие Дуньязады в царской опочивальне вызывало некоторое смущение у Антуана Галлана, и он постарался в своем переводе объяснить порядок, приемлемый для читателей XVIII века: султан и Шахразада будут спать на кровати в алькове, поднятом высоко над землей (согласно восточным обычаям), а Дуньязада — на кровати у самого подножия алькова. В рамочной сказке «Сто и одной ночи» именно Дуньязада выходит замуж за Шахрияра, а ее сестра Шахразада сопровождает ее в брачные покои, и именно Дуньязада приказывает сестре рассказать историю, не дожидаясь разрешения царя.
30. «И она сказала: «Слушай»»: Когда в «Сто и одной ночи» приходит время царю убить Дуньязаду, она говорит: «Шахразада, сестра моя! Приди и расскажи царю одну из своих прекрасных историй», и она отвечает: «Иду» (с. 21).
|
|
|
Alex Fenrir-Gray 

авторитет
      
|
 19 ноября 2024 г. 18:42 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 19 ноября 2024 г. 18:42 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
ЭПИЛОГ ИСТОРИИ (ИЗ ВЕРСИИ ГАЛЛАНА)
1. Султан Индии: Этот эпилог к рассказу, который, возможно, был создан Галланом или его издателем, представляет собой попытку подвести итог истории «Ночей». Представление о том, что истории Шахразады рассказывались не только для того, чтобы отвлечь султана от планов убийства его жен, но и чтобы исцелить его дух и научить его тому, что в мире есть женщины, обладающие остроумием, мужеством и верностью, появилось благодаря таким дополнениям к сборнику рассказов, как это.
2. «Ты будешь известна тем, что освободила всех девушек»: Победа Шахразады провозглашена, поскольку она не только справилась с угрозой, нависшей над ней, но и спасла свое царство. Искушение переписать эту концовку породило множество 1002-х ночей на протяжении трех столетий. В 1796 году Энтони Гамильтон в книге "История майского цветка» предположил, что у Шахразады закончились сюжеты и ее сестра Дуньязада должна была заменить ее. Обладая большим политическим чутьем, Дуньязада успешно заключает пари и выигрывает жизнь своей сестры. В XIX веке Теофиль Готье также представлял себе, что у Шахразады закончились истории, но сказка, которую рассказывает ей рассказчик, приводит ее не к спасению, а к гибели. В пересказе Эдгара Аллана По, написанном в 1845 году, Шахразада оставляет восточные фантазии, чтобы поведать о технологических чудесах современного мира (пароходы, телеграф, счётные машинки), но ее преследует муж, который с автоматическим подозрением относится к женщине, осмелившейся войти в рациональный мир современного человека. Другие писатели представляют себе, что Шахразада выживает, но не с тем счастливым концом, о котором фантазировали во Франции начала XVIII века. В романе Нагиба Махфуза «Арабские ночи и дни» Шахразада в начале романа освобождается от угрозы смерти со стороны мужа, но это пиррова победа, поскольку цапство по-прежнему погрязло в крови и коррупции. И, возможно, самые решительные защитники Шахразады просто отказываются признать, что истории должен прийти конец. Пересказ Ханан аль-Шайх заканчивается именно там, где начинается: с наступлением ночи слова Шахразады берут верх, а ее истории становятся «ее щитом от меча, нависшего над ней, как предзнаменование рассвета» (с. 288).
3. султана и его жену от всех их подданных: вероятно, более ранний вариант сказки в «Сто и одной ночи», в котором царь женится на Дуньязаде, а она зовет Шахразаду с собой, имеет счастливый конец: «И так каждую ночь она рассказывала свои истории, пока не прошло сто и одна ночь и Динарзад не забеременела от царя. Он заверил их обоих в безопасности, и Шахразад перестала приходить к нему» (Fudge, A Hundred and One Nights, p. 23).
Другие версии финала — из Бреслау или Калькутты-2 здесь не рассматриваются. Возможно, как слишком поздние. Может быть дальше что-то будет про это написано.
|
|
|
Alex Fenrir-Gray 

авторитет
      
|
 20 ноября 2024 г. 08:41 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 20 ноября 2024 г. 08:41 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
Роберт Ирвин в книге "Жажда познания — ориентализм и его враги" пишет о Петре I :
Если в большинстве стран Европы востоковедение застопорилось, то в России оно только начиналось, и если мы хотим установить тесную связь между ориентализмом и империализмом, то, конечно, в первую очередь следует обратиться к России. Истоки русского ориентализма весьма любопытны — ведь они начинаются с Кунсткамеры, кабинета диковинок, собранного Петром Великим (1672-1725). Как известно, Петр был полон решимости модернизировать свою империю и покончить со средневековыми взглядами и обычаями, которые были препятствием для торгового и военного прогресса. (Интересно отметить, что поддержка Петром преподавания и издательского дела на латыни была частью великого модернизационного проекта). В 1697-8 годах Петр совершил «Великое посольство» в Западную Европу, где изучал кораблестроение, горное дело и многое другое. Среди прочего его поразила роль, которую играли на Западе кабинеты курьёзов в систематизации знаний и стимулировании исследований. Посетив несколько голландских коллекций диковинок и произведений искусства, по возвращении в Россию он начал собирать их сам. Его агенты рыскали по Европе, скупая не только отдельные диковинки, но и целые коллекции подобных вещей. Кабинет диковинок Петра Великого был открыт для публики или, по крайней мере, для тех представителей общества, которые могли сойти за джентльменов или дам. Кавалеры могли осмотреть живого карлика, живого гермафродита, зубы слонов Александра, рукописи на экзотических языках, чучела чудовищ и великолепные клады скифского золота. Таким образом Петр надеялся наставлять своих варварских русских подданных. С 1724 года коллекция находилась в ведении Петербургской Академии наук, и со временем Кабинет диковинок превратился в полноценный музей Академии наук. Большая часть его содержимого была передана в Азиатский музей, открытый в 1818 году, а Азиатский музей, в свою очередь, стал ядром Института востоковедения.
Одновременно с обучением своих подданных Петр стремился пополнить их число. В Средней Азии и на Кавказе Россия приобретала империю, населенную преимущественно мусульманами, и было очевидно, что для более эффективного управления этими мусульманами необходимо лучше понимать ислам. В 1702 году была создана специальная школа для изучения восточных языков. В 1716 году Петр перевел Коран с французской версии Дю Риера. Петр также заказал работу Дмитрия Кантемира «Книга систима или состояние мухамеданской религии» (1722). Он отправил пятерых ученых в Персию для изучения восточных языков. По мере расширения России в исламских землях она получала все больше материалов для изучения Востока, и, например, взятие Дербента на Кавказе (1722) привело к притоку восточных рукописей в Петербург
|
|
|
Alex Fenrir-Gray 

авторитет
      
|
|
Alex Fenrir-Gray 

авторитет
      
|
 10 января 04:26 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 10 января 04:26 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
Роберт Ирвин в книге "Жажда познания — ориентализм и его враги" излагает историю советского востоковедения таким образом:
Массиньон участвовал в колониальном предприятии Франции в Северной Африке. Снук Хургронье провел большую часть своей жизни на службе голландского колониализма. Однако если вы хотите в полной мере и должным образом рассмотреть отношения между ориентализмом и империализмом, то вам следует обратиться к России с ее огромной империей мусульманских подданных на Кавказе и в Центральной Азии. Ни одна история ориентализма не может считаться серьезной, если в ней полностью игнорируется вклад русских. В первый год двадцатого века в Санкт-Петербурге был основан Императорский восточный институт. Виктор Розен был в то время доминирующей фигурой и учителем Бартольда и Крачковского, двух крупнейших русских ориенталистов начала XX века и хранителей докоммунистической традиции учености.
Согласно Большой советской энциклопедии, Василий Владимирович Бартольд (1869-1930) получил буржуазное воспитание и поэтому придерживался идеалистической концепции исторических процессов (*67). Хотя он уделял много внимания классовой борьбе, он не был коммунистом. Он оставался идеалистом, склонным делать акцент на идеологических, а не материальных факторах. Он был прежде всего тюркологом, склонным к позитивной картине досовременной тюрко-монгольской культуры, и поэтому подвергался нападкам со стороны ортодоксального коммунистического востоковеда Петрушевского за его «расистско-националистическую идеализацию тюрко-татарских кочевников». Более того, его взгляды на экономические последствия монгольских нашествий «не могут быть приняты советской историографией». (Бартольд утверждал, что рассказы о разрушениях и дикости монголов в XIII веке преувеличены и что в некоторых отношениях монгольская оккупация средневековой Руси имела благоприятные результаты (*68)) Большая советская энциклопедия вторила Петрушевскому и постановила, что недостаточно «учитывается тот факт, что монгольское завоевание привело к разрушению производительных сил и длительному порабощению покоренных народов». Коммунистический ориенталист Беляев назвал книгу Бартольда «Мир ислама» ценным вульгаризаторским трудом, «несмотря на то, что она написана с позиций европейского буржуазного ориентализма». Смирнов, другой коммунистический ученый, осудил Бартольда за то, что тот не рассматривает ислам как идеологию и не в состоянии выявить классовую природу ислама и «тот факт, что он всегда и везде служит орудием эксплуатации и принуждения трудящихся масс». Книги Бартольда были на некоторое время запрещены советскими властями, но затем переизданы в 1960-х годах с исправленными аннотациями. Хотя основная работа Бартольда была связана с турецкими материалами, он был также арабистом и, например, в статье «Коран и море» утверждал, что упоминания моря в Коране не могли возникнуть из еврейских источников.
Старомодное научное уважение Бартольда к фактам и его буржуазный идеализм вызывали огромную критику со стороны более слабоумных или идеологически заблуждающихся коллег. Тем не менее, международная репутация спасла его от потери преподавательского поста или чего похуже. То же самое можно сказать и о его современнике Игнатии Крачковском (1883-1951) (*69). Еще школьником, помешанный на книгах Крачковский пытался выучить арабский по грамматике де Саси, а затем начал изучать язык с Виктором Розеном. В относительно свободные и легкие последние дни старой Российской империи Крачковский выезжал в Ливан и Египет, где у него появилось много друзей среди арабской интеллигенции. После большевистской революции все стало гораздо сложнее, и он узнал, что директор библиотеки, в которой он работал, умер от недоедания. Хотя Крачковский часто подвергался нападкам со стороны своих более молодых коллег из-за старомодности своей учености и подозрительных контактов с зарубежными ориенталистами, он выжил — но лишь ненадолго. Он страдал от «буржуазного» недостатка — слишком много внимания уделять иностранной науке и тем самым преуменьшать славные достижения русских в этой области. Он считал, что арабист должен знать английский, французский и немецкий языки, «а также итальянский, потому что со второй половины нынешнего столетия сочинения на этом языке на арабские темы заняли место в авангарде ученой литературы». Желательно также знать испанский, если собираешься изучать арабов в Испании (*70). В 1930 году он пригласил Массиньона в Россию с визитом академической доброй воли и, как следствие, попал в тюрьму на девять месяцев, поскольку советские власти решили, что Массиньон действительно шпион. Крачковский, часто подверженный депрессиям, был склонен укрываться в малоизвестных восточных книгах и рукописях. Во время жестокой блокады Ленинграда в 1941 и 1942 годах он заведовал Ленинградской академией и погрузился в рукопись «Нафх аТ-Тиб» аль-Маккари (рассказ XVI века о былом величии мусульманской Испании).
«Мое сердце опечалено. Тени учителей не скрывают от нас тени наших учеников, ушедших из жизни раньше нас. Многих из них я вижу — жизнь, полная лишений и двух разрушительных войн, срубила молодые побеги до их расцвета, и не всем было дано достичь полного расцвета. Но все они вступили на путь познания и почувствовали его очарование. Для них, как и для меня, рукописи говорили на языке живых, и они приходили ко мне с найденными сокровищами» (*71). Эти меланхоличные размышления пришли в конце его мемуаров о жизни в ориентализме. Немногие ориенталисты писали автобиографии (заметными исключениями являются Денисон Росс, Андре Микель и Максим Родинсон). Как заметил Крачковский, «ученые редко рассказывают о себе, своем развитии, эмоциях, которые сопровождали их работу, и обстоятельствах, в которых они совершали свои открытия». Книга Крачковского «Над арабскими рукописями» (1945, английский перевод 1953), несмотря на частые упоминания о трудностях и депрессии, является самым восхитительным примером этого жанра.
Крачковский был невероятно плодовит и переходил от темы к теме. Как и Гамильтон Гибб, он проявлял огромный интерес к модернистским и реформистским движениям на Ближнем Востоке и к современному арабскому роману. Однако главным его трудом стала обширная работа о средневековых арабских географах, опубликованная на русском языке, но впоследствии переведенная на арабский и используемая до сих пор (*72). Он также подготовил русский перевод Корана с арабского. (Все предыдущие русские «переводы», кроме одного, были сделаны с европейских языков). Как уже отмечалось, он пользовался международной репутацией. Однако настало время обратиться к некоторым из его менее уважаемых и порой довольно странных коллег и преемников.
Советские востоковеды находились на службе у империи с огромным количеством мусульман. В 1917 году большевистский режим издал декрет, гарантирующий мусульманам свободу совести. В 1921 году Научная ассоциация российских востоковедов провозгласила: «Москва — это новая Мекка, это Медина всех репрессированных народов». Однако, несмотря на честные обещания, ислам был развенчан в советских музеях атеизма, а советские востоковеды были привлечены к борьбе с исламскими суевериями. Также велась ожесточенная кампания против использования арабской письменности. Ее называли письмом реакционных мулл и суфиев, а также попрекали тем, что она не очень хорошо приспособлена для передачи тюркских языков. Владение книгами на арабской графике могло привести к смертному приговору — Исламская культура и социальные структуры были тем, от чего нужно было отучить мусульманские народы. В целом советская ортодоксия заключалась в том, что исламское общество должно было пройти пять стадий: первобытное общество, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое и марксистское социалистическое (*73).
Жизнь Пророка и первый век ислама подвергались особенно ожесточенному изучению со стороны советских востоковедов. Некоторые ученые довольствовались лишь тем, что представляли возникновение ислама в определяющем экономическом контексте. Например, Е. А. Беляев признавал, что Пророк был исторической фигурой. В его работе «Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье» большое внимание уделяется роли физической среды в возникновении ислама. Если говорить более конкретно, то ислам был религией, возникшей в интересах рабовладельческой меркантильной буржуазии Мекки и Медины. Коран не был открыт Пророком, а был придуман после его смерти. Раннее исламское общество совершило переход от рабовладельческого патриархального общества к более развитому феодализму. Беляев подчеркивал значение гетеродоксальных и революционных движений раннего исламского периода, таких как маздакиты и хариджиты, и был горячим, хотя и запоздалым, сторонником чаяний трудящихся масс раннесредневекового Ближнего Востока, которые, по его мнению, представляли эти движения. Он также подчеркивал разрушительный характер ранних арабских завоеваний (*74). (Обличение вторжений кочевников, будь то арабских, турецких или монгольских, было рутинной обязанностью советских ученых). Хотя Беляев старался игнорировать как европейские, так и арабские исследования в своей области, поскольку они неизбежно были идеологически запятнаны, некоторые его коллеги все же осуждали его за слишком большое внимание к подобным материалам.
Некоторые советские востоковеды придерживались гораздо более разрушительного подхода к исламской истории. Климович написал статью «Существовал ли Мухаммед?», в которой ответил на поставленный вопрос отрицательно. Все источники о жизни пророка были поздними и сомнительными. В книге «Содержание Корана» (1928) Климович стремился обнажить его внутренние противоречия. Он утверждал, что это документ, составленный от имени эксплуататоров — меркантильной буржуазии Мекки и Медины, — обещавший эксплуатируемым массам рай в загробном мире, который и был главной силой ислама (*75). Пророк был бэкформацией — фигурой, придуманной задним числом, чтобы дать религии основателя. Н. А. Морозов пошел еще дальше и утверждал в книге «Христос» (1930), что до потрясения крестовых походов ислам и иудаизм были неотличимы друг от друга. В Коране есть указания на то, что он был написан уже в одиннадцатом веке. Ислам не мог зародиться на Аравийском полуострове, поскольку он находился слишком далеко от основных центров цивилизации, чтобы дать начало новой религии. Мухаммед и первые халифы были всего лишь мифическими фигурами. Непоследовательно Морозов, предположив, что ранний ислам не отличался от иудаизма, сделал вывод, что ранний ислам был всего лишь версией христианской арианской ереси (*76). (Ариане отрицали, что Христос был полностью божественным или единосущным Богу-Отцу). Разумеется, никто из советских ученых не принял традиционную мусульманскую точку зрения на происхождение ислама. Единственная существенная дискуссия велась по вопросу о том, является ли возникновение этой религии триумфом буржуазии или она отражает более раннюю фазу исторической эволюции, переход от рабовладельческого общества к феодальному.
|
|
|
Андреуччо 

авторитет
      
|
 28 января 23:29 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 28 января 23:29 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
Мой диалог с ИИ
— Где похоронен Харун ар Рашид?
— Харун ар-Рашид, пятый халиф из династии Аббасидов, был похоронен в городе Тус, расположенном на территории современного Ирана. Тус был важным культурным и политическим центром в то время. Точное место его захоронения может быть связано с мавзолеем или мечетью, но детали могут быть утеряны или неоднозначны из-за давности событий. Если вас интересует более подробная информация, стоит обратиться к историческим источникам или исследованиям по исламской истории.
— Могила Харуна ар Рашида известна науке. где находится могила?
-
Могила Харуна ар-Рашида, пятого аббасидского халифа, действительно известна историкам и находится в **современном Мешхеде (Иран)**. Это связано с тем, что Мешхед вырос на месте древнего города **Тус**, где халиф скончался в 809 году во время военного похода.
### Ключевые детали:
1. **Исторический контекст**:
Харун ар-Рашид умер в Тусе (персидская провинция Хорасан) и был похоронен в районе **Санабад**, который позже стал частью Мешхеда. Его сын, халиф аль-Мамун, в 818 году распорядился похоронить рядом **имама Резу** (8-го шиитского имама), что превратило это место в важный религиозный центр.
2. **Современное расположение**:
Сегодня могила Харуна ар-Рашида находится **в комплексе святыни имама Резы** в Мешхеде. Однако её часто затмевает грандиозный мавзолей имама Резы — главный объект паломничества шиитов.
3. **Архитектурные особенности**:
Захоронение халифа сохранилось, но оно менее заметно в сравнении с золотыми куполами и минаретами святыни имама. Точное место можно найти в западной части комплекса, хотя детали могут различаться в зависимости от источников.
4. **Значение для истории**:
Интересно, что Харун ар-Рашид, будучи суннитом, оказался погребённым рядом с шиитским имамом, что отражает сложные религиозно-политические отношения той эпохи.
Если вы планируете посетить это место, ориентируйтесь на **Мешхед** — второй по величине город Ирана и центр паломничества. Комплекс святыни имама Резы открыт для туристов, но могила Харуна ар-Рашида может потребовать дополнительных уточнений на месте.
|
|
|
Андреуччо 

авторитет
      
|
|
Samta Claus 

новичок
      
|
 31 января 03:56 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 31 января 03:56 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
Немного на тему кочующих сюжетов, арабских сказок, древнегреческих мифов и истории как таковой.)
Дена Брауна, наверное, читали же?
И про Дом мудрости и про движение переводчиков слышали наверняка 9 век Багдад.
Потому как понадобятся разные языки.
Историческая справка
Анна Ярославна Французская -11 век, с её именем связано Реймское Евангелие на славянком языке написанное глаголицей, на котором присягали французские короли начиная с Генриха III сына Екатерины Медичи.
Османская Оттоманская империя — Высокая Порта, Блистательная порта. Происходит от ворот канцелярии Султана в Стамбуле (Константинополе)
Что связывает эти два понятия?
Герб Анны Ярославны — там справа от геральдических лилий тоже Врата.
Что связывает эти понятия с Галланом и арабскими сказками?
Оказывается дверь по французски — порта, а на османском Баб-и-Али — как Али-Баба, но наоборот.
Али Баба в прямом переводе, вероятно, Отец Али (как самый известный и почитаемый Али у арабов) это Али Абу Талиб четвертый праведный имам племянник и зять пророка.
А жена Али-Бабы — Зенаб — это река Сена на которой Париж, от немецкого -Зейн — Сена.
По странному стечению обстоятельств основатели Священной Римской империи (Германия) были Оттоны, схожие с Отто_манами))
Однако это не все совпадения.
Но тут нужна ещё одна справка.
Дело в том, что Омеядский халифат разделился на западный и восточный в 8 веке кажется
Западный это Кордобский в Испании рядом с Францией откуда позже в Европу пришли арабская алгебра, философия, теология и тп.
Моисей бен Маймон и много ещё кого.
Восточный это Аббасидский, Багдад. Дом Мудрости, переводчики, Харун ар Рашид.
Брат Али-Бабы — Касым, которого разбойники повесили в пещере и его богатая жена Фатима.
Это Северная Африка и Фатимидский халифат — Александрия.
Касым — тут сложнее, поскольку речь идёт о богатстве Фатимы (Фатимиды), то возможно это дом Медичи, от имени основателя Cosimo.
Дом Медичи, вдруг стал самым богатым в Европе, происхождение начального капитала туманно. (Но есть версии))
Пещера это Киев, то что сейчас называется Киево-Печерской (от пещер) Лаврой.
От английского — Cave — пещера.
Сокровища сорока разбойников — книга завета. То самое Реймское Евангелие (возможно)
От завет, наказ, нарок — анаграмма коран. Сорок по французски — Куран (Курант) как и Коран по арабски.
Также связь понятий сокровища и рукописей через — алтын — золото и анаграмма — latin "мёртвый" язык западной Европы, точнее язык алхимиков и богословов.
Sesam — анаграмма Moses — Моисей, ветхозаветный персонаж и Моисей из Кордобы, который в 12 веке собственно и написал первые толкования Ветхого завета (Кодификация Торы) — Маймонид, Моше бен Маймон. Именно он объяснял аллегоричность библейских текстов — то есть "открыл дверь".
Можно ешё про "Аргонавтов" и руно из Колхиды, там где Кура))
|
|
|
Samta Claus 

новичок
      
|
 31 января 14:48 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 31 января 14:48 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
цитата morozov53Так что, не пригодилось упоминание maqbart al-Baqῑʽ (именно такая транскрипция, это очень важно, в одном словаре даже дано al-Buqayʽ)
Когда то давно запомнилась странная на первый взгляд фамилия киевского митрополита — Пётр Могила. Историки этимологически связывают её со словом мова (украинский язык) от фамилии Мовилэ. Далее обнаружился там же ещё один персонаж с фамилией Тризна (поминальная трапеза).
И так как давно интересуют философские аспекты смыслов — живое слово, мёртвое слово, воскресение слова.
А так же вопросы мировой истории и миграции смыслов,
то я не смог пройти мимо вашей транскрипции))
Она вызывает сразу две ассоциации с городом Баку и с родом шотландских Макбетов.
Интересно, что название Аль Баки связано с еврейским деревом Гарад. Баки аль Гарад (как это перевести?)
Что у нас известно как Тамариск или Гребенщик, так же божье дерево или жидовильник.
Баку же связано с именем Тамары, с Шемаханью и Ширваном.
Помните Пушкина и Шемаханскую царицу?
Как известно с религиозной терпимостью в разные времена не всегда всё было хорошо.
И возможно это как раз случай миграции из Медины с берегов Красного моря на Кавказ (Шемаха) людей, книг и смыслов.
То есть евангельская аллегория — "пусть мёртвые хоронят своих мертвецов", в данном историческом контексте может выглядеть так:
могилы и мертвецы остались в Аравийской пустыне, а их знания и книги перекочевали на Кавказ.
Там место хранения-захоронения наследия и знаний — Баку.
Связь Шотландии с арабским миром также обширна и многогранна, если присмотреться к деталям ("Арабский кошмар" тут уже упоминали)
Например в британских хрониках написано, что "бриты пришли из армении", хотя "толкователи" объясняют это ошибкой переписчика.
Можно вспомнить, что главный эпос это король Артур, и представить что это анаграмма — Урарт.
Или кавказская Албания и Альба — так называется Шотландия на валийском языке, а валийцы — потомки бритов, тех что с армении.)
Ни кто не объясняет как басский язык (очень схожий с грузинским) оказался на северном побережье Франции и Испании.
И почему Иберийский полуостров называется так же как Иверия (Грузия). А это тоже про Царицу Тамару.
Ну кроме греческого мифа об Аргонавтах)) |
|
|
Вадимыч 

авторитет
      
|
 31 января 15:06 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 31 января 15:06 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
сообщение модератора Samta Claus, название темы находится в начале каждой страницы. Эта тема озаглавлена: Тысяча и одна ночь.
Всё, что не по теме — оффтоп и флуд, т.е. предупреждение с занесением в протокол.
Пока Вам устное предупреждение (как новичку). Если Ваши пространные "отовсюду, обо всем" повторятся — получите письменное.
На ФАНЛАБе довольно строгий регламент, просьба его не нарушать.
|
|
|
Alex Fenrir-Gray 

авторитет
      
|
 7 февраля 08:41 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 7 февраля 08:41 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
Историк культуры Марина Уорнер написала необычную книгу "Чуждая магия" о влиянии магического мышления "1001 ночи" на современную культуру.
Об авторе
Марина Уорнер провела свои ранние годы в Каире, получила образование в Брюсселе и Лондоне, а затем изучала современные языки в Оксфорде. Она является всемирно известным историком культуры, критиком, романистом и автором коротких рассказов. От своих ранних книг о Деве Марии и Жанне д'Арк до ставших бестселлерами исследований сказок и народных историй «От чудовища до блондинки» и «Не гони бугимена», она исследует различные фигуры в мифах и сказках, а также искусство и литературу, на которые они вдохновили. Она много читает лекций в Европе, США и на Ближнем Востоке, а в настоящее время является профессором кафедры литературы, кино и театроведения Эссекского университета. В 2008 году ей был присвоен титул CBE (коммандор ордена Британской Империи). www.marinawarner.com
О книге
Магия — это не просто оккультные искусства, а целый образ мышления, мечта о невозможном. Как таковая она обладает огромной силой, открывая сознанию новые сферы достижений — воображение предшествует факту. Раньше оно ассоциировалось с мудростью, пониманием сил природы и технической изобретательностью, позволяющей людям делать то, о чем они раньше и не мечтали.
Высшим образцом такого магического мышления являются «Арабские ночи» с их летающими коврами, спрятанными сокровищами и внезапными откровениями. Переведенная на французский и английский языки в начале эпохи Просвещения, эта книга стала бестселлером среди интеллектуалов, когда в арабском мире о ней еще думали как о простом сборнике народных сказок. Для мыслителей Запада необычность книги открыла видения трансформации: мечты о полетах, говорящих предметах, виртуальных деньгах и силе слова, способной принести перемены. Ее сказки создают поэтический образ невозможного, притчу о тайном знании и силе. Прежде всего в них есть очарование странного — вера в то, что истинное знание лежит где-то в другом месте, в таинственном царстве чудес.
В рамках своего исследования пророческих чар «Ночей» Марина Уорнер пересказывает некоторые из самых удивительных и менее известных историй. Она исследует фигуру темного мага или волшебника, от Соломона до злого дяди в «Аладдине»; сложную витальность джиннов, или гениев; метаморфозы животных и летающие ковры. Ее повествование показывает, что магическое мышление, переданное в этих историях, управляет многими аспектами опыта даже сегодня. В этом отношении Восток и Запад ведут плодотворный диалог. Писатели и художники всех направлений нашли себя, приняв восточное обличье. С поразительной оригинальностью и безупречным исследованием эта новаторская книга показывает, как магия в самом глубоком смысле помогла создать современный мир и как глубоко она все еще вписана в образ нашего мышления сегодня.
|
|
|
Alex Fenrir-Gray 

авторитет
      
|
 7 февраля 08:44 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 7 февраля 08:44 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]
|
|
Вот фрагмент из вступительной части о структуре этой книги:
Название этой книги — «Чуждая магия» — намекает на знаковый характер «Ночей» как произведения фантазии, наполненного сверхъестественными и незнакомыми чудесами и основанного на чарах. Но оно также обращает внимание на чужеродность многих чародеев, которые с тех пор сформировали образы экзотических магов в популярной культуре — фокусники, медиумы, крестные феи и короли гоблинов отдаляются друг от друга после «1001 ночи», приобретают тюрбаны, остроконечные шляпы и другие восточные черты (не вдохновлена ли шляпа со шпилькой у мага одеждой дервишей, которые играют активную роль в «Ночах»?). Название также подразумевает, что существует форма магического мышления, которая является «чуждой» не потому, что незнакома, а потому, что скрыта и отрицается. Если мы столкнемся с его проявлениями в обычных современных процессах, мы сами покажемся себе чуждыми. Запечатленный, но скрытый под фантастическими интригами «Ночей», водяной знак, придающий смысл способам иррационального мышления по отношению к современному опыту, — это то, что подразумевается под «представлением перед нашими глазами интуитивным образом факта, внутренней фигуры, внешнего мира». (*58)
Незаметное и все же повсеместное, магическое мышление является структурным для наименований и языка, представлений о себе и собственности, а также для визуального воплощения, как давно поняла и передала литература воображения. В то же время динамика повествования в «Альф Лайла ва-Лайла» опирается на другую форму магического мышления. В ней писательница/сказительница предстает, во-первых, как Шахразада, чье искусство предотвращает падение бед на ее собственную голову и на всех ее сестер под угрозой султанского указа и тем самым наделяет сам сюжетный цикл чарующей силой. Но, во-вторых, «Ночи» вдохновляют на размышления о писательстве и создании литературы как о формах обмена во времени – воображаемых путешествиях, в которых создатель сливается с тем, что создается, пока артефакт не обретает в ответ свою собственную силу создания. Оба эти принципа отходят от распространенного представления об искусстве как мимесисе, представляющем мир убедительным, правдивым образом, и вместо этого делают акцент на агентности литературы. Истории не обязательно должны сообщать о реальной жизни, но прокладывать путь к изменению опыта ее проживания.
Все думают, что знают эти истории (я знала, пока не начала эту книгу). Но запутанная история «Ночей» означает, что эти рассказы все еще не так легко найти в удобочитаемой (или доступной) форме. Некоторые из них известны гораздо лучше благодаря сцене и экрану, пантомиме и опере, поговоркам, пословицам, оформлению коробок с турецкими лакомствами и сотням рекламных объявлений о местах отдыха. Но многие из рассказов известны не очень широко и даже не очень доступны, поэтому вместо того, чтобы предполагать наличие знаний (которых и у меня самой не было), я изложила — в очень сжатом виде — пятнадцать историй для удобства пользования и разместила их в книге.
Часть I, «Соломон — мудрый царь», посвящена чарам в рассказах, джиннам и пери, их путям, среде обитания, силе и проявлениям; часть II, «Темные искусства и странные боги», исследует магов — особенно магов, или колдунов «Ночей», — и их практики, включая алхимию, астрологию и гадание по снам. Отношение менялось в зависимости от религии и философии, и «Ночи» показывают, как гетеродоксальная магия была экзотизирована, изгнана за пределы страны и приписана чужакам, в соответствии с моделью, которая также закрепилась в Европе после XVIII века (Фауст — житель Германии, но Дарт Вейдер или Саурон...). Однако последние события, включая повышение статуса сказки, отраженное в успехе «Арабских ночей», переосмыслили прежнее колдовство как шаманское и благодетельное. Часть III, «Активные предметы», обращается к некоторым отличительным локусам магического мышления, выраженным в «1001 ночи», и исследует зачарованные артефакты богатой торговой культуры, а также соответствия между зачарованными состояниями и магическим мышлением в сказках и событиями в современном опыте. «Ночи» — это сказки о собственности, в которых вещи буквально живые, чувствующие и действенные. Вещи разговаривают, а Османская империя стала понятной благодаря своим артефактам. Я спрашиваю, имеют ли наши современные устройства отношение к другим классам предметов, которым приписывалась власть, таким как реликвии, фетиши и талисманы. Является ли поведение вещей в историях, парадоксальным образом, проясняющим нечто для нас сейчас? Часть IV, «Восточные маскарады», посвящена реакции писателей и других творческих личностей на «Ночи» вскоре после появления книги в печати. Отсюда вытекает мой второй главный аргумент — жанр надуманных нелепых историй, который представляют собой «Ночи», создал идеальный форум для другого вида свободы — свободы воображения. Фантазия позволяла им проводить мысленные эксперименты — отправляться в полеты разума.
Строго говоря, такие фантастические повествования XVIII и начала XIX века принимают форму антифэнтези, подобно тому, как городские сказки Салонньера так часто являются насмешкой над сказками. (*59) Это можно назвать эффектом шпильки — направление насмешки поворачивается обратно на себя, и улыбка удивления сменяется улыбкой насмешки.
Хотя многие писатели, подобно Вольтеру, переняли модальность «Ночей», высмеивая и преувеличивая ее в явном духе легкомыслия, они также использовали этот шанс для буйной игры воображения, чтобы представить себе, как это делает сама Шахразада в этих историях, различные режимы власти, раскрепощенную эротику и пророческие технологические инновации. В этом отношении они уловили глубинную динамику книги — своими рассказами Шахразада убеждает тиранического султана одуматься.
Для поколения, пришедшего после философов, восточные чары имели другую, более мрачную привлекательность: если Вольтер заострял сатиру на их нелепости, то такие писатели, как Уильям Бекфорд и Иоганн Вольфганг Гете, находили в них почву для более личных, сексуальных и эмоциональных свобод. Проекция на фантастический Восток также делала девиантность более безопасным местом. Заряженное воображение Бекфорда наполняет «Ватек» и многие другие, менее известные его сказки; о нем обычно говорят, как об эксцентричной, маргинальной фигуре, но его дикие и жестокие фантазии показывают, как «Арабские ночи» теперь предлагали пространство для психологического нонконформизма — для радикальной позиции романтизма и готической делинквентности. Случай с поздним, насыщенным циклом любовных стихов Гете «Западно-восточный диван», обсуждаемый в главе 15, возвращает Эдварда Саида в спор, поскольку он и Даниэль Баренбойм назвали молодежный оркестр арабских и израильских музыкантов в честь бесстрастной пародии Гете на персидского поэта и любовника.
Почти затмив литературное значение, пьесы, оперы и фильмы распространили жанр «Арабских ночей». В заключительной части книги, «Полеты разума», я обращаюсь к этой истории, вернее, к очень небольшой ее части. Свобода, которую «Ночи» давали мечтам о возможностях, включала в себя фантазии о человеческих полетах, и эта особенность особенно вдохновляла на богатые и увлекательные спекуляции. Глава 17, «Почему Аладдин?», посвящена успеху «Аладдина», в частности, росту демократических зрелищ в викторианской развлекательной индустрии и изобретательному театральному искусству. Ранний кинематограф перенял у театра всевозможные трюки и иллюзии и тоже повернулся лицом к Востоку. Глава 18 «Машинные сны» посвящена самой сложной голливудской картине того периода — «Багдадскому вору» (1924), во многом неудобному фильму, в котором действует герой в стиле Аладдина и, сохраняя шуточные и романтические традиции пантомимы, используется множество роскошных спецэффектов, которые станут синонимами самого кино — например, исчезновение и полет. В то же время в Берлине гениальный кукловод-силуэтист Лотта Райнигер создавала одну из самых запоминающихся версий «Арабских ночей» — свой прекрасный «фильм теней» «Приключения принца Ахмеда» (глава 19).
Появление кино и изобретение психоанализа — два самых заметных опознавательных знака современности. Возможно, причудливо, но, надеюсь, в духе «Альф Лайла ва-Лайла», задаться вопросом, не создавал ли Фрейд, накрывая свой диван восточным ковром, — сознательно или бессознательно — восточную обстановку для первого психоаналитического лечения: разговор как форма повествования, с переменой ролей (именно рассказчик нуждается в исцелении, а не слушатель-султан). Когда я проверяла эту гипотезу, «смирнский ковер», которым Фрейд задрапировал свою психоаналитическую кушетку, оказался богаче символизмом, чем я предполагала (глава 20).
Я взяла «Ночи» в качестве отправной точки, чтобы уловить идеи о чарах в послесвечении книги. Книга «Чуждая магия» прежде всего рассматривает удовольствие — 'aja'ib, чудеса и изумление, — которое дарят «Арабские ночи» и которое продолжают дарить многочисленные вариации, вдохновленные этими историями, в литературе, на сцене и экране, и пытается понять, почему.
|
|
|