| Статья написана 15 марта 21:55 |
 Удвоение двойничества,или Платон среди волков Удвоение двойничества,или Платон среди волков"И установил, наконец, лучший творец, чтобы для того, кому не смог дать ничего собственного, стало общим все то, что было присуще отдельным творениям. Тогда принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира, сказал: "Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные... И как не удивляться нашему хамелеонству! Или вернее – чему удивляться более?" (Дж. Пико делла Мирандола, "Речь о достоинстве человека") В последних отзывах я начинал с цитат-негодований предыдущих отзывчивых читателей, чтобы в итоге если не прояснить, то сгустить еще сильнее общую непонятность и таинственность прочитанного. В случае романа-триптиха Джина Вулфа, "Пятая голова Цербера", я поступлю с самого начала и до конца иначе. Ведь, как кажется, подробнее прокомментировать собственный перевод и надежнее расставить маяки-"напоминалки" для забывчивого и сбивчивого читателя (коим являюсь и я), чем это сделал Конрад Сташевски, нельзя. Поэтому не буду пытаться произвести дополнительные археологические раскопки семантических напластований в романе: боюсь, дальнейшие подземные работы попросту разрушат исследуемый объект. Я лишь постараюсь добавить к той совокупности примет, которые замечает и обычный читатель вроде меня, и иные приметы, специально картированные переводчиком, надстроечную интерпретацию для романных событий. Версию, которая радикально не меняет конечное понимание "Пятой головы..." после прочтения третьей части. Но показывает, что (на самом деле? как бы? якобы?) основной вопрос произведения Спойлер (раскрытие сюжета) (кликните по нему, чтобы увидеть)(заменили ли аборигены-оборотни земных колонистов частично, а то и полностью?) во многом лишен смысла. Сам этот вопрос — очередной оборотень, отшлифованный на писательском станке Вулфа и встроенный в самый центр повествования лишь для того, чтобы в очередной раз обмануть читателя. Во многом моя несколько корректирующая действо в романе призма понимания перемещена из отзыва на "Повесть о Платоне" Питера Акройда прямиком в эти строчки. И вдохновлена как вставной цитатой выше из эпохи Итальянского Возрождения, так и творениями из времен еще более давних. Собственно, скопированных, воспроизведенных с той или иной успешностью деятелями того самого Ренессанса — из античных, точнее платоновских времен. Если еще точнее, то мое прочтение "Пятой головы Цербера" сквозит "Пиром" Платона. Перечитав для кружка один из наиболее известных и читаемых диалогов философа-литератора, нельзя не отметить, что темы оба автора — и древний литературствующий эллин, и американский философствующий фантаст — обсуждают схожие. Ведь мотив оборотничества у Вулфа — это не просто хамелеонство, двойничество, копирование и воспроизведение в одном иного. Он обязательно подразумевает проблему подлинности и неподлинного, воспроизведения не только иного в другом, но и того же самого в самом себе, т. е. повторение, самоповторение, тождественность самому себе. Собственно, в первой части "Пятой головы...", одноименной заглавию всего романа, т. н. гипотеза Вейль — нечто третьестепенное для этого участка в глобальной архитектуре сюжета, но более значимое и центральное в двух других его областях. В ней именно вопрос самотождественности — центральный. Если же мы принимаем как главную загадку и интеллектуальную игру для сметливых читателей во всех трех повестях книги лишь вопрос об оборотнях и их существовании, то первая (не)глава как бы выпадает из контекста. Хотя именно она и должна задавать, и действительно задает контекст для всех линий повествования Вулфа. Но вернемся к Платону и его "Пиру". Что же в диалоге о любви (Эроте) можно найти о проблемах копирования? Начнем с того, что условный постмодернистский поворот в философии, среди штурманов которого можно легко различить фигуру Жиля Делеза, нападали именно на Платона за идею о наличии Идей (Эйдосов) как вечных и неизмененных образцах, от которых исходят вещи подлунного, вещественного, нашего мира, т. е. мира теней, образов и тех самых копий. Основной укор Платону и философиям, подверженным платоническому влиянию, у Делеза в сжатом виде содержится в работе "Платон и симулякр". И основана она на реверсии и переворачивании платоновской мысли и оценки: не Истина (неизменное, Идея) лучше своей копии (изменяемое, вещь), но наоборот. И вообще никакого постоянства (и Истины) нет — есть лишь становление и истины с маленьких букв как моменты этого становления. Сама вещь — лишь серия из отдельных точек, которые суть движение из ниоткуда в никуда. Но все эти представления уже есть у самого Платона (не даром Делез заявляет именно о переворачивании, а не о переписывании Платона; хотя, чего уж, он его именно переписывает, ведь в платонической картине мира нет негативного или позитивного окраса для двух этажей мироздания: есть лишь верхний и нижний этажи, которые оба необходимы для полноценности вселенского дома) в "Пире": "—Так вот, — сказала она, — если ты убедился, что любовь по природе своей — это стремление к тому, о чем мы не раз уже говорили, то и тут тебе нечему удивляться. Ведь у животных, так же как и у людей, смертная природа стремится стать по возможности бессмертной и вечной. А достичь этого она может только одним путем — порождением, оставляя всякий раз новое вместо старого; ведь даже за то время, покуда о любом живом существе говорят, что оно живет и остается самим собой — человек, например, от младенчества до старости считается одним и тем же лицом, — оно никогда не бывает одним и тем же, хоть и числится прежним, а всегда обновляется, что-то непременно теряя, будь то волосы, плоть, кости, кровь или вообще все телесное, да и не только телесное, но и то, что принадлежит душе: ни у кого не остаются без перемен ни его привычки и нрав, ни мнения, ни желания, ни радости, ни горести, ни страхи, всегда что-то появляется, а что-то утрачивается" (207d-207e) Эмпирическая реальность, животность, органика, даже (как показывает далее) значительная часть интеллектуальной (духовной) сферы в попытках сохраниться, остаться неизменным, продолжиться далее, неизбежно преображается в нечто иное ( Спойлер (раскрытие сюжета) (кликните по нему, чтобы увидеть)и именно сохраниться пытались аборигенные оборотни, чья способность менять облик — лишь гипертрофированная суть всякой жизни вообще по Платону ): "А еще удивительнее, однако, обстоит дело с нашими знаниями: мало того что какие-то знания у нас появляются, а какие-то мы утрачиваем и, следовательно, никогда не бываем прежними и в отношении знаний, — такова же участь каждого вида знаний в отдельности. То, что называется упражнением, обусловлено не чем иным, как убылью знания, ибо забвение — это убыль какого-то знания, а упражнение, заставляя нас вновь вспоминать забытое, сохраняет нам знание настолько, что оно кажется прежним. Так вот, таким же образом сохраняется и все смертное: в отличие от божественного оно не остается всегда одним и тем же, но, устаревая и уходя, оставляет новое свое подобие. Вот каким способом, Сократ, — заключила она, — приобщается к бессмертию смертное — и тело, и все остальное. Другого способа нет. Не удивляйся же, что каждое живое существо по природе своей заботится о своем потомстве. Бессмертия ради сопутствует всему на свете рачительная эта любовь" (208b) Второй отрывок так вообще посылает привет Борхесу с его памятным Фунесом (не даром аргентинский писатель частенько обращался к грекам) и размышлениями о памяти и забвении, которое позднее и у Умберто Эко в эссеистике помелькают (и вообще станут серьезной темой для исследований у психологов, физиологов и когнитивистов). Но оба фрагмента из платоновского "Пира" помогают соединить в единое смысловое целое два вида копирований (клонирования, воспроизведения и метаморфоз) — репродуцирование тождественного и преображение в чуждое. И один, и другой типы — моменты различающихся повторений (или повторяющихся различий) в общем потоке становления, который суть жизни. Поэтому и семья (видимо) однофамильцев автора "Пятой головы Цербера", и аборигены занимаются одним и тем же. И, вспоминая уже другую работу Платона, "Государство" (седьмую его книгу), и генетики, и чужаки-хамелеоны Спойлер (раскрытие сюжета) (кликните по нему, чтобы увидеть)одинаково несчастны — они в своих круговращениях в попытках либо сохранить свой облик, либо найти иное обличие, обречены на самый печальный сценарий вечного возращения из возможных, ведь эти персонажи не пытаются прорваться за порочную петлю, к вечному и неизменному вне копий, клонов и единичного . Все эти люди и нелюди обитают в пещере из собственных и чужих теней, не видя за ними себя настоящих. Именно поэтому вся генетическая династия ( привет яблочной экранизации "Основания") Спойлер (раскрытие сюжета) (кликните по нему, чтобы увидеть)в попытках откорректировать клонов для достижения успеха и славы обречена на провал , а аборигены и при истинности, и при ложности гипотезы Вейль Спойлер (раскрытие сюжета) (кликните по нему, чтобы увидеть)уже мертвы, без промежуточных вариантов в лице известного эксперимента с кошкой и запутанностью квантов . Заигрывания с биоинженерными ремеслами ( которые, по Платону, конечно, не настоящая наука) или доведенный до совершенства актерский навык ( Платон, естественно, именно так бы описал способность оборотней) не помогут найти путь к Благу как Истине, Красоте и Добру. Да, я понимаю, что вся эта вставка о платонизме в тексте Вулфа — это домыслы, которые имеют лишь очень косвенное подтверждение в теле романа. Скорее, в "Пятой голове Цербера" есть, если можно так сказать, латентный платонизм, но не более того. А вот что в ней есть вероятнее — и здесь введенный латентный платонизм становится мне подпорками для возведения заявленной надстроечной системы понимания сюжета — это ясность Спойлер (раскрытие сюжета) (кликните по нему, чтобы увидеть)не по вопросу верности или неверности гипотезы Вейль, а о том, кем или чем были сами оборотни . И ответ очень прост: Спойлер (раскрытие сюжета) (кликните по нему, чтобы увидеть)аборигены никогда не были аборигенными до конца — они всегда были людьми . Ведь вторая часть книги, "История, записанная Дж. В. Маршем", которая оценивается многими и среди отозвавшихся здесь, и в обзоре "Книжного поезда" на ютубе как слишком сложная, запутанная, чуть ли не лишняя для остальной романной конструкции, на самом деле крайне значима. Она доказывает Спойлер (раскрытие сюжета) (кликните по нему, чтобы увидеть)не существование оборотней в прошлом (что происходит уже в заключительной части, "V. R. T.", притом существование оборотней продлевается до настоящего времени по книге), но сосуществование с ними в эти давние доколониальные времена неких Детей Тени, которое были гораздо более ранней волной колонизаторов с Земли (получается палеоконтакт наоборот). И да, это доказывает экзотичное предположение, озвученное Дэвидом из первой (не)главы произведения. Но если были как минимум две колонизационные волны, древняя доисторическая и более современная нам, почему их не могло быть больше? Если природа оборотничества в широком или в удвоенном смысле, о котором я распинался выше, принадлежит не только аннезийцам, но и людскому роду, может, это все один и тот же род? Человеческий? Но эти "аборигены" происходят из очень, очень и очень древней волны колонизации. И если это так, то заменяли ли аборигены людей или нет — очень вторичный вопрос. И те, и другие всегда людьми оставались. Думаю, стоит еще добавить, что и "V. R. T." частично подтверждает такую версию — ведь там содержится свидетельство о возможности скрещиваний между аборигенами ("аборигенами"?) и поздними колонизаторами. Ну и последнее, что добавлю, так это типично-необычный рассказ Лафферти "Хитропалые" (1976 г.) — его "вот-это-поворот", а именно многомиллионнолетнее существование человеческого рода и многочисленных видов человеков, к некоторым из которых наш "базовый" подвид лишь очень блеклый аналог спокойно, без ракет и скафандров, путешествующих среди звезд, и, кстати, умеющих менять облик, подобно вульфовским пришельцам ("пришельцам"?), напоминает некоторые фантастические допущения рассматриваемого романа . Наверное, мое решение для создания некоторого рамочного понимания "Пятой головы Цербера" слишком экзотично и необычно, но экзотичен и необычен сам текст. Поэтому и методы для его адекватного понимания должны быть под стать. П.С. К множеству возможных отсылок в романе — реальных и гипотетических — хотел бы добавить такую. Заключенный из третьей части произносит суду пространную речь в свою защиту, отдающую кафкианским сюром, как и вся местная пенитенциарная система. Среди прочего он приводит список классов существ, "которые ни при каких обстоятельствах не могли бы понести наказание по соображениям их виновности". И часть приводимого списка, сама его странная логика напоминает классификацию животных из рассказа-эссе Борхеса "Аналитический язык Джона Уилкинса" своей системной бессистемностью.
|
| | |
| Статья написана 12 марта 12:08 |
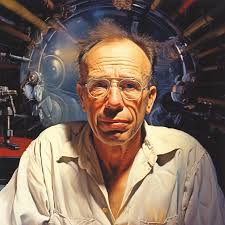 Лингвистический хоррор,или контингентность языковых игр Лингвистический хоррор,или контингентность языковых игрЭнное время назад, по прочтении «Ложной слепоты» Уоттса, «Дома в ноябре» Лаумера, «Врага моего» Лонгиера и ряда иных произведений, мне показалось обоснованным объединить их в единый (под)жанр и назвать его «Странным Контактом». Контактом человечества с иным разумом («разумом»?), в котором привычные жанровые лекала космической научной фантастики рушатся со страшным грохотом под пятой чуждости, непонятности, инаковости (иначе: деконструируются). Отчего возникает тот самый катарсис, очищение от много раз читанного и виданного, возвращение и чувствование той самой интеллектуальной небывалости, для которой фантастическая литература и рождена. Именно поэтому (по этому результату от чтения, в моем случае — слушания в замечательном озвучке Евгения Стаховского) я полагаю рассказ Роберта Шекли «Потолкуем малость?» замечательным примером ситуации Странного Контакта. Более того, в связи с лингвистической «начинкой» этой работы, а также того способа, используя который писатель создает эффект остранения у читателя (вполне в духе русской школы формализма), (суб/под)жанровую принадлежность можно характеризовать как «лингвистический хоррор». Далее я попробую доказать и углубить эти догадки, а также как к давнишнему рассказу Шекли может быть применен модифицированный жанровый определитель Квентина Мейясу из книги «Метафизика и вненаучная фантастика». Начнем, как и ранее в отзыве на работу Барри Лонгиера «Враг мой», с цитат предыдущих читателей-комментаторов «Потолкуем малость?» с целью установить, какие разночтения или частое непонимание остались после прочтения: «Хороший рассказ, только концовка у него несколько туманная» (tevas) «Непонятно только, как они сами себя понимали, если каждый раз язык менялся. Причем менялся очень сильно. А если кто-то простудится? И из-за гайморита не сможет правильно ставить интонацию?» (ZiZu) «...что значит слово «ман»?» (Journalist) «Правда, кое-что осталось непонятным» (duke) «Забавный рассказ с не совсем понятной концовкой» (Pupsjara) «Ну вообще «замудрень» немерянная» (gorvzavodru) «Шекли блестяще отобразил всю сложность процесса, но и заставил подумать, что это всё-таки было? -издевательство или хитрость?» (vam-1970) На мой взгляд, если я верно все понял, наиболее близко к пониманию концовки рассказа и вообще рассказа как такового пришел vitamin: «А в концовке, быть может, ничего туманного и нет — не ищи смысла там, где его нет и не было» Концовка юмористического — якобы юмористического — произведения Шекли вызвала вопросы и недопонимания у многих, и vam-1970 лучше всего выразил дилемму читателя после последних строчек «Потолкуем...»: издевательство или хитрость? Но дилемма эта — ложная. Ни хитрость, ни издевательство. Это ошибочная трактовка, ошибочность которой происходит от неверного определения жанровой характеристики этой работы. Перед нами не юмористическая, сатирическая или ироническая фантастика. Не только и, самое главное, не столько. Перед нами указанный выше лингвистический хоррор в антураже Странного Контакта. Притом сам автор чуть ранее, словами рассказчика в лице главного героя, как бы все объясняет потенциальному читателю, и самый финальный абзац (и незадолго до него) уж точно ставят точку в понимании написанного и перечеркивают вариативную интерпретацию «хитрость или издевательство». Но перед демонстрацией авторских цитат еще раз вернемся к определениям. Что такое Странный Контакт я постарался прояснить выше (и в других отзывах). Теперь же проясню, что имеется в виду под «лингвистическим хоррором». И если с лингвистическим все ясно — весь рассказ о трудностях перевода — то что именно я имею в виду под хоррором? Никаких ужасов и мертвецов в рассказе Шекли не видно, зато в обилие диковинные и конфузные ситуации, в которые попадает рассказчик. Но здесь хоррор интеллектуальный, когнитивный, от встречи с неведанным, (в)нелогичным, не возможным для прояснения. Как в сухих описаниях Лавкрафта или менее сухих сюжетных линиях Лиготти. Именно такой хоррор имею в виду и я, который вызывает трепет не от ощущений, а от обдумываний. Теперь дадим слово автору: «Но если это было так, тогда хон был очень странным языком. В самом деле, это был совершенно эксцентричный язык. И то, что происходило с этим языком, не было просто курьезом, это было катастрофой. Вечером Джексон снова взялся за работу. Он обнаружил дополнительный ряд исключений, о существовании которых он не знал и даже не подозревал. Это была группа из двадцати девяти многозначных потенциаторов, которые сами по себе не несли никакой смысловой нагрузки. Однако другие слова в их присутствии приобретали множество сложных и противоречивых оттенков значения. Свойственный им вид потенциации зависел от их места в предложении» »- Хорошо, — сказал Джексон сам себе и всей Вселенной. — Я выучил наянский язык, я выучил множество совершенно необъяснимых исключений, и вдобавок к тому я выучил ряд дополнительных, еще более противоречивых исключений из исключений. Джексон помолчал и очень тихо добавил: — Я выучил исключительное количество исключений. В самом деле, если посмотреть со стороны, то можно подумать, что в этом языке нет ничего, кроме исключений. Но это, — продолжал он, — совершенно невозможно, немыслимо и неприемлемо. Язык по воле божьей и по самой сути своей систематичен, а это означает, что в нем должны быть какие-то правила. Только тогда люди смогут понимать друг друга. В том-то и смысл языка, таким он и должен быть. И если кто-нибудь думает, что можно дурачиться с языком при Фреде К. Джексоне...» «Его мозг полиглота проанализировал то, что услышало его непогрешимое ухо лингвиста. В смятении он понял, что наянцы не разыгрывают его. Это был настоящий язык, а не бессмыслица. Сейчас этот язык состоял из единственного слова «ман». Оно могло иметь самые различные значения, в зависимости от высоты тона и порядка слов, от их количества, от ударения, ритма и вида повтора, а также от сопровождающих жестов и выражения лица. Язык, состоящий из бесконечных вариаций одного-единственного слова! Джексон не хотел верить этому, но он был слишком хорошим лингвистом, чтобы сомневаться в том, о чем ему говорили его собственные чувства и опыт. Конечно, он мог выучить этот язык. Но во что он превратится к тому времени? Джексон устало вздохнул и потер лицо. То, что случилось, было в некотором смысле неизбежным: ведь изменяются все языки. Но на Земле и на нескольких десятках миров, с которыми она установила контакты, этот процесс был относительно медленным. На планете На это происходило быстрее. Намного быстрее. Язык хон менялся, как на Земле меняются моды, только еще быстрее. Он был так же изменчив, как цены, как погода. Он менялся бесконечно и беспрестанно, в соответствии с неведомыми правилами и незримыми принципами. Он менял свою форму, как меняет свои очертания снежная лавина. Рядом с ним английский язык казался неподвижным ледником» »...слова Гераклита как нельзя более точно определяли сущность языка планеты На» «Сам факт подобных изменений делал недоступным как наблюдение за языком, так и выявление его закономерностей. Все попытки овладеть языком планеты На разбивались об его неопределимость. И Джексон понял, что воды реки Гераклита прямиком несут его в омут «индетерминизма» Гейзенберга. Он был поражен, потрясен и смотрел на чиновников с чувством, похожим на благоговение» И, наконец, сам конец: "- Ман! Ман! Ман-ман! Невозмутимо улыбаясь, старик ольдермен тихо прошептал: — Ман-ман-ман, ман, ман-ман. Как ни странно, эти слова и были правильным ответом на вопрос Эрума. Но эта удивительная правда была такой страшной, что, пожалуй, даже к лучшему, что, кроме них, никто ничего не слышал» Начнем с процитированной концовки. Она и десяток-другой строчек выше, где пришельцы общаются только при помощи слова «ман», в том числе — что наиболее важно — после отлета главного героя, говорят о том, что здесь нет ни хитрости, ни издевательства. Это, как указано самим Шекли через размышления Джексона, все связано с бессистемностью, невероятно быстрыми изменениями и, самое главное, полной их непредсказуемостью внутри языка местных жителей. Здесь и рядом нет никакой туземной мудрой лжи. Лишь, как указано в заключительной авторской речи, «эта удивительная правда была такой страшной, что, пожалуй, даже к лучшему, что, кроме них, никто ничего не слышал» (что, кстати, тоже прямо намекает нам на иную жанровую принадлежность «Потолкуем...», далекую от юмора). И сразу уточню: дело не в том, что язык местных быстро изменяется. Проблема в том, что он изменяется вне всякой последовательности, правил, закономерностей. Он представляет собой совокупность исключений, как заметил Джексон, без единого-единственного-хотя-бы-одного правила. Это нечто вне- и не- рациональное, не способное для усвоения человеческим умом, даже самым проницательным и гибким. Хаос и бессмыслицу невозможно понять. Только указать на то, чему невозможно указать быть разумным, ясным и понятным. Это и порождает лингвистический хоррор на фоне Странного Контакта, Контакта с Языком, который, в общем-то, скорее не-Язык, квази-Язык, вне-Язык. Именно поэтому этот рассказ Роберта Шекли может стать одним из немногочисленных примеров жанра вненаучной фантастики, который выделяет (пусть мне и до сих пор кажется, что выделяет напрасно, ведь и Странный Контакт вполне органично сосуществует в общем порядке научной фантастики) французский философ Квентин Мейясу: «А что мы имеем в виду, когда говорим о «вымысле вненаучных миров», или о «вненаучной фантастике»? Употребляя термин «вненаучные миры», мы говорим не о мирах, лишенных науки, то есть не о мирах, в которых экспериментальных наук фактически не существует, — например, о таких мирах, где люди не выработали — вообще или еще — научного отношения к реальности. Мы понимаем под вненаучными мирами такие миры, где экспериментальная наука невозможна де-юре, а не просто неизвестна дефакто. Вненаучная фантастика определяет особый режим воображаемого, в котором мыслятся миры, структурированные — или, скорее, деструктурированные — так, что экспериментальная наука не может ни разворачивать в них свои теории, ни конструировать свои объекты. Вненаучную фантастику направляет следующий вопрос: каким должен быть, на что должен быть похож мир, чтобы он был де-юре недоступен научному познанию, не мог стать объектом некоей науки о природе?» Таким образом, язык («язык»?), придуманный Робертом Шекли, это и вненаучное фантастическое допущение, яркий пример жанра вненаучной фантастики, где наука работать не может, но само сознание и опыт более чем возможны, и того, что я вынес в заголовок этого отзыва — контингентность. Сверхслучайность, случайность, освобожденная из уз и цепей статистики, закономерностей и правил. Чистое не ничто, но неопределенность. И разве это не может не пугать? "Потолкуем малость?" на фантлабе
|
| | |
| Статья написана 30 декабря 2023 г. 23:30 |
 Воспевающее отрицание,или фантастическая повесть о Контакте с Традицией Воспевающее отрицание,или фантастическая повесть о Контакте с ТрадициейПродолжаем развивать (или воображать самому себе на уме, что развиваю) «уровень дискуссий в Восточной Европе». Посмотрим на то, что недавние и давние читатели повести Барри Лонгиера «Враг мой», переросшей в одноименный цикл, писали о своих ощущениях и идеях после прочтения. И дальше подумаем, а возможно ли помимо антивоенного запала, гимна толерантности (уточним: здорового человека) и призыва к дружбе увидеть в этом произведении что-то еще? За строчками и словами с таким знакомым, казалось бы, и привычным содержанием? Большинство, если не все, комментаторы, рецензенты и неравнодушные к написанию нескольких связных мыслей люди, оценившие повесть либо негативно, либо позитивно, согласны с предметом самой оценки, т. е. с тем нравственным, моральным (морализаторским?), гуманистическим и антимилитаристским смыслом, что вплетен в «Врага моего»: «Но ведь суть же как раз в том, что две практически идентичные культуры воюют просто на пустом месте. Их конфликты возникают буквально из-за почти не пригодных к жизни планет. Разве это не похоже на то, что происходит на Земле? Это просто иллюстрация того, что люди разных национальностей, разных рас, разных сообществ, разных городов, районов, домов, семей способны спорить и до смерти воевать ради... чего? Да ничего, нам нечего делить, вот о чем повесть» (Tullma) «По сути антивоенный роман» (holyship) «Я понимаю, автор напустил там соплей с сахаром, а они всегда хорошо шли у определенных категорий читателей. И посыл правильный» (nworm) «издалека враг кажется злым и заслуживающим смерти, но стоит узнать врага ближе — и проникаешься уважением к нему. Так и с людьми» (kartinka) «Повесть также учит терпимости по отношению к окружающим. Она учит стремиться к пониманию друг друга, не смотря на различия. Говорит нам о том, что не смотря на, то какие мы все разные, все хотим одного и того же: любви и понимания, поддержки и чтобы рядом всегда был близкий друг» (NEPROSNENKOE) «Хорошая психологическая вещь. Напомнило рассказы про братание солдат во времена Первой мировой. Ведь войны ведутся политиками и власть имущими, а страдают простые люди. И ненависть к противнику очень часто только плод пропаганды. И она вполне может развеяться, если ты окажешься с врагом один на один» (Orm Irian) «Преодоление гигантских пропастей внутри душ, культур и всего остального» (Nesya) «И мастерски, шаг за шагом, ни разу не оступившись, автор показывает, как уходит, умирает и перерождается в дружбу вражда. А потом и в нечто большее, чем дружба — в родство» (MikeGel) и т. д. Разные оценки, разные люди, разное время, но слова одни. Тем не менее, нашлось несколько человек, которые, с полярными оценками, приблизились, как мне представляется, к закулисной подоплеке «Врага моего»: «Ну, что тут особенного, спросите Вы: почти в каждой книге найдете это: слушайте друг друга, понимайте и будет Вам счастье. Но особенное как раз в той части, которая в фильме превратилась в жизнеутверждающий и подчеркнуто официальный финал торжества толерантности, политическую рекламу наступающих в мире перемен. А ведь в книге этого ничего нет. Нет никакого официального признания заслуг героев в деле установления идеалов равенства и братства. Есть только личный выбор одного взятого человека и одного маленького чужака, которые решили, что они- самые близкие друг другу существа во Вселенной, чтобы там не думали миллиарды их соотечественников. Нет там никакого торжества толерантности, иначе не оказались бы герои вновь на забытой всеми богами Вселенной планете холода и ветров. Есть только одно: понимание, кто ты и какой ты, какие твои личные убеждения и готов ли чем-то жертвовать ради них. Не так пафосно, не так сентиментально, как в фильме, но более правдиво и всегда современно» (primorec) «Единственное, что мне здесь понравилось, это то, что автор вольно или невольно на примере землянина показал причины, способствующие ксенофилии. У офицера Дэвиджа нет ни семьи, ни жены, ни детей, с родителями он не общается с 18 лет, хотя вроде и не ссорился. За время службы у него не появилось ни одного настоящего друга, хотя товарищи были, конечно, но это не то. Он абсолютно нерелигиозен, ему некуда возвращаться, нечего защищать, никто не любит его, и он по сути никому не нужен. Однако, даже такой человек перекати-поле способен страдать от одиночества, будучи отторгнут человечеством, он вынужден искать понимания где угодно, хоть в самой Преисподней» (Нескорений) «В повести Лонгиера это приобщение «человека-варвара» к культуре инопланетянина выражается в том, что он заучивает всю родословную инопланетянина — кто из его предков что сделал, что является своеобразным ритуалом. И жалуется, что и своих дедушек-бабушек то не знает толком, не говоря уж о других предках. Тут я хотела бы заметить, извините, что это не свойство людей вообще, хотя, конечно, для нашей культуры хорошее знание истории своего рода является нетипичным, а для американской — так тем более, видимо. Но если, допустим, в этой космической войне чудом оказался бы какой-нибудь уважающий себя средневековый европейский аристократ — ему тоже было бы чем похвалиться. В целом как признак значимой культуры это не то чтобы сильно впечатляет, но для простенького сюжета в этой повести сойдет» (kerigma) Вот с этими тремя комментаторами я соглашусь в том, что следует пристальнее взглянуть на удивление землянина родословным ритуалом драконианина, на возвращение Дэвиджа на Землю и то разочарование, которое возникло у того во время прилета и даже до этого. И после этого иначе посмотреть на сами отношения между Дэвиджем и Джерри. Для того, чтобы во всем это разобраться, вновь прибегнем к цитатам. На этот раз к авторским: "— Но почему всего-навсего пять имен? У человека ребенок может носить любое имя по выбору родителей. Больше того, достигнув совершеннолетия, человек вправе изменить имя, выбрать себе любое, какое только придется ему или ей по вкусу. Драконианин посмотрел на меня, и взгляд его преисполнился жалостью. — Дэвидж, каким заброшенным ты себя, наверное, чувствуешь. Вы, люди, все вы, должно быть, чувствуете себя заброшенными. — Заброшенными? Джерри кивнул. — От кого ты ведешь свой род, Дэвидж?» »...я понял, что имел в виду Джерри, когда говорил об ощущении заброшенности. Заткнув себе за пояс несколько десятков поколений, драконианин знает, кто он такой, для чего живет и на кого должен равняться» «Я вслушивался в речитатив Джерри (официальный язык дракониан), внимал биографиям, излагаемым от конца к началу (от смерти к совершеннолетию), и у меня возникало ощущение, будто время, сжавшись в комок, стало осязаемо, будто до прошлого теперь рукой подать и его можно потрогать. Баталии, созданные и разрушенные государства, сделанные открытия, великие деяния путешествие по двенадцати тысячелетиям истории, но воспринималось все как четкий, живой континуум. Что можно этому противопоставить?» «Вновь среди людей — и более одинок, чем когда-либо» »...я понял, что, отправляясь к родителям, совершаю ошибку. Мне до чертиков нужен был дом, тепло и уют домашнего очага, однако дом родителей, который я покинул восемнадцатилетним юношей, не даст мне ни того ни другого. И все-таки я туда поехал, поскольку больше деваться было некуда» «Не усидел я с ними в поселке, Джерри. Пойми меня правильно: там хорошо. Лучше некуда. Но я все выглядывал в окошко, видел океан и невольно вспоминал нашу пещеру. В каком-то смысле я здесь один. Но это к лучшему. Я знаю, что я такое и кто я такой, Джерри, а ведь это главное, верно?» "— Мне будет приятно, дядя, если ты его обучишь всему, что надо знать: родословной, Талману, а главное — жизни на Файрине-IV, на нашей планете, которая теперь зовется — Дружба. Я принял драгоценный сверток из рук в руки. Пухленькие трехпалые лапки, помахав в воздухе, вцепились мне в одежду. — Да, Тай, этот бесспорно Джерриба. — Я встретился взглядом с Таем. — А как поживает твой родитель Заммис? — Хорошо, насколько это мыслимо в его возрасте. — Тай пожал плечами. — Мой родитель шлет тебе наилучшие пожелания. Я кивнул. — Я ему тоже, Тай. Заммису не мешало бы выбраться из этой капсулы с кондиционированием воздуха и вернуться на жительство в пещеру. Здешний воздух пойдет ему на пользу. Тай с усмешкой кивнул. — Я ему передам, дядя. — Посмотри-ка на меня! — Я ткнул себя пальцем в грудь. — Ты когда-нибудь видел меня больным? — Нет, дядя» Что делало жизнь Джерри осмысленной? Как он понимал «кто он такой, для чего живет и на кого должен равняться»? И почему того же самого до определенного момента был лишен Уиллис Дэвидж? Отвечая на эти вопросы можно, конечно, просто сослаться на приобщение землянина к драконианской культуре. Но, как верно замечали выше, сильного различия между земной и драконианской культуры, помимо древности и особого отношения к родословным (будем откровенны, что последняя вообще-то проистекает из их специфического способа репродукции), нет. Да и простая ссылка на «культуру» слишком слаба и абстрактна. Может, конкретизировав это приобщение не к культуре вообще, а к Талману в частности, мы получим более точный ответ? Кажется, что и тут мимо: Талман важен для Дэвиджа, но это лишь часть того, к чему он пришел. Что же это за нечто? Традиция. Посмотрим на реакцию землянина от произнесение всей родословной Джерри, на его эмоции от пребывания на Земле, думы о заброшенности, архаизацию своего пожилого быта из финала повести (последнее — вообще жирный намек). Дэвидж примкнул к традиции, можно даже прописать ее с большой буквы — к Традиции. Земля из вселенной «Враг мой» быстро развивающийся мир, чей разумный вид за смешное время — смешное по сравнению с драконианами (хронология освоения космоса пришельцами — на порядки дольше и глубже, но по результатом сопоставима с человеческими достижениями) — вышел в черноту небес и освоил множество планет вокруг самых далеких звезд. Но эта скорость, эта стремительность и эта мощь имеет свою цену. Это прощание с Традицией, отказ от нее, ее разрушение. Можно свести это к банальному, со страниц школьного обществознания, переходу от традиционного общества к обществу индустриальному. Но все сложнее. Дракониане шли похожим путем, как косвенно следует из повести (я смотрю на нее в отрыве от остальных романов и других произведений цикла — стоит это отметить), но технологические достижения и модернизацию они не ставили в противовес собственным традициям и Традиции как таковой. Земляне же выбрали заброшенность как забвение Традиции и традиций, ради Нового, Будущего, Дальнего. И Дэвидж в ходе общения с Джерри ощутил это сполна. Поэтому он не просто принимает более высокую, чем земная, культуру. Драконианам нравятся вестерны, у них есть мода и китч — все, как и у нас. Они не выше человечества в таком отношении. Но они глубже него, коренастее, корневее, длительнее и древнее людского рода. У них вообще иное отношение и взаимодействие со своим прошлым. Дракониане никогда не променяют его ради прагматики, скорости и эффективности. Главный герой и рассказчик «Враг мой» выбрал Традицию чужаков против Современности своих. За неимением аналога у самих людей, ведь Традиция умирает тогда, когда ее не продолжают. Прерывание и есть ее смерть, погибель традиционного, разрыв с прошлым, пробел в последовательности из уст в уста. И лучшая метафора Традиции — это традиция торжественного озвучивания родословной. Именно из-за сказанного я полагаю, что «Враг мой» — это фантастика не про антивоенную робинзонаду с элементами Контакта, а о встрече человека с Традицией. С Традицией, которая чужда ему не из-за того, что она есть традиция чужаков, а потому, что сам главный герой, Дэвидж, не принадлежит ни к какой традиции. У людей будущего их не осталось. Но вот здесь возникает другая проблема... Появление в роде Джерри, у Заммиса и у Тая, нового типа как-бы-родни — «дяди» — и преображение ритуала изучения родословной, перепоручение ему, Дэвиджу, этой роли — это ли не забвение традиции? Не забвение традиционного? И да, и нет. «Диалектика!» (с). С одной стороны, конечно, дракониане в лице и Джерри, и потомков поменяли свои ритуалы. Но передача Традиции всегда носит момент новаций. Медленных, постепенных, эволюционных, но новаций, от намеренных или случайных ошибок в тех или иных посреднических устах. Или по иным причинам. Поэтому дружба Дэвиджа и Джерри, в каком-то смысле, встала выше Традиции дракониан. Но, с другой стороны, нельзя забывать об одной очень древней и важной традиции. Такой традиции, которая во многом есть у нас, современников Лонгиера, и у людей из будущего, описываемого им. Это единственная традиция, оставшаяся у человечества, сделавшая его таким, какое оно есть. Это традиция разрушать традиции. И не это ли нововведение ввел в драконианский уклад дядя Дэвидж? Кто знает... Но именно поэтому «Враг мой» — это не только воспевание Традиции, но и отрицание традиций. Это скрытое обаяние традиции разрушать традиции, которое глубоко сидит в нашем земном роде. И пусть оно сидит там как можно больше — ведь у всех должна быть своя традиция. "Враг мой" на фантлабе
|
| | |
| Статья написана 12 ноября 2023 г. 14:15 |
 Незапланированная экранизация "Конца Вечности",или искусство ухода за красивыми концовками Незапланированная экранизация "Конца Вечности",или искусство ухода за красивыми концовкамиЭто эссе вновь далеко от формата рецензии. Ниже я не буду пересказывать отдельные события или вообще весь сюжет сериала, не примусь подробно останавливаться ни на первом, ни на втором сезоне, а также не стану выстраивать критические разборы конфликтов между теми или иными героями. Разборов с подобным содержанием уже вдоволь. Тем не менее я хочу остановиться на двух сторонах этого проекта. Первая из них — подобность и порой навязчивое тождество между "Локи" и "Концом Вечности" Азимова, а также очередное для меня доказательство закономерности отставания кинофантастики от фантастической литературы. Вторая сторона дела — финал сериала. Выпущенный в свет два дня назад последний эпизод сериала уже успел обрасти несколькими текстовыми и видео комментариями, которые, как мне кажется, несколько усложняют суть происходящего на экране. Только на двух этих пунктах я остановлюсь ниже, оттого как минимум из-за рассмотрение концовки "Локи" мне придется вскрывать самые существенные заключительные события и кадры сериала. Ранее я уже два раза останавливался на проектах Marvel Studios ("Мстители: Финал" и "Черная вдова"). И мои отзывы были либо с негативными, либо со смешанными оценками. Понимая, что во многом эти отрицательные описания с моей стороны предвзяты, что я не сильно погружен в эту франшизу, преимущественно смотря ее как чистый аттракцион, но вменяя ей при этом слишком строгие критерии, после завершения просмотра "Локи" мне захотелось написать что-то очень комплиментарное и для этой киновселенной, и для конкретного ее проекта. Начав смотреть этот сериал скорее ради заполнения фона, без особых открытий и эмоций пройдя первый сезон, все же финал второго сезона и всей суммы эпизодов относится к тому роду примеров из искусства, когда качественный финиш перечеркивает и неудачный старт, и не самую оригинальную и интересную середину. Но перед осмотром концовки, поговорим о сериале в целом, о первом заявленном пункте. Во многом антураж и практически вся визуальная часть — впрочем, как и событийный ряд "Локи" — очень нехарактерны для Marvel. И дело тут не в путешествиях во времени как таковых — в конце концов, какая-то их версия, пусть и перемудренная и оглупленная мешаниной с альтернативными вселенными из "Финала", уже встречалась ранее. Любая большая как кино-сериальная, так и книжно-комиксовая вселенные, переходя определенный уровень масштабирования, обязательно уходит как минимум один раз в сюжетные повороты, связанные с путешествиями во времени. Суть отличия заключается в ретрофутуристическом характере графической составляющей. Это очень нарочито непохожий стиль на все остальные технологические и научно-фантастические выверты в остальных фильмах киновселенной, где даже магия (ре-/де-)конструированных скандинавских богов и прочих скорее объясняется одним из законов Кларка от неотличимости высокоразвитых технологий от всяческого волшебства и мистики, нежели чем иррациональными и потусторонними силами. Возможно, причины для этого (скорее всего, это именно так) в комиксных первоисточниках, а именно (как подсказывает Вики) в линейках о Рама-Тут / Канге (дебют: 1963), об "Управлении временными изменениями" / "УВИ" (дебют: 1986), о Викторе Таймли (дебют: 1992). Ну и, наверное, на чем-то еще. А также создатели проекта много рассказывали и показывали в интервью, откуда еще бралось вдохновение для визуального оформления сериала: тут и восточноевропейский модернизм, и один конкретно-взятый отель "Atlanta Marriott Marquis", и общая идея намеренной архаизации облика УВИ через отсутствие цифровых и доминирование аналоговых технологий. И вроде бы всего этого массива первоисточников достаточно для объяснения общей формы — визуальной и чуть более — сериала. Но все-таки призрак "Конца вечности" бродит грозной тенью над самыми разными гранями и образами "Локи". В чем же именно, кроме общего духа ретрофутуризма, еще проявляет себя классика хронооперы от 1955? УВИ как таковая — очень, очень и очень напоминает азимовскую "Вечность". Да, не одной ею богата фантастика о путешествиях во времени, но все-таки именно Азимов заложил некоторый канон, образец для этого жанра, который потом неоднократно модифицировался и подвергался прогрессивным переформатированиям ("Палимпсест" Стросса , "Порядок вековой" Краули, "Пятнадцать жизней Гарри Огаста" Уэбб, "Падение Хроноплиса" Бейли и т. д.). И здесь мы в лице УВИ видим: организацию вне пространства и времени, которая совершает минимальные вмешательства во время / удаляет неверные варианты ради увеличения блага всего человечества / ради сохранения Священной линии времени и представляет себе сложную бюрократическую многоуровневую инфраструктуру с аналоговым техническим оснащением. Но это еще только половина сопоставление. Ведь далее можно провести и исключительно сюжетное сравнение романа Азимова и сериала. Идея возникновения обеих организаций через самопричинное закольцованное вмешательство в отдаленное прошлое (Виккор Маллансон / Шеридан Купер передает привет Виктору Таймли / Кангу / Тому, кто остается; при этом сюжетный поворот и связь двух персонажей у Азимова более ясная, чем во втором случае), конфликт между поначалу сторонник безопасности в обмен на несвободу Локи и сторонницей свободы в обмен на потенциальную всеобщую гибель Сильви (сравнить и с любовной линией, и с идентичным конфликтом между Эндрю Харланом и Нойс, который разрешается немного иначе, но в аналогичном ключе) и не только. Опять же, все эти сходства не говорят о плагиате. Скорее мне приятнее и любопытнее описать все это как некую незапланированную, неосознанную или даже бессознательно проделанную экранизацию Айзека Азимова, которую я очень давно ждал. Перефразируя классика, можно сказать, что гениальные рукописи в конечном счете проникают на экран, пусть и весьма тернистыми путями. Но это же отдельно подтверждает мою неявную мысль из рецензии на "Дзен-пушку" Баррингтона Бейли: существует закон о необходимом отставании научной фантастики на экране от научной фантастики на бумаге. Сценаристы с некой, почти в духе фатализма, необходимостью всегда, даже создавая независимые от какого-либо книжного первоисточника фильм или сериал, находятся в хвосте и созависимости от литературной суммы научно-фантастических идей и сюжетов. В этом нет ничего плохого как такового, но это приводит к тому, что такой прорывной для своего времени (и до сих подпитывающий финансами правообладателей) проект, как "Звездные войны", представляет собой космооперу на несколько уровней ниже что все того же Азимова, что Фрэнка Герберта, что Пола Андерсона или любого другого классика золотого века фантастики ближе к середине или чуть после нее века. Скорее те же "Звездные войны" по эксплуатируемым образам и сюжетам ближе к циклу о Джоне Картера Эдгара Берроуза. Ни в коем случае, кстати, подобное замечание не уничижительно для творчества последнего автора, который стоял у первоистоков всего жанра, но поучительно и язвительно в адрес творцов джедаев и бесконечных клонов. Прогресс в жанре должен больше замечаться кинодельцами, и тому есть и позитивные примеры, но пока удач на этом поприще меньше. И последнее. О второй теме эссе. Концовка "Локи". Как-то Игорь Данилевский сказал, что в христианском понимании истории, точнее, истории отдельных правителей, в итоге подвергшихся канонизации и причислению к лику святых, важна не общая праведность этого мирского лица, а буквально одно событие, которое перечеркивает все прошлые его проступки, а то и преступления. Примерно то же самое можно сказать о некоторых книгах или кино: не самый удачный, интересный, оригинальный сюжет с периодическими провалами ожиданий или странными поступками персонажей, не особой проработанностью их облика и повествовательной канвы как таковой может предстать в совершенно ином свете благодаря блистательному завершению истории. Именно это многие зрители и критики — и вслед за ними и я — подмечаю это и за рассматриваемым сериалом. В течение двух сезонов встречалось много разных странностей и неудачных решений, противоречий и недоработок. Иногда сюжет скатывался в медлительное филлерство, а потом — в слишком стремительный рассказ. Связь Виктора Таймли и Канга до сих пор не совсем ясна — как минимум мне. Тезис авторов о том, что путешествия во времени в сериале и в "Мстители: Финал" имеют общую природу и механизм кажется натягиванием совы на глобус. Как и водится, никуда не девается странный и диковинный на фоне как бы бесконечного и многообразного космоса и как бы еще более масштабной мультивселенной антропоцентризм, порой скатывающийся в какой-то антропофашизм. В мире, где есть целестиалы и настоящие боги, именно человек из 31 столетия смог открыть путешествия во времени и перекроить все возможные и невозможные реальности. "Да-да, конечно" (с). Но все эти концептуальные, сюжетные и эстетические предвзятости и минусы оттеняются наглядным развитием персонажа Локи, как всегда через отличную игру Тома Хиддлстона, и выбором в ложной дилемме Канга-Сильвии (либо сохранение УВИ с убийством Локи Сильвии и многих миллиардов нерожденных / умерщвленных реальностей, но предотвращение появления множественных злых Кангов; либо уничтожение УВИ, которое все равно приведет к появлению УВИ через кровавую и апокалиптичную войну, но где хоть немного будет сиять свобода воли), где бог обмана, иллюзий и лжи выбирает разрезать гордиев узел. Ну а дальше следует та самая великолепная сцена восшествия на трон и прорастания Иггдрасиля. И об этой сцене я хочу сказать в заключении, прежде чем просто посоветовать сериал к просмотру, даже тем, кто, как и я, не фанат "Марвел". По мне, скопилось уже множество интерпретаций или лишних вопросов к завершению сериала. К его значению, скрытым смыслам и т. д. И как бы я сам не любил попытки — зачастую никак не связанные с замыслами авторов — проникнуть в изнаночную плоскость произведений, здесь, мне кажется, все дано на поверхности. Аспект с самопожертвованием и решением дилеммы через некий третий, радикальный вариант, и так очевидны. На них я останавливаться не буду. Но далее остановлюсь на трех деталях. Первая из них, ставшая уже самодостаточным вопросом — за счет каких сил Локи, с одной стороны, путешествует сквозь время по собственной линии жизни, а с другой, как он при этом в конце как бы оживляет нити реальностей? Первая половина вопроса, по-моему, достаточно банальна. Локи же бог обмана и лжи? Вот он и вывел свою способность на максимум — смог обмануть само время, его ход и даже его как бы отсутствие в здании УВИ. С оживлением реальностей чуть сложнее. Мне кажется, что это не придание им какой-то витальной энергии, а скорее что-то тоже связанное с иллюзией. Помним же индуистско-буддистские идеи пелены обмана, т. е. Майю? Вот, наверное, это что-то из этой же серии. Хотя и само как бы отмирание размножившихся реальностей после уничтожения Ткача времени не очень понятно и объяснено. Далее, второй пункт, это появление Иггдрасиля. Пишут, что Локи специально придал форму как-бы-новой-но-не-совсем-мультивселенной в образе известного мифического мирового древа. Не вижу причин, зачем бы ему это намерено и сознательно делать. Как показано, кроны и корни как-бы-дерева-миров — это натянутые сети из множества множеств множащихся реальностей. Т. е. она скорее вынужденно такая, а не ради утверждения мультивселенного Асгарда. Ну и последнее. Кто-то усматривает в возведении золотого трона Локи для самого себя в месте ("не-месте") вне пространства и времени исполнение осознанного желания Локи. Якобы, решая вселенскую и нравственную проблему, он еще и мимолетом, для себя любимого, все-таки стал управителем мира, но благородным и прошедшим духовную эволюцию. Опять же, здесь видится скорее не такое объяснение более верным, простым и очевидным, а все та же вынужденность и необходимость именно такого оформления своего положения в центре мультивселенной (трон Локи — это трон Того, кто остается в разрушенной Цитадели в конце времен), а также определенная ирония и усмешка бога не только лжи и иллюзий, но и шуток над самим собой в прошлом. Трон есть, и его значение теперь еще влиятельнее, чем предполагалось, но эта ноша устраняет всякую выгоду и удовольствие от того недоправление всеми возможными мирами. И, кстати, напоследок, в новом и необычном троне Локи мне видится (наверное, самая притянутая из всего, что я написал ранее) даже новозаветная отсылка ("это библейская история, абсолютно" (с) ), по которой не Царствие Земное, но Царствие Небесное и правление в нем предназначено Спасителю. И здесь Локи предназачен не трон Асгарда, но трон всех вселенных.
|
| | |
| Статья написана 29 октября 2023 г. 00:08 |
 Путешествие во времени,в котором время тратится попусту*возможны (и будут) спойлеры* Путешествие во времени,в котором время тратится попусту*возможны (и будут) спойлеры*В далеком 2018 году, в заметке-рецензии на польский сериал от Netflix, я многословно негодовал о том, как же измельчала антиутопия. Дескать, в литературе господствует оруэлловщина, а за исключением нескольких интересных проектов выстраивание ужасных миров будущего ведется по лекалам квазисоциалистического реализма. Не могу сказать, что я совсем отрекаюсь от своих слов, но реальность вносит коррективы в условия их истинности. В который раз... Во-первых, сама окружающая действительность стала более оруэлловской. Дабы никого не оскорблять и не нарушать какие-либо правовые скрижали, не буду уточнять этот пункт. Но важнее то самое "во-вторых", которое как раз исходит из положения дел в антиутопиях литературных, киношных и сериальных, а не покрытых плотью материального существования. Ведь, если посмотреть на другой проект, инициированный и реализованный все тем же Netflix, теперь проявилась совершенно иная проблема. То, что заявляется как антиутопия, не преподносится, не показывается и не высказывается как антиутопия. И тут мы проделываем странную (ин/э)волюцию от книжных утопий древности (которые на самом деле были антиутопиями) через также книжные антиутопии прошлого века (которые стали эталонными, как казалось в рецензии на польскую альтернативную историю, даже устаревшими, надоевшими и набившими оскомину) к антиутопиям современным (которые непонятно почему и зачем самоименуются антиутопиями). Но обо всем по порядку. Мини-сериал "Тела" ("Bodies") преподносится как триллер, детектив и хроноопера в одном флаконе. Тизеры с трейлерами обещали, что такая смесь не станет амальгамой несочетаемого и разнородного, сохранит не просто целостность, но станет оригинальным, в меру сложным и не в меру интригующим проектом, от которого не оторваться на протяжении всех восьми эпизодов. И тут сразу надо напомнить — в первую очередь для самого себя — что тизерно-трейлерный видеоряд давно стал сам по себе искусством, самостоятельным и преследующим одну-единственную цель — завлечь аудиторию к будущим сериалу или фильму. И я, каюсь, завлекся. Прежде, чем привлечь к критическим суждениям о сериале вопрос неправдоподобности — и невысказанности — антиутопии, вернемся к амальгамному содержанию "Тел". Действительно, детектив, триллер и хроноопера не соединились тут в целое, развалившись на неудобоваримые куски. Детектив в плане интриги почти сразу же аннигилировал сам себя (авторы в первой же серии вводят четвертый временной отрезок — крайнее будущее, 2053 год, а в следующей же серии сразу приводят труп героя, точнее, персонажа, пока еще не перешедшего в статус трупа, и детективная часть на самом старте сериала становится в лучшем случае анти-детективом), триллерное напряжение не появилось вовсе (мы примерно с третьей серии знаем, кто главный злодейский-злодей, который будет делать гадости — так что как-бы-напряженные моменты неудачной реализацией хронооперы заранее становятся предсказуемыми для зрителя), а хроноопера... она как всегда больше опера, чем первый корень (я не буду много высказываться о логичности и/или алогичности темпоральных переходов и событий сериала, т. к. недавно понял, что нуждаюсь в большем изучении самопричинных объектов и иных научных интервенций в эту сторону, чтобы обоснованно разбирать подобное из мира творчества). Но помимо этой куцей амальгамности бросаются в глаза следы других проектов Netflix. Именно из них и слеплен образ "Тел", но вот зачем этот бриколаж вообще потребовался — бог весть. Например, не углядеть "Тьму" как одного из доноров для рассматриваемого франкштейна сложно (наверное, это тот сериал, в котором важнее не сам фантдоп, конфликт героев или сюжет, а идея, даже идеология, а именно идеология антинатализма с прямым цитированием Шопенгауэра — об этом писал немного ранее). Тут и сама идея тройного сюжета с детективной связкой и кровосмесительной подоплекой. Куда и без упомянутого в самом начале "1983" — тоталитарный строй, оформившийся путем мобилизации нации перед организованными врагами взрывами, а также технологическая сложность режима, его общая симпатичность (об этом далее) и даже привлекательность социального порядка. Детективную линию сквозь время для борьбы с правым поворотом, волной насилия и взрывами уже не в Англии, но Штатах можно встретить в фильме от этой же стриминг-платформы — на который я также составлял заметку — "В тени Луны". Наверняка тут можно найти и что-то еще, но, в конце концов, нет греха во вдохновении чем-то иным, а тем более своим собственным. Основная проблема сериала в том, что он выдает себя за одно. а оказывается другим. Практически на первых двух-трех эпизодах все становится кристально ясно с основными интригами, что лишает выявленную триаду выше какой-то ценности. Но на сцену выходит другой жанровый элемент, ранее не заявленный, как из четвертого временного отрезка, в котором только предстоит возникнуть тому самому триединому телу. Это борьба бравых повстанцев с тоталитарным режимом будущего, сформированного вокруг слогана "Know You Are Loved" / "KYAL ("Знай/Помни, Что Ты Любим"). И, пусть тема избитая, зато вечная. Но для подобного конфликта нужен сам конфликт. Уж пусть он не дорастает до сложных антизлодеев и антигероеев из "Пацанов", но хотя бы будут мазки противоположных цветов, контраст и понимание, почему перед нами именно злостный тоталитаризм, требующий низвержения и замены демократией. Но и здесь жанровая составляющая никак не реализована. Непонятно, почему Лондон режима KYAL плох. Нет, безусловно, ужас, кошмар и бесчеловечность, какими путями было основано все это предприятие (атомный взрыв при помощи основателя тоталитарного культа и нескольких десятков убийств до взрыва), но а результат? Вон, на странице фантлаба с "О дивным новым миром" есть много отзывов, доказывающих, что перед нами утопия, в которой хочется жить. Так и здесь есть только упоминание того, что ликвидирована парламентская демократия и выборы (а кто бы сегодня под этим не подписался? Желающих найдется вдоволь). Несогласные с режимом не в подземельях скрываются, а в городских окрестностях, с освещением, водоснабжением и доступом к Сети. А властители этого политического образования настолько то ли тупы, то ли правда сверхгуманитичны, что после завершения цикла временной петли, из-за которой они и существуют, после выполнения этой экзистенциальной задачи, они, например, не убивают персонажа Ширы Хаас, не проверяют ее на всех футуристичных детекторах лжи, выжила ли революционерка, которую играет Амака Окафор, а просто повышают ее по службе и даже не устанавливают постоянное наблюдение... с их-то технологиями, которые позволяют калекам ходить на собственных ногах. Но, повторюсь, самое главное — это неясность того, почему будущее преподносится как антиутопия. У них даже экостаканчики есть, смех и грех прямо. В конце концов, ну раз уж вы заявляется как центральное противоречие в становлении главгада — отсутствие любви и стремление к ней — то режиму KYAL можно было добавить замятинского шарма. Например, секс по талонам. В общем, сделать хоть что-то, что выявило бы в нем его коллективистскую тотальность, кровавую убогость, отсутствие индивидуальной свободы. Я даже не знаю, отчего — может, сами авторы считают, что для зрителей давно просто можно указать словом на то, что это нечто — антиутопия, и все станет на свои места. Настолько это штамп... И можно проходиться и по другим странным, неудачным и абсурдным сторонам "Тел" (например, о невероятно тупом и наивном плане из последней серии положительных персонажей по поводу того, как порвать петлю), чтобы показать, что никакие жанровые заявления не реализуются в итоговом продукте, входят в конфликт друг с другом, из-за чего эстетической целостности ну никак не выходит. Какая-то какофония отдельных событий, да, порой любопытных персонажей, которым и посопереживать можно, за развитием которых интересно наблюдать (по сути, это один лишь герой Джейкоба Форчуна-Ллойда, еврейского детектива в Великобритании времен нацистских авианалетов, который из ненастоящего детектива с грязными руками становится антигероем с примитивным, но все же моральным компасом), но второй элемент — исключение, нежели чем правило. Смотреть не советую — трата времени бесценного на бесцельное путешествие во времени.
|
|
|



 облако тэгов
облако тэгов

