Салман Рушди: «Я ощущаю страх, думая о том, что принесут нам ближайшие годы при новом президенте»
© Илья Данишевский, Любовь Сумм
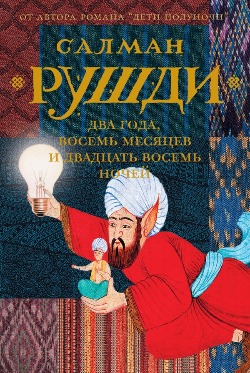
цитата— Когда вы разделяете «рассказчика» и «писателя», происходит попытка решить один из главных вопросов — наличие у писателя внешних обязательств. «Рассказчик», воплощая естественную потребность рассказывать свою историю, конечно, нарушает общественные ожидания.
— Да, это верное и тонкое разделение, и, конечно, я не согласен с тем, что писатель кому-то обязан. У него нет долга ни перед чем, кроме собственного труда и потребности рассказать ту или иную историю. Да, можно было бы сказать, что внутри писателя находится рассказчик как его важнейший, но не единственный инструмент.
Я бы сказал так: нарратив — это важный аспект писательской работы, но лишь один из. Перед писателем стоит немало других вопросов — форма, язык, тема, символика, лейтмотив и так далее, и все это нанизывается на «рассказчика», использует его как инструмент.
— В последнем романе ваш язык заметно отличается от языка прежних ваших книг — какие задачи он решает?
— Каждая книга обладает собственным голосом, собственным словарем эмоций и образов. Например, «Флорентийской чародейке» умышленно придан барочный характер в соответствии со стилем тех книг, которые могли читать персонажи — люди конкретного исторического времени. В «Клоуне Шалимаре» звучит иной голос, гораздо более мрачный и резкий, и это опять-таки соответствует материалу. «Два года» сочетают стиль народной сказки и пародийной истории, псевдоистории, что опять-таки рифмуется с сюжетом.
— Персонажи — такой же инструмент, как язык и нарратив? Иногда очень заметно ваше к ним отношение, личные реакции.
— Я думаю, если автор не будет любить созданных им персонажей, причем «плохих» так же искренне, как «хороших», то и читателю они останутся безразличны. Я воспринимаю персонажей как живых существ, к которым я прислушиваюсь, стараясь понять, в чем они нуждаются. Творчество происходит из такого особого вслушивания, а не из тирании автора. Я стараюсь не слишком часто диктовать.
Эти персонажи развивались, росли и достигли свершения своей судьбы органически, а не теоретически. Я как писатель не очень склонен теоретизировать. Я предпочитаю наткнуться на сюжет и продвигаться дальше, повинуясь не анализу, а инстинкту.
— В других книгах вы активно вовлекаете в сюжет «властителей» — президентов, диктаторов, пророков, реальных и вымышленных. В «Двух годах» политика почти бестелесна.
— Не обязательно все романы писать об известных политических деятелях!
Я никогда не сомневался в могуществе литературы, хотя и стараюсь не приписывать ей чересчур много. Однако, с моей точки зрения, нам сейчас как никогда необходимо искусство вымысла: нужно ясно представить себе, что ты живешь и работаешь в пространстве полной свободы, — только так можно отстоять возможность быть собой.
— Ваша книга «Стыд» сегодня очень актуальна, особенно для России, где государство хорошо проговаривает вещи, за которые следует испытывать стыд. Речь является почти официальным врагом власти.
— Я очень горжусь романом «Стыд», и мне порой кажется, что эта книга, опубликованная в 1983 году, сделалась сейчас более актуальной, чем в ту пору, когда она была написана. Тогда ее, как мне представляется, заслоняли две наделавшие много шума книги: вышедшие перед ней «Дети полуночи» и после нее — «Сатанинские стихи». Но теперь, мне кажется, этой книге начинают воздавать должное, у нее появилось намного больше читателей, чем в прошлом, ее стали изучать.
Чем ближе государство к авторитаризму, тем сильнее оно стремится контролировать нарративы. Вот почему писатели, те, кто хочет освободить нарратив и выявить мириады его возможностей, зачастую оказываются в конфликте с государством, которое пытается сузить спектр возможностей и направить их в подконтрольное русло.
Прямо сейчас в США мы имеем дело с попыткой России контролировать американский нарратив, это нечто совершенно новое и внушающее тревогу.
— «Два года» так далеко смотрят в будущее в том числе и для того, чтобы убедиться, что будущее вообще существует?
— Не знаю. «История, — говорит Стивен Дедалус, — кошмар, от которого я пытаюсь проснуться». Прямо сейчас, сидя в Нью-Йорке, я ощущаю такой же страх, думая о том, что принесут нам ближайшие годы при новом президенте.
Я не хотел, чтобы этот роман уподоблялся современным дистопиям. Сейчас все сочиняют дистопии, даже авторы книг для подростков. Вот я и захотел вообразить для нас более обнадеживающее будущее — но не до нелепости оптимистическое. Прежде всего, заметим, что на построение этого будущего отведено тысячелетие, об этом постоянно упоминается в книге, так что оно от нас очень далеко, а кроме того, даже в том лучшем будущем проблем тоже хватает.
— Очень интересной кажется история Стивена Кинга о том, что когда он закончил «Кладбище домашних животных», то понял, что нет, он отказывается это публиковать. А вы хотели бы что-то изменить, что-то не рассказать или что-то не обнародовать?
— Нет, я никогда не был склонен что-то в себе подавлять или умалчивать.
— Помните ли вы ваше ощущение от «Сатанинских стихов», когда только закончили книгу?
— Нет, это было слишком давно, чтобы теперь вспомнить. Я не так уж часто оглядываюсь на прошлое. Я смотрю вперед, готовлюсь к следующей книге.
— А что для вас как читателя находится за границами толерантности?
— Только плохо написанные книги.
источник:


