| |
| Статья написана 12 апреля 2017 г. 19:27 |
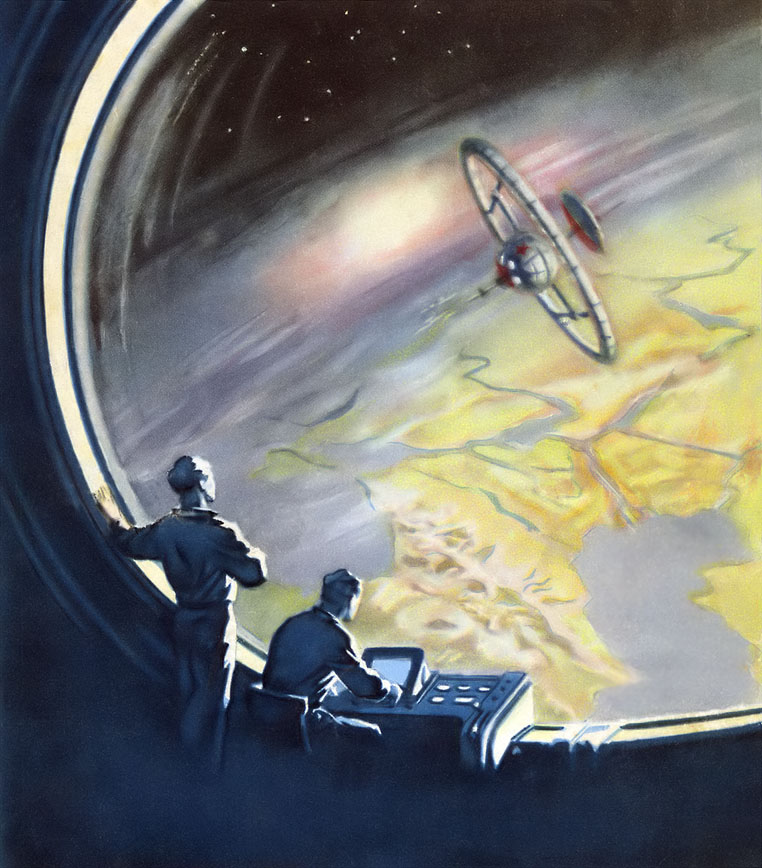
Помните! Через века, через года,— помните! О тех, кто уже не придет никогда,— помните! Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! Хлебом и песней, Мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! Люди! Покуда сердца стучатся,— помните! Какою ценой завоевано счастье,— пожалуйста, помните! Песню свою отправ ляя в полет,— помните! О тех, кто уже никогда не споет,— помните! Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! Во все времена бессмертной Земли помните! К мерцающим звездам ведя корабли,— о погибших помните! Встречайте трепетную весну, люди Земли. Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. Но о тех, кто уже не придет никогда,— заклинаю,— помните! 1962 Роберт Рождественский. Из "Реквиема". 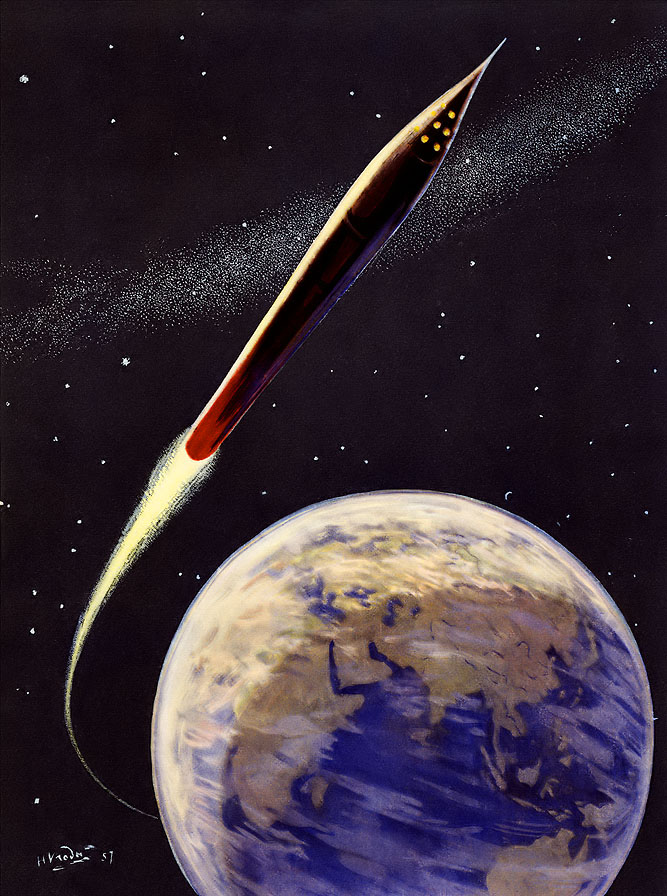


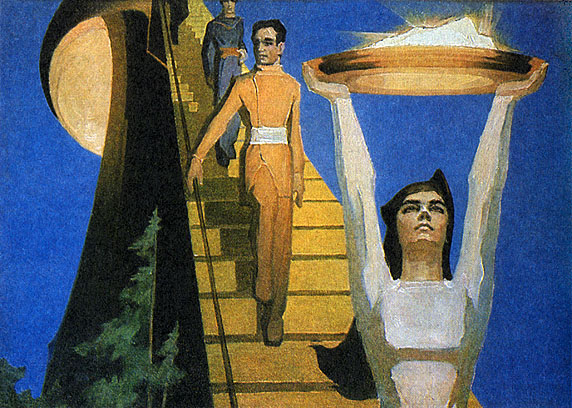
http://www.fandom.ru/about_fan/golobokov_...
|
| | |
| Статья написана 9 апреля 2017 г. 18:59 |
Реферат на тему: Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь. В історії розвитку вітчизняної літератури бували такі періоди, коли поет ставав центральною постаттю в суспільстві. Як правило, вони збігались із епохальними суспільно-політичними подіями, докорінними змінами на різних рівнях життя. Поети наділені здатністю реагувати на них раніше від інших сучасників: від політиків, економістів, істориків і т. ін., навіть раніше своїх творчих побратимів-прозаїків і драматургів. Літературну карту ХХ ст. В україні визначили два покоління письменників, відокремлені значним часовим проміжком, що, проте, не завадило їм перебувати "на відстані серця" (Л. Костенко) одне від одного. Це — "двадцятники" і шістдесятники. "Поняття "покоління" -- конкретно-історичне й безумовно необхідне для усвідомлення соціально-художніх зрушень у мистецтві. Однак було б спрощенням вважати, що лише одне покоління, навіть таке небуденне і яскраве, як шестидесятники, може виступати носієм новаторства і цим відрізнятись від інших", -- так вважає Ю. Ковалів1 і не погодитись з цим немає підстав. Поезія 60-х змогла досягнути значних успіхів і впевнено знайти шлях виходу після кількох десятиліть застою завдяки надійному фундаменту, закладеному поколінням поетів 20-х рр. Адже література 40-50рр. Перебувала у справді загрозливому мертвотному стані, що засвідчила хоч би антологія "Українська радянська поезія" (1951р), де пісні про Леніна, Сталіна, партію, комсомол складають основу. "Із усіх 474 віршів, вміщених в антологію, тільки 14 можна зарахувати до лірики".2 Якщо прогрес людства є рух по спіралі, то 60-і в літературі були її наступним витком після 20-х. Надто багато спільних рис об'єднує ці розрізнені відрізки шляху української літератури.
Друге десятиліття ХХ ст — було часом плідної творчості цілого сузір'я поетів першої величини. Ще працювати корифеї: І.Франко, Л. Українка, В. Самійленко, М.Вороний. До них приєднуються поступово молодші — М. Філянський, М. Чернівський, А. Кримський, пізніше — М. Рильський, П. Тичина, М. Семенко. Після громадянської війни входять в літературу В.Сосюра, Д. Фальківський, М. Йогансен, і т.д. У 60-і рр. живими класиками вважались ті що в 20-і були початківцями-В.Сосюра, М.Бажан, В. Мисик,М.Рильський. З'єднуючою ланкою між 50-ми і 60-ми була творчість Д.Павличка і Л.Костенко, у 60-і прийшли цілі "косяки талантів" (Л.Костенко), серед них : І.Драч, М.Вінграновський, Б.Олійник, І.Світличний, В.Симоненко та багато інших. Наведені приклади такого співіснування в часі численної плеяди поетів "хороших і різних"- явища в літературі неординарні і в кожному випадку щасливі. За існуючою на сьогодні в літературознавстві шкалою виміру можемо характеризувати їх ще одним поняттям — ренесансні. Однак і в період 20-х і в 60-і рр. стосунки між представниками молодших і старших неформальних угруповань митців не варто спрощувати: вони були далеко не однозначними. Ставлення до старших братів по перу набувало іноді гостро критичних форм. Пояснювалось це різними причинами: для "двадцятників" поезія кінця XIX ст. Символізувала занепадництво, провінціалізм; виступи проти деяких поетів диктувались прагненням покінчити з "хуторянською" філософією, "хатньою" замкненістю літератури. "Для того, щоб ми не зупинялись в творчості, ми повинні дивитись куди й до чого ми йдемо, а не оглядатись весь час туди, звідки вийшли... Цебто: одгетькувати якомога рішучіше "селозовані" традиції дотеперішньої української культури. Нехай Косинки, Осьмачки і навіть Тичини оглядаються і тримають міцний зв'язок з Нечуєм-Левицьким, Васильченком та ін.",3 — писав В.Поліщук. А М.Семенко навіть зважився посягнути на національну святиню-прославився символічним спаленням Шевченкового "Кобзаря". Може комусь ці факти видадуться непереконливими- що ще чекати від представників "мистецтва майбутнього". Але й цілком відмінного за естетичними переконаннями члена групи "неокласиків" обурював "старосвітський смак" деяких "мрійників без крил": От Петька Стах, містечковий сіряк От Вороний, сентиментальна кваша О, ні, Пегасові потрібна інша паша, А то — не вивезе, загрузне неборак.4 Для шістдесятників подібні виступи уособлювали протест проти закостенілості, фальші, декларативності літератури, проти інерції поетичного мислення. В "Оді чесному боягузові" І.Драч не називає імен, але цей твір викликав особливу лють літапаратчика з членівським квитком СПУ. Не може пробачити літераторам їх лицемірства і фальші Б.Олійник. Він не хоче згладжувати гострі кути триваючих в 60-і суперечок між письменницькими поколіннями, коли викриває "безбарвність", бездарність, честолюбство деяких поетів "з народу": О, скільки пройшло вас під небом високим і гордим Порожніх на мисль, зате самолюбством — ущерть. Безбарвність свою самозванно прикривши народом П'ялись на котурни: Я ваш! Я народний поет!5 В такій ситуації не дивно, що поети вдались до пошуків пророка поза межами своєї Вітчизни. Критично сприймаючи досвід попередників (і не набувши власного), заперечуючи їх емоційну стихію, громадську позицію, засоби образності і т.д. молоде покоління усвідомлювало потребу вдосконалення. Для шістдесятників було властиве захоплення Хемінгуеєм, Ремарком, Рільке. "Неокласики" обожнювали "парнаських зір незахідне сузір'я"; футуристи сформувались як угруповання під безпосереднім впливом Верхарна, Рембо, Бехера, Уітсона. Незаперечними зразками творчості для символістів були твори Метерлінка, Гауптмана, Верфеля і т.д. В цьому контексті неможливо не згадати і про всеукраїнську дискусію 1925-1928 рр., одним із центральних суперечливих моментів якої було гасло М. Хвильового "дайош психологічну Європу!".Примітивізму гаркун-задунайських протиставляється творчий тип представника європейської культури і не лише як психологічної категорії, але й як уособлення грандіозної цивілізації, що виплекала Гете, Байрона і т.д. Українська література не лише збачувалась досвідом іноземних літератур, але й сама активним чинником їх збагачення. "Українська художня культура в періоди свого піднесення функціонувала в загальноєвропейському контексті, була відкритою для світових духовних процесів. І її занепад завжди був пов'язаний зі штучною герметизацією, блокадою, а відродження- із зусиллями прорвати цю блокаду".6 "Європеїсти" 20-х на чолі з М.Хвильовим були прогресивною силою літератури, когортою відважних, що рушили "проти течії". Нонконформісти 60-хтакож пішли "проти течії", порушивши уставлені канони запліснявілої соцреалістичної доктрини, віднайшовши нові, свіжі форми поетичного вираження думки. На боці молодих завжди була готовність до творчого ризику, молодечій ентузіазм, навіть деяка зухвалість. Активність їх ідейно-стильових пошуків говорить про прагнення розширити розмиті обрії поетичного мислення, сягнути життєвих сфер, що особливо бентежили душу, вивільнились від впливу попередників. Вони відстоювали своє право на правду, свободу творчості, протистояли зловживанню ідеологією. Сукупність наведених факторів і є поясненням надзвичайної популярності поетичного слова в 20-і і 60-і роки. Важливою особливістю перших років після громадянської війни було значне посилення інтересу до поезії. Як тільки змовкли гармати, музи заявили про себе з відновленою силою. Виступи поетів збирали великі аудиторії. У свій час надзвичайно популярними були вечори "Гарту" і "Плугу". Ця захопленість поширювалась як на читачів, так і на митців, як на інтелігенцію, так і на маловчених селян. Вірші постійно друкуються на сторінках масових революційних видань. Статистика тих таки "Гарту" і "Плугу" нараховувала понад 15 тисяч самих тільки літературних гуртків. А скільки ще було незареєстрованих офіційно "українців з рукописами в кишенях" (Ю.Липа) можна тільки здогадуватись. Аналогічною була ситуація в 60-і рр. Поезія панувала повсюдно: на сторінках радянської ("Літературна Україна", "Дніпро", "Вітчизна") та зарубіжної (чеські журнали "Дукля", "Дружно вперед", "Народний календар"; польський "Український календар", німецький часопис "Сучасність") періодики; на сценах концертних і театральних залів і в студентських аудиторіях; під час творчих зустрічей з робітниками в заводських і фабричних корпусах; на літературних вечорах в Клубі творчої молоді та численних регіональних клубах такого типу і т.д. Але й цих завоювань їй було замало: поезія поширюється у сферу самвидаву, панує на неофіційних літературних вечірках, квартирних зібраннях молоді, спраглої за живим, правдивим словом. Вечори молодої поезії проходили в атмосфері повного ажіотажу. Як свідчить Г.Касьянов величезний резонанс викликав вечір пам'яті В. Симоненка в Києвському медінституті, вечір сучасної поезії на заводі верстатів-автоматів у Києві, вечір в Київському парку культури і відпочинку, присвячений творчості Лесі Українки7. Трибуною шістдесятників були також деякі радіо і телепередачі. Як писав Ю. Ковадів "такого широкого кола шанувальників поетичного слова поезія не мала ще з 20-х років".8 Особливим у досліджувані десятиліття став вимір особистості, яка відчула свою причетність до руху історії. У 60-і, може вперше після тривалої сталінської "зими", людина перестала бути гвинтиком суспільного механізму; відчула свою неповторність і навіть велич особливо гостро в роки національного підйому. У 20-і, після численних обмежень царського уряду розвиткові української культури, довгожданим ковтком свіжого повітря здавалась більшовицька політика українізації. Як писав І. Кошелівець, здобуток мистецького ренесансу 20-х полягає не лише у створенні багатьох талановитих творів, а й у "витворенні окремого типу творчої людини доби ренесансу, яка увійшла в конфлікт з тоталітарним режимом, хоч проти нього не виступала, а навпаки, старалась стояти осторонь політики. Цій людині... був властивий індивідуалізм, незалежність думання. Чужа їй була партійна догма, що вимагала послуху й покори"9. Хіба все це, дослівно, не можна було б сказати і про шістдесятників? Адже, в першу чергу, це було покоління нонконформістів, незгодних, появу яких Г. Касьянов назвав "явищем революційного характеру".10 Щоправда це був мовчазний спротив, який у 20-і з легкої руки Д. Загула назвали "внутрішньою еміграцією". Ні шістдесятники, ні "двадцятники" не чинили активного опору системі, але були його підгрунтям. Кращі їх представники прагнули звертатись до сучасників тільки голосом на найвищому регістрі, і якщо в ньому вчувався маршовий мотив, то це був мотив соціалістичного гуманізму, нещадного до класового зла і побутової аморальності: Кращої дороги не знайти Як служити партії й народу!11- в цьому був щиро переконаний В. Симоненко. "Небом своїх надій" вважав І. Драч комуністичне майбутнє. Б. Олійник бачив своє кредо у служінні соціалістичній ідеї. Серед шістдесятників не було відвертих противників режиму, більшість з них прагнули лише його вдосконалення, чого і самі не заперечують: "Шістдесятники-спонтанний вияв духовного дозрівання нового мислення в надрах тоталітарної системи. Вони виховувались саме в ній, в цій системі, нісши на собі родимі плями середовища, яке їх породило, перейшовши різні стадії його усвідомлення. Багато з них на початку були щиро перейняті тими ідеологічними міфами, які самі ж потім відкинули. Причому, підкреслюю,: щиро перейняті-фальш, пристосовництво, цинізм були їм чужі завжди".12 Згадуючи про І. Світличного І. Дзюба також стверджує, що ніяким "антирадянщиком" чи "націоналістом" він не був, а своїм ідеологічним кредо вважав демократичний соціалізм.13 Ще більше, використовуючи метафору Світличного, "рожевощокого соціального оптимізму" було у "двадцятників". Серед них зустрічаються і переконані комуністи, свідомі свого соціального вибору. Але більшість не були пов'язані з практикою революційного руху і тому вловили загальний настрій епохи: музику революції почули раніше, ніж зрозуміли зміст її слів. Безпосереднє захоплення революцією брало гору над критичним розкриттям її справжньої суті. В багатьох поезіях П. Тичини, В.Сосюри, Ю.Яновського, І. Багряного герой перебував в атмосфері бажаного, а не дійсного. Художньо це позначилось у відсутності конкретно-історичних обставин, у відособленості ситуації від всього буденного. Особливо великі надії на новий суспільний устрій покладали пролетпоети і це зрозуміло. Але навіть дуже далекий від соціального пафосу М.Рильський вірив: Ні, ні! Прийдешнє-не казарма, Не цементовий коридор! Сіяє в небі нам недарма Золотоокий метеор! Ця нестримна віра в справедливий суспільний устрій спричинила до посиленого розвитку теми космізму в літературі. Взагалі, космізм--явище, характерне для кожної зламної доби, хоч він і не є однорідним. При спільності теми космізму в 20-і і 60-і трактування її дуже широке. Поети 20-х рр. ідуть в основному від мікрокосмосу до макрокосмосу, шістдесятники-навпаки. Гіперболічний образ планетарного комунара створив В. Еллан у вірші "Удари молота і серця". Космічні мотиви зустрічаємо і в М.Хвильового--"В електричний вік", В. Сосюри--"Навколо". Одним із перших зробив спробу поринути в наземні світи П. Тичина. Дивну музику планетарного хору він намагається передати примхливими образами: Мільйони сонцевих систем вібрують, рвуться, гоготять. Комети іржуть і баско мчаться і океани над океанами шумлять14 В центр будь-якої щонайскладнішої всесвітньої будови поети все-таки намагаються поставити людину. Я правило — самого себе, аби пропустити космос через власні почуття: Я дух — рушій, я танк-такт, автомобілів хори моторами двигтить мій двір-гараж І я так легко, мов дітей на пляж веду титанів у простори, 15 - так відчуває макросвіт П. Тичина. Близький до нього в цьому В.Гадзінський: Я — матерія і рух Я — Космос. Я — нескінченність, Що спадає в Зеро16 та В. Поліщук Я ... — за гранями трійчастої космічної системи за зорями, сонцями, туманними формаціями...17 Почуття гордості за людину — сучасника, що здійснила політ по навколишній орбіті надихнуло М. Вінграновського на відомі рядки: Я встав з колін І небо взяв за зорі18 Щось схоже відчував і М.Йогансен, пишучи Я на мапі світовій став І стер меридіанів лінії19 але це була гордість за людину-переможця, творця нової історії. Мислення космічними категоріями у 60-і виникле на хвилі ХХ з'їзду, в атмосфері всезагального духовного розкріпачення. Але при цьому митці також долучались до традицій Розстріляного Відродження. М. називає три джерела космічної теми молодої поезії 60-х років: політ людини в міжпланетний простір, "космічність" художнього мислення О. Довженка та традиції української поезії 20-х років.20 Поему "Ніж у сонці" І.Драч писав саме тоді, коли, за словами М. Руденка "кожний мешканець Землі зобов'язаний навчитись одночасно відчувати себе мешканцем Сонячної системи, мешканцем Галактики".21 Герой поеми рятує Землю від катастрофи, але його призначення цим не обмежується: він відкриває таємницю неповторності індивідуальних людських світів і наголошує на необхідності їх захисту і збереження. Космос тут відіграє функцію дзеркала, яке допомагає людині побачити свої істині масштаби. Прямим перегуком з "Ножем у сонці" Драча, "Атомними прелюдами" Вінграновського, віршем "Смертельний па-да-грас" Л. Костенко є поема "Розум" В. Гадзинського,22основу якої складає драматична колізія: як відвернути масове знищення людей, запобігти катастрофі, що може спалахнути через нерозумне використання зброї. Поет застерігає людство від "розумних кретинів" і "нерозумних філософів", "скептичних ентузіастів" і "ентузіазних скептиків", людей, котрі загубили всі межі розуму, честі. Стімкий науково-технічний поступ (політ у космос був лише одним з його досягнень), що породжував ілюзорну віру у всемогутність техніки, здатної стабілізувати суспільство, був одним із чинників змін художньої свідомості. Це твердження однаково справедливе і стосовно 20-х і стосовно 60-х років. Престиж техніки, принцип ефективності, надійності, пов'язаний з машиною, апологія матеріальної вигоди формували раціональний, прагматичний тип творчості. Дійсність, яка множила свої можливості за рахунок НТР, безцеремонно втручалась в художню форму, змінюючи її внутрішні характеристики. У 20-і підвищений інтерес до доцільної діяльності, технічний практицизм сформували стилістику літератури конструктивізму і футуризму. Конструктивісти, які прагнули до зближення творчості з виробництвом і наукою і футуристи, які взагалі заперечували необхідність мистецтва в майбутньому високорозвиненому суспільстві, протиставляли себе традиційним "волошковим" поетам. У 60-і за аналогічними мотивами виникла популярна дискусія між "ліриками" та "фізиками". У добу космічних ракет і атомної енергії художня література втрачає своє значення — вважали "фізики". Вони намагались переконати широкий загал, що математичний інтеграл корисніший за поезію Байрона і картини Брюлова. Як доказ вони наводили всенародну увагу до польотів у космос Титова і Гагаріна і відсутність такої навіть до найталановитіших творів мистецтва. Внаслідок таких суперечок в літературу все інтенсивніше проникає наукова термінологія, навіть схеми та формули. З'явились твори, присвячені великим науковим відкриттям ХХ століття. І Драч перебував під враженням відкриття Крика і Уотсона, пишучи "Баладу ДНК"; прив'язаність до конкретної події, а саме — роскладу ядра літію бригадою вчених УКРФТІ характеризується вірш "Атом" О. Ведміцького. Завдяки поетичним творам В. Поліщука ("Подих стихії", "Матерія", "Безодні"), М. Доленга ("Зелене тло", "Царство розуму", "Дійсність", "Споконвіку"), В. Гадзинського ("Айнштайн. Земля"), М. Вінграновського ("Атомні прелюдії"), І Драча ("Ніж у сонці", "Кібернетичний собор"), М. Бажана ("Число") українська література поповнилась зразками "наукової" поезії. Наукове бачення В. Поліщука та І. Драча має дотичні точки: з одного боку їх погляд на природу це погляд вченого, з іншого — тонкого лірика. Подекуди до біологічних елементів поезій додаються філософські роздуми: "Що там, за дверима буття?" — запитує себе ліричний герой одного з Драчевих віршів. Але відповіді нема: Я стукаю, вперто стукаю Чолом б'юсь, б'юсь серцем криваво... 23 Проблема небуття невідступно тяжіє, стаючи джерелом болючих переживань, і над В. Поліщуком: Я — чоловік, Та верховинна частка Усіх живих і прорісних творінь Чого в терпінні смертному тоскнію?24 Зацікавлення літературою сцієнтизму виявляє і М.Доленго, який прагне за допомогою внутрішньої форми слів-термінів трансформувати в нову тональність звичне коло ліричних тем. Він намагається вловити в поетичній формі суто розумові формули, які іноді поєднуються цілком несподіваним чином: Ти (матерія — Л.Н.) в мені. Я до тебе звертаюсь Я — цека моїх часток-клітин А на вулиці вчора — єднайтесь Пролетарі всіх країн!25 Розсудливість і раціоналістичність творів М. Доленга нівелюють їх ліричний бік, призводячи до декларативності. Характеризуючи творчість шістдесятників С. Крижанівський писав: "В міру наростання науково-технічної революції поезія відбивала в художніх образах процеси розвитку фізики, космонавтики... Це була революція в поетичному мистецтві, революція "тиха", але досить кардинальна. Зроблено ризький ривок... до переважання асоціативного мислення, вільного вірша над канонічними формами."26 Войовниче заперечення класичних зразків силабо-тонічної ритміки було характерне ще для доби Пролеткульту, а особливо великі надії на верлібр покладали конструктивісти. Тай й взагалі, як бачимо, ніякої революції — ні "тихої" ні гучної в науковій поезії 60-х не було. Насправді вона становила генетичне продовження насильницьки обірваних в 30-і поетичних експериментів В. Поліщука, О.Ведмицького, М. Доленга та багатьох інших. Освоєння нових форм життя, нових суспільних стосунків в літературі 20-х рр. починалось із занурення в побут. Він стає основою багатьох поетичних і прозових творів. В таких "побутових" творах сила художніх узагальнень завжди обмежена місцем, інтер'єром, всім даним матеріалом. Часто ставалось так, що матеріал запановував над художником, а не навпаки. Багато хто це вчасно усвідомив, намагаючись переосмислити щоденні побутові поняття в надпобутові. Побут і буття протиставляється у віршах Є. Плужника, М. Рильського, Т. Осьмачки, І. Багряного. В них потужно звучить спротив оміщаненню, зраді духовних ідеалів. Джерела надпобутового — і в радості наче першого знайомства із давно знайомими речами. Ця вишуканість простоти досягається в творах декого із шістдесятників, зокрема І. Драча. Його "Балада про випрані штани", "балада золотої цибулини", "Балада про відро" є зумисною переорієнтацією лірики з традиційно поетичних на нетрадиційно буденні об'єкти. Це нехтування усталеними канонами несе в собі відгомін футуристської епатажності, бажання здивувати, вразити. Але це бажання — не самоціль. Воно викликано прагненням бути щирим, по-дитячому безпосереднім у найдрібнішому, протистояти фальші і лицемірству пишного багатослів'я в літературі і житті. Це переосмислення оточуючих тебе речей — спосіб звільнення від їх влади і законів міщанського побуту. З особливою гостротою антиміщанські мотиви звучали в творах В. Сосюри, Д. Фальківського, Г. Косяченка. Я не знаю, хто кого морочить Але я б нагана знову взяв І стріляв у кожні жирні очі В кожну шляпку і манто стріляв,27 -- реакція В.Сосюри на "гримаси" непу досить прямолінійна. Серед розкішно обставлених вітрин і натовпу цікавих дискомфортно почуває себе і ліричний герой поеми "Вітрини" Г. Косяченка: Коли б це в двадцятому році Не стерпіло б серце і очі — Тоді стріляв би на кожному кроці!28 Цілком солідарний з ними у своему праведному гніві герой вірша М. Вінграновського. Міщани з їх "пледами, торшерами, борщами, вареннями — з малин, суниць, ожин", тобто з їх обмеженим колом життєвих інтересів викликають у нього обурення: Я задихаюсь! Біль — до млості! Я всі прокляття розпрокляв. І фіолетовий від злості Ножами серце обіклав.29 Люди, які, як писав М.Зеров "на все готові, аби мати туфлі з гострими носками"30 є живим запереченням всіх, виборюванних ціною власної крові життєвих ідеалів, тому не дивно, що з ненавистю дивиться "на пузатих в авто, на обличчя пухкі і манто" ліричний герой колишнього чекіста Д. Фальківського.31 Вірус обивательщини страшний тим, що створює ілюзію світу речей, нівелюючи значення духовного світу. "Лист до всесвітнього обивателя" В. Симоненка, це заклик отямитись до тих, що "ядовитими диво-фіранками... закрили од себе світ", що "анекдотами позіхають, коли вибухом землю трясе". Поету важко впоратись зі своїми бурхливими емоціями, тому і тут не обходиться без дещо гіперболізованих театральних проклять: Будьте прокляті ви усі, Ті, що нині в перинах ночуєте.32 Зневага до мішанина, хоч і не так прямо виражена, відчуваєтья і в творах Є. Плужника, І. Драча, Л. Костенко, Б. Олійника. Фальшивий світ спотворених цінностей сприймався досить гостро через зіставлення його з вимріяним світом поетів-романтиків, який здавався таким досяжним в освітленні газетних передовиць. Тематично-стильова спорідненість поезії 20-х і 60-х років — явище закономірне, хоча б тому, що шістдесятники виявляли особливу зацікавленість творами Розтріляного Відродження. Надзвичайним був інтерес до творчості Є. Плужника, М. Зерова, М. Хвильового, М. Куліша, П. Филиповича, Т. Осьмачки. У 60-і лише частина з них були реабілітовані. Заборонені твори 20-х рр. ставали для поетів "хрущовської відлиги" відкриттям невідоиої літературної галактики, що мало не менше значення, ніж відкриття в астрономії. Осмислення досвіду попередників давало можливість маштабніше відчути історичний рух, винести у нього уроки і зрозуміти його закономірності. Як не дивно, але шістдесятники знову поринули у проблеми, які були актуальними в 20-і рр. Це і звернення до фольклору, до відродження культурних традицій, мови, історичної пам'яті народу. Цілюще джерело літератури Розстріляного Відродження наснажувало коріння поетичного дерева митців 60-х рр. і про це є чимало прямих свідчень їх самих. Зі спогадів В. Шевчука дізнаємось, що вони добре знали літературу 20-х, хоч не через перевидання, а завдяки старим книгам. Дехто вдавався і до наслідування, як наприклад І. Калинець, що перебував під значним впливом Б.-І. Антонича.33 Як образно висловився Л. Танюк, за творами й виступами І. Світличного "виразно прослідковується шлейф 20-х і 30-х років".34 На тлі загальної картини українського літературного процесу ХХ ст і перехрещень на ній ідейно-тематичних особливостей двох віддалених періодів спостерігаємо також зрілі зв'язки між творчістю окремих представників цих періодів. "Якби І. Світличний був людиною не післявоєнних, а передвоєнних (двадцятих — тридцятих) років, то неодмінно був би серед плеяди неокласиків. Висока душевна культура, доброта, інтелект, деякі споріднені риси жанру і стилю ставлять його в рівень з Миколою Зеровим"35, -- писав М. Косів. Багато спільного на рівні світовідчування є у В. Симоненка і О.Влизька. В першу чергу, це радість буття, що властива молодим, сповненим всеперемагаючого оптимізму, віри і любові до світу: У Влизька: Вогню, вогню! -- Надлюдської любови! Хай кров кипить у грудях молодих! Беру тебе, о світе мій терновий, В обійми сонячні! В любов мою, Мов на вогонь кладу!36 У Симоненка: Світ який — мереживо казкове! Світ який — ні краю, ні кінця! Зорі й трави, мрево світанкове, Магія коханного лиця. Світе мій, гучний, мільйоноокий — - — - — - — - — - — - Дай мені свій простір і неспокій Сонцем душу жадібну налий!37 "Гей ти серце, -- соняшно гаряче, Гей ти, серце, -- сонцем золоте! Від колиски невгамовна вдача Оселилась з нами і росте!38" Ці рядки О. Влизька є немов логічним продовженням Симоненківських: Скільки б не судилося страждати Все одно благословлю завжди День, коли мене родила мати Для життя, для щастя, для біди39 Ренесанс, у найширшому його розумінні, починається тоді, коли на шляху боротьби із консерватизмом, закостенілістю, мертвотністю формального реалізму, творча думка набуває нових методів для вироблення свого світогляду, для створення свого неповторного мікросвіту, позначеного новим розумінням людини, Бога і космосу. Митці періоду Ренесансу — це люди особливої породи, що живуть у незвичайний час. Вони не просто є атрибутом певного історичного проміжку. Вони самі є творцями його, позначеного єдністю світовідчування, цільністю внутрішнього світу. Періоди відродження обумовлюються закономірностями прогресу культури. Варто прислухатись до роздумів В. Шевчука, який пише: "Інколи мені приходить думка, що існують несхитні закони самозбереження нації. І справді, подумаймо: в час тоталітарного знищення української культури в 1929 — 1941 рр. народились діти, які пізніше, в 60-х візьмуть на себе місію національного відродження — чи випадково це?"40 Наша стаття намагається дати відповідь на це питання. 1 Ковалів Ю. З одного джерела//Діалектика художнього пошуку. — К., 1989. — С. 85. 2 Кравців Б. 60 поетів 60-х років// Антологія нової Української поезії.-Пролог, 1967.-С.VI. 3 Поліщук В. Літературний авангард.-Харків,1926.-с.12. 4 Зеров М. Нова Україна//Лавріненко Ю. Розстріляне відродження.-Париж,1959.-с.126. 5 Олійник Б. Віч на віч//60 поетів 60-х років. Антологія нової української поезії.-Пролог,1967.-с.48. 6 Історія української літератури ХХ століття: В 2 кн.-К.,1998.-Кн.і.-136. 7 Див.: Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років.-К.:Либідь, 1995. — С.12. 8 Ковалів Ю. З одного джерела//Діалектика художнього пошуку. -К.; 1989.-С.84. 9 Цит. за: Цеков Ю. Ренесансова особистість в українському письменстві 20-х рр //Слово і час.-1994.-N2.-с.13. 10 Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору1960-80-х років.-К.: Либідь, 1995.-с.10. 11 Симоненко В. Серце моє в комсомолі// Лебеді материнства.-К.,1981.-с.92. 12 Коцюбинська М. Доброокий// Спогади про Івана Світличного.- К.,1998.-с.106. 13 Див.: Дзюба І. Пам'ять вдячності й боргу// Там же, с.118. 14 Тичина П. В космічному оркестрі//Лавріненко Ю. Розстріляне відродження.-Паріж,1959-С.48. 15 Там же с.50. 16 Гадзинський В. Айнштаін. Земля — М., 1925.-С.11. 17 Поліщук В. Мій дух // Вибране.-К., 1987.-С.42. 18 Вінграновський М. Прелюд №13 // Атомні прилюди — К., 1962.-С.15 19 Йогансен М. Робочий // Червоний шлях. — 1933. — №1. — С.8. 20 Історія Укр. Літератури ХХ століття: У 2 кн.-К., 1998.-Кн.2.-с.78. 21 Руденко М. Слідами космічної катастрофи // Вітчизна.-1962.-№1.-С.51. 22 Гадзинський В. 23 Драч І. Балада зі знаком запитання//Сонце і слово.-К.,1987.-с.69. 24 Поліщук В. Матерія//Вибране.-К.,1987.-с.52. 25 Доленго М. Споконвіку//Поезії.-К.,1988.-с.55. 26 Крижанівський С. На магістралях віку//Вітчизна.-1967.-№8.-с.130-131. 27 Сосюра В. Місто//Твори: В 10 т.-К.,1970.-Т.1.-с.97. 28 Косяченко Г. Вітрини//Червоний шлях.-1926.-№4.-с.32-37. 29 Вінграновський М. "Учора ще..."//Сто поезій.-К.,1967.-с.98. 30 Зеров М. Лист до П. Тичини//З архіву П. Тичини: Збірник документів: В 2 т.-К.,1960.-Т.1.-с.301. 31 Фальківський Д. "Ех!.. І вдарило кляте життя"//Поезії.-К.,1989.-с.43. 32 Симоненко В. Лебеді материнства.-К.,1981.-с.223. 33 Шевчук В. "Він світильником був , що горів і світив..."//Доброокий. Спогади про Івана Світличного.-К.,1998.-с.228. 34 Танюк Л. З Іваном і без Івана//Там же, с.153. 35 Косів М. Іван Світличний — "його світлість"//Там же, с.324. 36 Влизько О. Дев'ята симфонія// Лавріненко Ю. Розстріляне Відродження. Антологія.-Париж,1959.-с.368. 37 Симоненко В. "Світ який..."//Лебеді материнства.-К.,1981.-с.46. 38 Влизько О. Серце// Там же, с.369. 39 Симоненко В. "Скільки б не судилося..."//Там же, с.46. 40 Шевчук В. "Він світильником був, що горів і світив..."//Доброокий. Спогади про Івана світличного.-К.,1998.-с.226. ***** НАУКОВА ПОЕЗІЯ — віршовані твори, в яких закони розвитку природи і суспільства осягаються за допомогою чуттєво-образних засобів. Думка в Н. п. постає у такій естет. єдності раціонального та емоц. начал, що наук. елемент не лише становить зміст, а й визначає жанр твору, стає рушійною силою розвитку теми. Термін «наукова поезія» вперше вжив франц. літературознавець Р. Гіль у «Трактаті про слово» (1896), де обстоював необхідність тісного взаємозв’язку науки й мист-ва. До Н. п. належить рання грец. космогонічна й астрон. поезія, філос.-дидактичні поеми Гесіода («Астрономія»), Лукреція («Про природу речей»), Вергілія («Георгіки»), деякі шестодневи та фізіологи в л-рі Київ. Русі, окр. твори вчених (напр., «Прогностична оцінка поточного 1483 року» Ю. Дрогобича). Літ. традиція Н. п., що спирається на філос. засади сцієнтизму (світоглядна позиція’, в основі якої лежить уявлення про природничі знання як про найвищу культурну цінність), має кілька тематичних різновидів. В одному з них, який умовно можна назвати літературознавчим, поєднано худож. слово з теор. змістом («Наука поезії» Горація, «Мистецтво поетичне» Н. Буало, «Призначення поезії» В. Гюго, «Критика поезії» П. Елюара, «Декларація прав поета» І. Сельвінського, «Декларація обов’язків поета і громадянина» М. Рильського та ін.). Окр. гілку Н. п. становлять твори натурфілос. тематики («Лист про користь скла» М. Ломоносова, «Про золотарів», «Про гутників і про склярів», «Про кожум’як, що шкури вичиняють», «Про бондарів, або ж про плотників» Климентія Зіновієва). Увага до Н. п. посилюється в кін. 19 — на поч. 20 ст., коли на сусп.-мист. арену вийшов авангардизм. Одним з фундаторів Н. п. в Україні був В. Гадзінський (поема «Айнштайн», 1925; присвячена нім. і амер. фізику А. Ейнштейну). Естетизацію наук., зокрема технічних, знань пропагувала очолювана В. Поліщуком група «Авангард». Поезія В. Поліщука (зокрема зб. «Геніальні кристали») дала взірці синтезу естетики й космогонії, фізики і психології, біології та соціології. Елементи Н. п. наявні у творчості П. Тичини (цикл «Псалом залізу», «У космічному оркестрі»), М. Бажана (поема «Число»), М. Семенка («Каблепоема за океан», «Моя мозаїка») та ін. До Н. п. 60 — 90-х pp. належать окр. твори І. Драча (зб. «На дні роси»), Є. Гуцала (зб. «Письмо землі»), Л. Вишеславського та ін. Літ.: Романченко І. В. Поліщук та його конструктивний динамізм. «Червоний шлях», 1928, № 12; Чорногуз Т. Наукова поезія В. Гадзінського. «Наука і суспільство», 1990, № 6; Соловей Е. С. Поезія пізнання. К., 1991. О. Г. Астаф’єв Словник літературознавчих термінів Наукова поезія — поезія, в якій думка виявляє нерозривноестетичну єдність раціонального та ірраціонального начал, де _ науковий компонент визначає зміст художнього твору, напрям розвитку ліричної теми. Теоретиком Н.п. вважається французький критик і літературознавець Р. Гіль, який у своєму "Трактаті про слово" (1896) обстоював потребу єднання науки і мистецтва: "Наука повинна шукати животворного дихання у поезії". До перших зразків Н.п. належить давньогрецька космогонічна та астрономічна поезія, філософські дидактичні поеми ("Астрономія" Гесіода, "Астрологія" Клеостра, "Про природу речей" Тіта Дукреція Кара, "Про рільництво" Вергілія та ін.). До цього жанру належать деякі шестидневи та фізіологи, мовлення яких наближається до віршованого, відомі у Київській Русі за доби Ренесансу поетичні твори ("Прогностична оцінка поточного 1483 року магістра Юрія Дрогобича з Русі, доктора філософії і медицини Болонського університету"). Літературна традиція Н.п. спирається на наукові засади сцієнтизму (лат. scienta — знання, наука), тому подеколи називається сцїєнтичною. Вона розмежовується на кілька тематичних потоків. Один із них — літературознавчий ("Лист до Пізонів" Горація, "Мистецтво поетичне" Н. Буало, "Мистецтво поетичне" П. Вердена, "Іванові Франкові: Відповідь на його посланіє" М. Вороного та ін.). Окрему гілку Н.п. складають твори натурфілософського характеру, відомі в українській літературі за поезією Климентія Зіновієва. Пора розквіту Н.п. припадає на XX ст., її' популяризує російський поет В. Брюсов. В Україні — В. Гадзінський, автор поеми "Айнштайн", М. Доленго (зб. "Об'єктивна лірика. Схема і діагнози", 1923), В. Поліщук (зб. "Гінеальні кристали", поеми "Асканія Нова", "Медуза актинія" та ін.). Виразні тенденції Н.п. спостерігаються й у творчості П. Тичини (цикли "У космічному оркестрі", "Псалом залізу"), М. Бажана ("Число") тощо. На них позначився вплив науково-технічних зрушень. Особливо це помітно було на авангардистських течіях (футуризм, конструктивізм і т.п.). У сьогочасній ліриці елементи Н.п. наявні у представників "нью-йоркської групи" (Ю. Тарнавський, Б. Рубчак та ін.), у шістдесятників, передовсім в І. Драча, якому притаманна не тільки метафоризація наукової лексики ("синхрофазотрони ридають, як леви"), а й осмислення науково-технічного поступу з погляду гуманістичних цінностей ("Балада про ДНК", "Чорнобильська Мадонна" та ін.). ***** 
https://toloka.to/t50461
|
| | |
| Статья написана 9 апреля 2017 г. 18:54 |
У статті аналізуються українські літературні пародії, які були оприлюднені у 40-50-х роках минулого століття на сторінках періодичних видань. Характеризуються об’єкти, найуживаніші художні засоби та прийоми тогочасного пародіювання. Також розкривається майстерність аналізованих творів, їх відповідність жанровим ознакам власне пародії. Зразки української літературної пародії широко представлені у збірках окремих авторів-пародистів. Проте значна кількість творів цього жанру залишилася на сторінках журналів та шпальтах газет і фактично опинилася поза увагою літературознавців. Тому мета статті — розгляд пародійних творів, що були надруковані в українських періодичних виданнях 40-50-х років минулого століття.
М.Романівська відома широкому загалу як дитяча письменниця, авторка казки “Мурашина перемога” (1927), повістей “Марійка” (1930), “Загнуздані хмари” (1936), “Шахти в небі” (1940), “Високий літ” (1950), “Червоний тюльпан” (1956), “На верхів’ях холоду” (1960), романів “Любов і мир” (1966) та “Рятівне коло” (1969). Проте на початку 1940 років вона досить вдало виступила у періодичних виданнях зі своїми пародіями. Одну із них письменниця написала на фантастичний роман “Аргонавти Всесвіту”, який належить перу першопрохідцю у царині української наукової літературної фантастики В.Владку. Його твір розповідає про незвичайні пригоди космонавтів, які здійснили подорож на загадкову планету Венеру. Написаний ще 1938 року, роман, будучи фактично “букварем космонавтики”, став улюбленою книжкою багатьох поколінь юних читачів. У творі автор змалював несподівані картини з життя рослинного і тваринного світу на далекій Венері: “Ось оранжева, вкрита крупними бородавками жаба завбільшки з людську голову. Проте замість широкого жаб’ячого рота — в неї твердий дзьоб між великими виряченими очима. І це робить жабу подібною до сови. Жаба, не зсуваючись з місця, діловито клюнула якусь істоту, що пропливала повз неї, розтерла її кривим ротом і миттю проковтнула. Коричнева змія з маленькими ніжками і високим гребенем уздовж спини, звиваючись, вистрибнула з каламутної води, злетіла у повітря і стрілою впала на оранжеву жабу з совиним дзьобом... ” . У пародії М.Романівської, опублікованій 1940 року в журналі “Молодий більшовик” (ч.9), зустрічаються персонажі В.Владка: академік Риндін, геолог Вадим Сокіл, а за Борисом Гуро вгадується професор Ван Лун, який у романі “курив свою улюблену люльку”, а в пародії — “акуратно прим’яв попіл у незмінній люльці”. Пародист спрямував гумор на висміювання дивних назв незвичних істот, якими В.Владко населив планету Венеру. У невеликому за обсягом творі М.Романівська перераховує чи не усі види динозаврів, які жили на планетів за часів юрського періоду: “ігуанодон”, “бронтозавр”, “атлантозавр”, “диплодок". А страшна потвора, що напала на персонажів пародії, описана так: “Неймовірно жахлива голова дивилася на Гуро. З боків звивалися довгі жовті щупальця. Велетенські щелепи, як дві гострі шаблі, були готові схопити і розрізати щелепами першу-ліпшу жертву”. Деталь “щелепи" повторюється у пародії 19 разів і створює комізм, який підсилюється тим, що щелепи має не лише “огидна щелепувата потвора ”, а й Борис Гуро, “який холодно стиснув щелепи ”. Твір М.Романівської “Десятикласники”, або “Життя позитивного героя Аркадія Трояна”, опублікований у “Молодому більшовику” (1941, ч.4), — пародія на роман О.Копиленка “Десятикласники” (1938), що фактично став продовженням роману “Дуже добре”. В останньому автор фантазує на тему “бджілки” — маленького літака з унікальними злітно-посадковими якостями, а у “Десятикласниках” — на тему стратегічних ракет, здатних протягом кількох хвилин накрити Осло, Копенгаген, Люксембург, Берн, Рим, Афіни, Нікосію та ін. Авторка пародіює надмірно ідеалізований образ головного героя Аркадія Трояна, який завжди готовий допомогти і аж втомлюється від своїх благочесних діянь. М.Романівська Аркадія Трояна зображує іронічно: “Аркадій поспішав, бо його підганяв настирливий час. Він ішов, виставляючи вперед голову і розстібнуті груди. Поли піджака метлялися, як крила, спогади і фантазії літали, як блискавки. Голова вся завихрилася, і зелені концентричні кола плавали в очах. Довга тінь стрибала за ним, як потвора”. Він такий позитивний, що у його голові лише гарні думки, але вони настільки переплутані, що стає смішно: “Що таке любов? (...) Долю моєї ракети вирішуватимуть міліони. Космос — таке смачне слово, я -стосімдесятиміліонна частка. Едісон у вісімнадцять років!”. Як засіб пародіювання використано невідповідність Аркадієвої позитивності зовнішності та мові хлопця: “Якого ви чорта приперлись сюди? (...) Відчепись ти к чорту собачому! (...) Мурло невихований! Іди ти к чорту, буйвол (...)”. Саркастичне закінчення пародії ставить крапку у надуманому О.Копиленком образі молодого позитивного героя Аркадія Трояна: “Аркадій похитнувся від радості й закричав: — Мамо! Дзвони негайно в НКВС. Я нарешті ловлю шпигуна. Від радості, що нарешті закінчується роман, Аркадій стояв похитуючись і відчував страшну втому. Для цієї розв’язки він пройшов 292 сторінки ”. У “Молодому більшовику” (ч.10-11) у передвоєнний час, 1940 року, з’явилася пародія Є.Кротевича “Радість” на творчість М.Рильського. Як відомо, художній світ останнього пронизаний почуттям радості, що переповнює людину, юнацькою закоханістю в “нову весну людства”, у якій так високо піднесено ім’я людини. Тому назва пародії Є.Кротевича не випадкова. У творі зустрічаємо і притаманний ліриці М.Рильського оптимістично-радісний настрій, переданий риторичними окликами (“О, дивний час крилатий, / О, наш чудовий край!”), і улюблені художні образи митця (образ жінки та винограду): “І серцем сповненим відради, / співаю в гімнах -день і ніч, / красу жіночих уст і пліч / і тучні грона винограду!.. ”. Протягом Другої світової війни українські письменники до жанру пародії майже не зверталися. Лише наприкінці 40-х років цей жанр хоча й не зовсім активно, але починає знову з’являтися у журналах “Молодий більшовик”, “Перець”, “Дніпро”, “Вітчизна”, “Прапор”, а також у “Літературній газеті”. Так, 1945 року на сторінках “Перця” (ч.4) була вміщена пародія Є.Коротича на творчість В.Сосюри “Поет і голубінь”. Як відомо, часто інтимну лірику В.Сосюри називають “Книгою Марії”. На перший погляд, це не зовсім справедливо, адже поетична галерея романтизованих жіночих постатей у творчості поета широка: у ній є і загадкова Констанція, і Галя, і Ївга... Та з усіх цих милих серцю імен найбільше чомусь відгукувалось у душі митця старозаповітне ім’я — Марія: “...Губи шепочуть в блаженнім пориві для мене єдинеє ім’я: “Маріє!..” (1931), “Твоє ім’я “Марія” найкраще всіх імен” (1948), “Зеленіють жита, і любов одцвіта, / і волошки у полі синіють. / Од дихання мого тихий мак обліта, / ніби ім’я печальне — Марія” (1925), “Якби зібрать красунь усіх віків, / повз мене хай ідуть вони без краю, — Марії я на них не проміняю, ні одній з них не вклониться мій спів” (1931). Магічна сила імені тільки уособлювала магічну силу жінки в житті й творчості поета. Жіночність для нього — квінтесенція чистої краси. Лірична героїня любовної лірики Сосюри, при всій її варіантності, багатоіпостасності, — завше зберігає певний “набір” домінантних рис, — зовнішніх і внутрішніх. Це неодмінно — золотокоса красуня з блакитними очима, готова до світлої самоофіри в ім’я коханого, берегиня “тихої”, жертовної любові. Обставини кохання змінюються з вірша до вірша, але завжди перед нами — велична історія унікальної любові, здатної перевернути світ. Синій, блакитний колір у поезії В.Сосюри єднає закоханих: “Васильки у полі, васильки у полі, /1 у тебе, мила, васильки з-під вій, /1 гаї синіють ген на видноколі, /1 синіє щастя у душі моїй ". Кохана здається ліричному героєві ідеалом, у її очах “море синіє", “сонце цвіте". Зазначені мотиви, образи та настрої через надмірне використання повторів та гіперболізації відтворив Є.Кротевич у своїй пародії: “І голубі вбрання дівочі, / і голубі, як небо, очі, /як очі й небо голубе — / це так вражає й серце б ’є, / що враз і сам я голубію / і в голубу впадаю мрію, / що вік кохатиму Марію!". У післявоєнних періодичних виданнях та на початку 50-х років з’являються пародії Івана Царевича (псевдонім). Переважно всі вони спрямовані проти невдалих місць у поезіях українських письменників щодо образності та художніх засобів. Так, у 1951 році в різних періодичних виданнях виходить низка його пародій. Зокрема, у журналі “Дніпро” (ч.3) була надрукована “Поетична смородинка" — пародія на окремі образи вірша І.Кульської “Помічник агітатора": “На щоках — свіжі вогники, / Смородинками очі"... / ...“А тишина замріяна / Десяту б’є годину". Поруч із “Поетичною смородинкою" був розміщений твір “Про Карпати" — пародія на образність поезії для дітей М.Познанської “Ми друзі", зокрема на образ полонин, які усміхаються ліричній героїні та “...у сонячні години (...) під сонцем смажать спини". Засобами пародіювання Іван Царевич обирає згрубілу лексику та гумористичні порівняння: у Карпатах “...регочуть полонини, /1 смереки, і дуби. / Там шкварчать на сонці спини, /Мов у горщику гриби ". “Трин-трава", “Фарби на воді" — пародії Івана Царевича, вміщені в одинадцятому числі “Дніпра”. Перша з них написана на образність поезії М.Рильського: “Коли в Чернігівській діброві /Гостям застелено столи, / Щоб мед з квіток вони пили, /1 повні кубки пурпурові /Підносить у степах трава... ". Друга ж -на образ із поезії П.Дорошка “Абхазькі акварелі": “І в тієї, що сиділа рядом, / Гнулись брови чорним водоспадом... ". Пародист у своєму творі іронізує над об’єктом пародіювання: “В неї очі — зелен-сад, / В неї брови — водоспад, / В неї коси, як пороша, — / Дуже дівчина хороша! / А як став я малювати, / Зразу фарби, що й казати, / (Треба ж трапитись біді!) / Розповзлися на воді". У 1951 році в журналі “Перець” (ч.18) з’явилася пародія “Враз і миттю", спрямована проти зловживання Н.Забілою у віршах для дітей слів “раптом", “вмить", “враз" та подібних. Засобом викриття цієї хиби пародист обирає гіперболізоване використання цих слів (повторюється у 7 рядках твору із 12): Зразу миттю із гори Скаче купа дітвори, Враз давай мене прохати Вмить загадку розгадати: — Що то в світі, що “гудить"? — Що прудкіше — “враз" чи “вмить"? — Скільки пальців треба мати, Щоб умить порахувати “Раптом ", “миттю " та ще “враз " В вашій книжечці для нас?.. — Тихше, купа, цитьте вмить, Бо вушахуже гудить! (підкреслення наше. — В.Н.) Іван Царевич створив декілька пародій на поезії О.Ющенка. Твір “Олексі Ющенкові" (“Перець”, 1952, ч.1) спрямований на викриття окремих тез вірша митця “Перша стежка", зокрема: “Життя — густий, манливий ліс, / Пройти його — не легко, друже... /Я йшов крізь терн... дрімучий гай, / Ти, наче царство Берендея, /Для мене був... Проходив де я, /Завжди пригадував свій край". Шляхом розвінчання цих думок пародист обирає прийом використання суцільних риторичних питань та вигуків, адресованих О.Ющенку з метою з’ясувати його точку зору щодо тези “життя — як ліс”. Пародист іронічно запитує: “В якій це, друже, стороні / Отак прийшлося вам блукати?", або ж: “Я всі стежки у них (у лісах і хащах. — В.Н.) сходив / (...) / Чому ж це Ющенка не стрів, /Що там крізь терни пробирався?.. ". Останній катрен пародії є кульмінаційним іронічним завершенням твору, що остаточно протиставляється думці О.Ющенка. Іван Царевич стверджує: “Життя — не ліс, де терни й мох. / Для чого в хащі вам ходити? / Там, кажуть, і між сосон двох / Можливо часом заблудити!". У творі “Поетичне мерехтіння" (“Перець”, 1947, ч.21) пародист виступає проти дивного поєднання О.Ющенком образів, як-от, у поезії “Пастушок": “Вже кида надвечір тінь, / Запахло молоком навколо, / Синіє степу далечінь, / Тополі видно біля школи ". Тут вечір,тінь,молоко,степ,тополі, школа — все злилося. На думку пародиста, це сталося тому, що “Поет нотує все, що є, /Бездумно римами брязкоче", внаслідок чого “Імолоко, й тополі всі /Переплелися в мерехтінні... ". Поруч із “Поетичним мерехтінням" у журналі “Перець” за 1947 рік (ч.21) надруковано пародію “Пустоцвіт" на дивну образність вірша М.Стельмаха: “В цвіту гойдалися морелі / Під дзвін гарячої бджоли...". Аби її підкреслити, Іван Царевич вдається до суцільних тавтологій — на 8 рядків пародії зустрічаються повторення: “гойдалці", “гойдалися", “дзвін", “передзвонили", “бджоли" (повторюється двічі), “квітли", “зацвіли", “пустоцвіт". У журналі “Перець” (1954, ч.22) опубліковано дві пародії Івана Царевича: на І.Виргана — “Небилиця" та на М.Терещенка — “Сміх і ворота". Обидва твори побудовані на іронічному відтворенні окремих образів. Перша — із вірша “Пересадка": “Лущить осінь на пероні / Соняшникове насіння. / У кіосків сині скроні..." та “Вечір в гумових чоботях... ", а друга пародія — на відтворенні образів із поезії М.Терещенка “Після війни": “Сміються Золоті ворота". К.Басенко у своїх пародіях відтворює загальні вади сучасної йому лірики. Три пародії (“Любов лірична", “Любов героїчна", “Любов трагічна"), надруковані у журналі “Перець” (1958, ч.9) під загальною назвою “З книги “Хочеться творити" поета Аполлона Квашні", спрямовані проти примітивізму у трактуванні українськими митцями людських почуттів, вихолощення людської душі, позбавлення її високих, тільки їй притаманних рис, що возвеличують людину над іншими живими істотами, роблять її природною, красивою. На жаль, письменники часто забувають про це, зображуючи у своїх творах людину тільки як працівника, який, крім трактора, комбайна та верстата, нічого не бачить і не хоче бачити, зрікається усіх радощів людського існування. Тому пародист намагається відтворити найхарактерніші риси такої лірики: “На комбайні зрання / За штурвалом Таня / Косить жито слід у слід, / Не заверне на обід". Праця у ліричної героїні не викликає втоми: після тяжкого робочого дня Таня співає. А до кохання вона ставиться байдуже, у чому сама й зізнається: “Десь мене за гаєм / Ваня мій чекає, / Та немає значення / Данеє побачення!". Жвавіше написана пародія “Любов трагічна". Хоч її дещо естрадний дух позначився на гуморі, та все ж пародія потрапляє в ціль, коли характеризує, як сучасні поети іноді трактують любовні взаємини: Люблю тебе, моє кохання, В моїй груді палає жар. Ти перша з перших в соцзмаганні! Не крайте серце без ножа! Якби ти знала, о кохана, Який в моєму серці щем! Це ще болючіше, ніж рану Штрикнути гаєчним ключем. Спіраль зневіри, наче стружка, Летить униз, до підошов. Чекає слава нас, подружко, І доброякісна любов! Комічним у цій пародії є нагромадження спеціально добірної технічної лексики при висловленні почуттів героя. Щодо пародії “Любов лірична”, то Г.Нудьга зазначає, що вона “менше вдалася”, бо К.Басенко спочатку “вдався до стилізації під сучасні вірші деяких поетів, а закінчив невдалими рядками про те, що сонети можна писати не на всяку тему”. На думку літературознавця, ні останні рядки пародії, ні весь твір не справляють комічного враження і “позбавлені влучного дотепу й певної чіткої цілеспрямованості” [1, 154]. Проте ми не цілком погоджуємося з цими думками, адже пародія не обов’язково повинна бути смішною та комічною. Часом вона може бути досить гострою, сатирично-саркастичного спрямування. Завдяки ж особливій побудові “Любові ліричної” : структурується з дванадцяти рядків, дев’ять з яких справді є своєрідною стилізацією поезій про ніжне почуття любові, коли не лише людська душа ним просякнута, а й усе довкілля (“Тьмяніє ніжний вечір літній... / Чекаю музу молоду. / В саду — акації привітні /1 соловейко у саду... / У небі місяць світить ясно, / Роса, як золото, горить...”) — це своєрідне відтягування кінцівки твору (“І за короткий дуже час / Готов сонет про те, як грюка / Соломотряс”), К.Басенко ідейно поглиблює твір, краще розкриває об’єкт пародіювання. Тобто можемо сказати, що головними прийомами пародіювання у цьому творі є ретардація та змістовий і настроєвий контраст початку та фіналу. 1952 року в журналі “Дніпро” (ч.4) вийшли друком пародії К.Басенка “Без зупинки... ” та “Мов короп до петрушки”, об’єктами яких стали вірші для дітей І.Кульської та М.Стельмаха відповідно. У першій пародії К.Басенко обіграє образне наповнення твору І.Кульської “Танцюрист”: “Що за ніжки, мов пружинки, / Так і скачуть без зупинки! / (...) /А мені на завтра ось /Ще писати зосталось”. Пародист подає таке трактування: “У сльозах у доньки щічка, / Плаче донька невеличка: / — В тьоті руки, як пружинки, / Написали “без зупинки”... / А мені сьогодні ось / Це читати довелось!..”. У пародії “Мов короп до петрушки” К.Басенко вістря сатири спрямовує проти поетичних вивертів М.Стельмаха, у збірці якого “Колосок до колоска” пародист віднаходить такі новотвори: “...нема таких уловів /Ні в Шидлуві, ні в Чижуві, /Ні в Козлуві, ні в Павлуві, / В Несташкуві, в Якубуві, / В Яникуві, в Махайлуві...” і трансформує їх так: “Вже про нас готові вірші! / То робота не Павлува, / Не Петрува, не Йванува, /Не Якува, не Димитрува, /А здається... /Михайлува!..”. У цьому ж числі “Дніпра” опубліковані пародії Б.Чалого на дитячі поезії Х.Левіної зі збірки “Весінні голоси”. Беззмістовність, постійний повтор рядка: “І -раз, і — два, і — три...”, дивність змісту (“У танці кошик — рип та рип — / Він теж заводить спів”) у вірші “Дівчатко” стали об’єктом пародії, у якій саркастично підкреслено: “Цей кошик солодко співа / І скаче, мов коза: / І — три, і — два, і — раз, і -два / (...) / Рядок, і два, і тридцять два, / А змісту в них — нема!”. Шляхом гіперболізації дивної образності поезії “Дід Каленик” (“Земляні живущі соки / Він (клен. — В.Н.) жадливо з грунту ссе. / Та чоніший від вугілля — / Сам він дряглий та сухий... ”) Б.Чалий створює пародію, у якій, власне, й висміює недоречності об’єкта пародіювання. 1954 року у “Перці” (ч.1) П.Глазовий опублікував можливі інтерпретації відомої жартівливої пісні “У попа була собака, / Він її любив. / Вона з’їла шматок сала — / Він її убив...” українськими сатириками та теоретиками сатири, зокрема, С.Олійником, Д.Білоусом, П.Сліпчуком та Ю.Бурляєм. С.Олійник — поет-гуморист, сатирик, майже чотири десятиліття віддав праці в літературі і понад п’ять десятиріч — журналістиці. Викривав міщанство, ницість, хабарництво, сутяжництво, тобто все те, що не прикрашає людину. Боровся за ствердження добра і правди, чесності й благородства. Без його творчості важко уявити українську сатиру та гумор. Факти, які С.Олійник використовував для творів, були такими типовими, що часто люди впізнавали себе в його героях. Його твори одразу вирізнилися у віршованому потоці гумористики своєю життєвістю тем і порушуваних проблем, самобутністю, оригінальністю зображуваних персонажів, розважливою оповідальністю з її лукаво-іронічним звучанням. У доробку С.Олійника вирішальна роль у художній інтерпретації зображуваного належить мові оповідача та персонажів — соковитій, лексично й стилістично багатобарвній, різноманітній в інтонаційному плані. Усі перелічені вище особливості творчості С.Олійника П.Глазовий і намагався відтворити у пародії “Отакі в попа діла”: Лиш зібрався вечеряти піп, Як втягають собаку до хати. — З ’їла, — кажуть, — все сало і хліб, Приготуйтесь, мовляв, убивати. -Піп собаку потяг за село, В Чалаприндову гречку, до лісу. (Це в селі Роксоляни було). Вбив собаку — і ну її к бісу!. “Розгніваний піп” — назва пародії П.Глазового на Д.Білоуса: “Жив на світі піп-кривляка, / Релігійний працівник. / У попа була собака, / Він до неї дуже звик. / Та собака сало з ’їла, / Та й виляла ще хвостом. / Крикнув піп осатаніло / І убив її хрестом”. Пародист у невеликому за обсягом творі зумів передати прикметні для Д.Білоуса-сатирика риси: високу культуру віршування, невтомне дбання про форму (ритм, римування, звукопис), створення негативних образів шляхом скрупульозного і філігранного обточування кожної деталі, гру слів, філологічні повороти, інтелектуальний гумор. Пародію на П.Сліпчука “Піп та собака” П.Глазовий створює у жанрі байки з усіма притаманними їй основними рисами: написана так званим вільним віршем, має мораль, подану наприкінці твору: “Мораль проста. Її я так би виклав: / Без хліба сала теж не їж!”. Таке жанрове рішення пародиста не дивне, адже відомо, що одним із улюблених жанрів, у яких П.Сліпчук досить вдало виступив, була саме байка. Ю.Бурляй — український письменник, доцент факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, заступник головного редактора газети “Літературна Україна”. Значну частину його творчого доробку складають літературо-критичні праці, зокрема, “Зброєю слова”, “Володимир Сосюра”, “Михайло Стельмах”, “Боєць життя нового”, “Життя і слово” та ін. Саме літературознавча сфера творчості Ю.Бурляя визначила форму, у якій П.Глазовий написав пародію на критика — це уривок критичної замітки під назвою “Образ собаки в сучасній сатирі”, у якій оповідач (читаємо Ю.Бурлай. — В.Н.) аналізує “блискучий антирелігійний памфлет “Отакі в попа діла! ”, його ідейне спрямування, художні та мовні особливості, образне наповнення: “...Всі риси в попові — глибоко типові. (...) Мова попова глибоко індивідуалізована, хоча він і не вимовляє жодного слова. Образ собаки вийшов ще опукліший. Незважаючи на те, що піп собаку вбив, вона перед нами стоїть, як жива. Вона так чітко окреслена, що, здається, ми могли б доторкнутися до неї, якби не боялися, що вона схопить нас зубами за руку...”. Завдяки серйозному описові несерйозного змісту П.Глазовий досягає пародійно-комічного ефекту твору. Примітивність рим (“нас — Донбас — час”; “розквітай — зустрічай — вітай -край”) та римування (у трьох та чотирьох рядках поспіль), декларативна та невисокохудожня образність (“Гей, юність золота, / Шлях ясний у нас: / На Донбас, на Донбас / Їдем в добрий час!”), постійні заклики (“В щасті розквітай!”, “Ти наш донецький край!”) — усе це притаманне “Пісні молодих патріотів”, автором слів якої є Г.Бойко, а музики — А.Філіпенко. Вона була надрукована у газеті “Радянська Україна” (8 липня 1956 р.). Саме ця пісня стала об’єктом пародії І.Грибінника “Хлопці їдуть на Донбас...”, що була опублікована того ж 1956 року в журналі “Дніпро” (ч.12). І.Грибінник, аби спародіювати пісню, вдається до гіперболізованого використання однотипних рим та наскрізного римування: “Їдуть хлопці на Донбас /1 дівчата водночас. / Славна путь в добрий час!.. /Наша пісенька якраз /1 залишиться при нас”. А у рядках: “Їдуть хлопці на Донбас, / А у нас: Старі дріжджі, / Старий квас /1 загальників вода, — / Бо поет — не вереда ” викриває немайстерність авторів, використання несучасної, однотипної образності, невмотивованих закликів — саме це, на думку пародиста, призводить до непопулярності пісні, яка не здатна заволодіти слухачем і виконавцем, а назавжди приречена залишитися лише на шпальтах газети: “Наша пісенька якраз /1 залишиться при нас”. Як бачимо, зразки української літературної пародії широко представлені на сторінках періодики 40-50-х років минулого століття. І хоча художній рівень цих творів різний, проте вже той факт, що пародійний жанр у цей час активно розвивається, виробляє лише для нього властиві художні прийоми та засоби, є безперечно позитивним, що вплинув на подальший розвиток як пародійної, сатирично-гумористичної літератури, так й української літератури та літературної критики загалом. Н. М. Віннікова, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Нудьга Г.А. Пародія в українській літературі. — К.: Вид-во АН УРСР, 1961. — 175 с. Надійшла до редакції 23 березня 2010 р. Філологічні трактати.- Том 2, №2 ’2010
|
| | |
| Статья написана 9 апреля 2017 г. 01:10 |
 
Рыцари фантастики. Вспоминая Александра Мирера, Виталия Бугрова, Сергея Снегова Потому что (виноват), но я Москвы не представляю Без такого, как он, короля. Булат Окуджава. Король[1] «Жизнь дает человеку три радости… Друга, любовь и работу»… Это, конечно же, «Стажеры» Стругацких. Мне повезло: фантастика, ставшая для меня стала главным делом в жизни, дала мне и много друзей. Но сколько их уже ушло!.. Дмитрий Александрович Биленкин, Аркадий Натанович Стругацкий, Сергей Александрович Снегов, Виталий Иванович Бугров, Александр Исаакович Мирер, Нина Матвеевна Беркова, Кир Булычев… Рыцари фантастики, преданно служившие ей. Сейчас я хочу рассказать о трех из них, в чем-то очень похожих, по хронологии знакомства – о А. И. Мирере, В. И. Бугрове и С. А. Снегове. * * * С Александром Исааковичем Мирером я познакомился осенью 1976 г. В середине сентября мне позвонили из Бюро пропаганды Союза писателей РСФСР и предложили выступить с лекцией о фантастике в каком-то НИИ, занимавшемся, кажется, термической сваркой. Была в те годы такая форма «шефствования» над предприятиями и организациями – туда для повышения культурного уровня их сотрудников по путевкам бюро пропаганды Союза писателей СССР и РСФСР, общества книголюбов, общества «Знание» посылались лекторы-специалисты в различных областях знаний. Кстати, добавила секретарша, вместе с вами будет выступать писатель Александр Мирер. Конечно, это имя мне была хорошо знакомо по публикациям в альманахах «НФ» и «Мир приключений», к тому же буквально за несколько дней до этого звонка я купил его роман «Дом скитальцев»[2]. Роман произвел на меня сильное впечатление, о чем с удовольствием сказал автору при встрече. При знакомстве меня поразила и внешность АИ (худой, высокий, он походил на жюль-верновского Паганеля, но это с первого взгляда, а потом-то я понял: конечно же, он не Паганель, а Дон Кихот…), и манера говорить, держаться – старомодно-учтиво и при этом удивительно доброжелательно, так что через несколько минут казалось, что ты знаешь этого человека долгие годы. Поразило меня и то, что несколько сотрудников этого НИИ, с которыми я беседовал – как оказалось, АИ работал в нем довольно долго и к тому времени уже лет десять, как ушел, – отзывались о нем с большим уважением и теплотой, добавляя каждый раз со вздохом: жаль, что он у нас уже не работает… Думаю, что людей привлекали в АИ и доброта, и неизменная благорасположенность, и искренний интерес к собеседнику. Во всем, что он делал, не было ничего наигранного, искусственного – так вести себя мог только человек цельный и гармоничный, чуждый позе. В его равнодушии к материальным благам было что-то от странника, для которого смысл существования – паломничество, и от дервиша, поражающего умением обходиться минимальным. Однажды я, желая польстить АИ (было это спустя примерно с полгода после нашего знакомства), процитировал слова Генри Торо из «Уолдена»: «Если мой сюртук и брюки, шляпа и башмаки еще годны, чтобы молиться в них богу, – значит, их еще можно носить, не так ли?..»[3] Вера, его жена, воскликнула: «Шура, это действительно как будто о тебе!..» Сам же АИ только улыбнулся. При этом АИ был человеком весьма земным, очень любил быт, его уютные детали – например, с каким вкусом и удовольствием он заваривал чай!.. Он был поразительно «рукастым», вызывая этим восторг А. Н. Стругацкого, с которым он дружил долгие годы. Жили они недалеко друг от друга, минутах в десяти ходьбы: если метро «Юго-Западная» представить в качестве одной вершины треугольника, то двумя другими могут послужить дом АИ по улице 26-ти Бакинских комиссаров и АН по проспекту Вернадского. Умел АИ делать практически все: от починки утюга до изготовления вполне «товарных» ювелирных украшений. Одно время, кстати сказать, он этим и жил – делая перстни, кулоны и проч. на продажу, поскольку с года 1965-го или 1966-го он вступил в Комитет литераторов при Литфонде и тем самым обрел право не работать, как выражались в отделах кадров, по найму (и не ходить каждый день на службу, что для творческого человека было счастьем), но зарабатывать на жизнь мог официально только литературным трудом, который, как известно, кормит несытно. В середине 1980-х вступил в этот Комитет и я, по рекомендации А. Н. Стругацкого. Дом АИ был всегда открыт для друзей – в дни радостей и горестей. …После первого развода я приехал именно к АИ, и он просидел со мной часов до четырех ночи за неумеренным потреблением алкоголя; а когда я отказался ночевать у него, довел меня до такси. В другой компании, что и говорить, не обошлось бы без пьяных всхлипываний о былом, но АИ так сумел повернуть разговор, что большую часть времени мы проговорили о… средневековой японской литературе. И, встав в восемь утра на работу, я вдруг ощутил, что трещина, казалось бы, расколовшая мою душу – да-да, о ту пору свое душевное состояние оцениваешь именно в таких романтических категориях… – почему-то стала затягиваться. Конечно же, в притягательности их дома была заслуга и жены АИ, Веры Леонидовны, и их дочки Вари. С нею, кстати сказать, связана одна наша общая забавная ситуация. В 1978 году я поехал со своей дочкой в Коктебель. Спустя пару недель на ЮБК (Южный Берег Крыма) приехал АИ с Верой и Варей (жили они в небольшом местечке в получасе езды от Коктебеля). И вот как-то около четырех часов, когда моя дочка проснулась после дневного сна (было ей тогда четыре с небольшим), в дверь постучали и вошли АИ, Вера и Варя. Вот, сказал я дочери торжественно, приехала девочка Варя, о которой я тебе говорил (Варя перешла тогда в 11-й класс и была уже совсем взрослой и расцветшей барышней). Дочь, внимательно посмотрев на предлагаемый объект для игр, неожиданно скривилась и сказала плаксиво: «Так я и знала: обещали девочку, а пришла тетя!..» Сколько раз мы с АИ повторяли потом эту фразу: «Так я и знала…» А. И. Мирер относится к славной плеяде тех отечественных фантастов, которые пришли в фантастику в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Для них шестидесятые годы стали временем надежд на возрождение научно-фантастической литературы – после сталинских десятилетий, когда советская фантастика была разгромлена. Впрочем, судьба литературы, расковывавшей воображение, призывавшей мыслить свободно, едва ли могла быть иной в тоталитарном обществе. Точно сказал об этом сам Мирер в статье, посвященной Ариадне Громовой: «Фантастика – самый честный и наблюдательный свидетель на суде истории»[4]. В начале 1960-х вокруг редакции фантастики издательства «Молодая гвардия», которую тогда возглавлял Сергей Жемайтис, объединились лучшие силы отечественной научно-фантастической литературы. Это были москвичи Дмитрий Биленкин, Ариадна Громова, Георгий Гуревич, Анатолий Днепров, Михаил Емцев, Еремей Парнов, Север Гансовский, Александр Полещук, Роман Подольный, Аркадий Стругацкий, посещавшие семинар писатели из других городов: Вадим Шефнер из Ленинграда, Генрих Альтов и Евгений Войскунский из Баку, Владимир Савченко и Игорь Росоховатский из Киева. Образовался постоянно действующий семинар, в который вошел и А. Мирер. В 1965 г. в альманахе «Мир приключений» появилась его первая повесть «Будет хороший день!». Начинал Мирер так, словно обладал большим стажем литературной работы, хотя это были его первые шаги в литературе: автор сразу нашел художественную форму, адекватную его мышлению. Любители и знатоки жанра отмечали все публикации Мирера: рассказы в альманахах «НФ» и «Мир приключений», книгу для подростков «Субмарина “Голубой кит”», наконец, повесть «У меня девять жизней». Эта повесть была напечатана в 1969 году в журнале «Знание-сила». Сюжет построен по классической схеме приключенческой фантастики: герои с помощью нуль-транспортировки попадают в параллельный мир биологической цивилизации. На первый взгляд, обитатели этого мира сумели достичь идиллического слияния с природой, а потому счастливы и безмятежны. Все живое – люди, животные, растения – находится в положении гомеостазиса, сбалансированного равновесия (так аборигены и называют свою страну: Равновесие). Но идиллия обманчива: гармония общества, как выясняют герои, есть результат, с одной стороны, строжайшего соблюдения кастового принципа, а с другой – жесткой регламентации всех сторон жизни этого общества Наранами, биологическими компьютерами. Малейшие отклонения от равновесия – в любой области, будь то техника, политика или мораль – грозит нарушением социальной устойчивости. Система, замкнутая на себя самое, существующая только для себя, превращающая людей в покорных исполнителей, лишенных права на собственную жизнь, – как это знакомо нам… Повесть эта актуальна и сейчас, через тридцать лет после ее публикации. И не только потому, что предупреждает нас, сколь опасен отход от правды. Но и потому, что помогает бороться за правду. «У меня девять жизней, у тебя только одна. Думай!» – эта надпись на плакате из повести Мирера перекликается с известными словами Стругацких: «Думать – не развлечение, а обязанность». Ибо только через интеллектуальное усилие, работу духа человек становится человеком. Если же погрузиться в сладостную дрему, недумание, отдавшись на волю тех, кто с помощью лжи приобрел власть вершить судьбы других людей, то… Мы, жители страны, ставшей жертвой самого длительного и трагического эксперимента в истории человечества, слишком хорошо знаем, что рождает сон разума в экономике, политике, культуре… Окончание повести печаталось в июльском номере журнала «Знание-сила» за 1969 г.[5], а в сентябре этого года секретариат Союза писателей РСФСР дружно проголосовал за исключение Солженицына из своих рядов… Откат в духовной жизни страны, начавшийся с процесса Синявского и Даниэля, ощущался с середины шестидесятых годов и в фантастике, в начале же семидесятых ситуация резко обострилось. Редакция фантастики «Молодой гвардии» была разогнана, места высокопрофессиональных редакторов заняли люди, единственным отличительным качеством которых была идеологическая надежность. Они называли себя «автоматчиками на службе прогресса» и – в этом отношении надо отдать им должное – действовали на выделенном им участке весьма успешно, с воистину комсомольским усердием производя издательскую селекцию. В результате такой политики (подкрепленной еще и тем, что решением Госкомиздата СССР «Молодая гвардия» стала практически монополистом выпуска фантастики в стране) в жанре сложилось положение, которое вполне можно описать с помощью давнишнего высказывания В. В. Розанова: «Оловянная литература. Оловянные люди ее пишут. Для оловянных читателей она существует»[6]. В 1976 г. АИ опубликовал в издательстве «Детская литература» роман «Дом скитальцев» (в немалой степени благодаря помощи Н. М. Берковой, бывшей ответственным редактором книги). В романе рассказывается о тоталитарном обществе, возникшем на планете балогов. Каждый член общества занимает строго определенную ячейку в социальной структуре, жизнедеятельность которой подчинена единственной цели: бесконечной экспансии цивилизации балогов в космос, называемой ими Путь. Путь – космический фашизм, несущий гибель всем обитаемым мирам, уничтожающий их историю и культуру и оставляющий, подобно нейтронной бомбе, нетронутой лишь материальную среду обитания. И было понятно, реальность какой страны напоминает изображенный АИ фантастический мир, с его тотальной ложью и демагогией, культом «единственно верной» идеологии, мощным репрессивным аппаратом. А экспансия балогов в космос так напоминала неудержимое стремление советских партийных и государственных лидеров расширить зону коммунистического влияния с помощью «ограниченных контингентов». Официозная научно-фантастическая литература со второй половины семидесятых все громче вела свою партию в сводном хоре муз, старательно воспевавших социалистический образ жизни. Отведенные фантастике издательские площади – и без того более чем скромные – заняла окончательно «оловянная литература». Творческая судьба АИ, как и многих талантливых и честных отечественных писателей, сложилась непросто. Печатался он мало, испытывая отвращение к тому, что надо ходить по редакциям, пробивать свои вещи, и не шел ни на какие компромиссы. Потому-то после романа «Дом скитальцев» Мирер практически отошел от художественной прозы и стал заниматься литературоведением (под псевдонимом А. Зеркалов). Писал он преимущественно о тех прозаиках, чье творчество, по его мнению, было наиболее важно для развития русской фантастики XX в.: о Михаиле Булгакове и братьях Стругацких. Две его книги о Булгакове – «Евангелие Михаила Булгакова» и «Этика Михаила Булгакова» – вышли на Западе и имели заслуженный успех[7]. Работу о романе «Мастер и Маргарита» АИ задумал в конце 1970-х. Писал он ее долго, перерабатывая горы материала – приходя к нему домой, я постоянно видел на письменном столе стопки книг. Тогда мне выпала редкая удача – возможность читать эту книгу в рукописи по главам… В «Евангелии от Булгакова» АИ сосредоточился на исследовании той части «Мастера…», которую сам Булгаков называл «роман о Понтии Пилате». «Ерушалаимские» главы книги АИ рассматривал через призму обширнейшего корпуса первоисточников, к которым обращался Булгаков: Евангелии, Талмуд, труды древних историков (Флавия, Тацита, Филона Александрийского) и более поздних авторов (Д. Штрауса, А. Древса, Ф. Фаррара). АИ словно шел вослед Булгакову, реконструируя использованный им метод: скрупулезно-точное воспроизведение исторических деталей, которые в романе словно диффундируют в материал повествования. Отдельные сюжетные ходы и детали действия, ювелирно анализируемые АИ, предстают в совершенно ином, чем при обычном прочтении, свете, наполняются гораздо более глубоком смыслом, обретают историческую и эстетическую многомерность. При этом книга АИ лишена однозначности – ведь автор, в отличие от многих историков литературы, не подгоняет исследование под заранее выстроенную теоретическую схему. Сущность работы АИ – в расширении горизонтов познания, ибо, по словам исследователя, «Роман о Пилате» не поддается аналитическому давлению, его невозможно свести к односторонней концепции, будь то религиозная или антицерковная. Он в своей мере согласуется с обеими и в той же мере противоречит им, ибо мера у него одна – неприятие духовного насилия»[8]. Книги, подобной работе АИ, не было и нет в отечественном булгаковедении, к ней неприменимы традиционные жанровые дефиниции. Она настолько же уникальна в своем, литературоведческом, разряде, как уникален в своем, прозаическом, – роман Булгакова. АИ прожил жизнь, не стараясь быть заметным, не желая уподобляться тем людям в литературном мире (имя им воистину легион…), которые живут с растопыренными локтями. Эта незаметность – внешняя, только внешняя, потому что стоило ему начать говорить, как замолкали все, в любой компании… – была отчасти сродни незаметности того героя Стругацких из «Стажеров», который «держал на плечах равновесие Мира»[9]… Но вот он умер – и стало ясно, что мир обеднел… В июле 2001 года, когда АИ умер, стояла тяжелая, испепеляющая жара, словно обесцвечивающая все вокруг. И теперь, думая о его смерти, я вспоминаю эту погоду – и сразу мир делается поблекшим, похожим на застиранную рубашку. Да, боль утраты неизменна, она остается. Но рядом с ней – и ощущение счастья, которое мне принесла наша дружба длиной почти в четверть века, и благодарность судьбе за то, что эти годы – были… * * * С Виталием Ивановичем Бугровым я познакомился 1 марта 1982 г. (именно эта дата стоит на его книге, подаренной мне при знакомстве), в ЦДЛ, на каком-то совещании по фантастике. Сутуловатый, с негромким глуховатым голосом, он излучал такую благожелательность к собеседнику, что казалось невозможным не проникнуться к нему ответным чувством. Мы довольно быстро перешли на «ты». Инициатором этого был, если не ошибаюсь, Гена Прашкевич. Услышав, как мы при обращении друг к другу церемонно используем форму личного местоимения множественного числа, он изумился: «А что это вы?!..» ВИ улыбнулся своей замечательной улыбкой и с облегчением, как мне показалось, произнес: «В самом деле, что это мы?!..» С тех пор при встрече мы обменивались этой столь загадочной для окружающих, но оттого еще более веселившей нас фразой: «Так что же это мы, на самом-то деле?!..» Каждая встреча – независимо от того, о чем и как долго мы говорили, – у меня оставляла чувство душевной радости. Общались мы на конференциях и семинарах, на которые и он, и я приезжали на несколько дней, то буквально на бегу, обмениваясь несколькими приветственными фразами, то более пространно, не спеша, за рюмкой чая. В застолье ВИ не менялся – оставался таким же, каким был всегда, уютно-неторопливым, участвовал в общей беседе по сравнению с другими, быть может, и не очень активно, но его негромкий голос был слышен в любом шуме. ВИ трепетно относился к Александру Грину, и это тоже сближало нас; не раз у нас в разговоре бывало так, что один начинал, а другой продолжал цитату из нашего любимого автора. Как-то я сказал ВИ, что чем-то он сам похож на Грина (в тот раз он рассказывал, что составляет шеститомное собрание сочинений классика, вышедшее в 1993–1994 гг.), он засмеялся и смущенно отмахнулся, но было видно, что услышанное было ему приятно. А недавно, перечитывая воспоминания Паустовского, я нашел пассаж, подтверждающий, как мне кажется, мое наблюдение: «Внешность Грина говорила лучше слов о характере его жизни: это был необычайно худой, высокий и сутулый человек, с лицом, иссеченным тысячами морщин и шрамов, с усталыми глазами, загоравшимися прекрасным блеском только в минуты чтения или выдумывания необычайных рассказов. …Был он очень доверчив, и эта доверчивость внешне выражалась в дружеском открытом рукопожатии. Грин говорил, что лучше всего узнает людей по тому, как они пожимают руку»[10]. Когда на конференции не получалось поговорить, ВИ, улыбаясь так, как мог только он, обаятельно и застенчиво-виновато, говорил: «Ну ничего, до следующего раза, да?..» И тогда казалось, что впереди, в будущем, у нас еще так много дней и так много встреч (я был моложе ВИ всего-то на девять лет…). А потом вдруг оказалось, что будущего у нас с ВИ больше нет, а осталось только общее прошлое… ВИ был человеком разнообразных дарований – Господь, как говорится, не поскупился при его рождении. Редактор, библиограф, критик, энтузиаст фантастики (да-да, любовь именно к этой литературе, убежден, тоже есть дар, даваемый не каждому…) И без какой-либо из этих граней профессиональной деятельности ВИ его облик был бы неполным. ВИ был редактор божьей милостью. Убежден: он входит в число тех редакторов, которые в 1960-1970-е гг. так много сделали для нашей фантастики, что их, я считаю, надо назвать поименно: Нина Матвеевна Беркова (издательство «Детская литература»), Белла Григорьевна Клюева и Светлана Николаевна Михайлова (редакция фантастики – «домедведевская»! – издательства «Молодая гвардия»), Ирина Яковлевна Хидекель (издательство «Мир»), Роман Григорьевич Подольный (журнал «Знание-сила»). Они были для автора другом и помощником, соблюдая главную врачебную заповедь: не навреди. И тем разительно отличались от подавляющего большинства тогдашних редакторов, которые были, по сути дела, цензорами, обращавшими внимание прежде всего на идеологическую сторону художественного произведения, в чужой текст они влезали, не снимая грязных калош, разгуливая там, как по собственному дачному участку. Довелось мне общаться с ВИ и с редактором. Впервые я напечатался в «Уральском следопыте» в апрельском номере за 1989 г. Осенью 1988 г. мы встречались с ВИ в Москве, я рассказал ему о прошедшем в августе 1988 г. в Будапеште конгрессе World SF (Всемирной ассоциации писателей-фантастов), на котором я присутствовал, и ВИ предложил написать об этом. После того как ВИ получил от меня статью, он звонил мне дважды. Первый раз, чтобы согласовать перестановку двух (!) абзацев и сообщить, на какой номер ставится материал, а второй – чтобы сообщить, что материал по внутриредакционным причинам переносится на три номера. За 35 лет, что я занимаюсь литературной работой, с таким я столкнулся впервые… Многое в его редакторской работе сближало ВИ с легендарным редактором американской научной фантастики Джоном Кэмпбеллом-младшим, прославившимся в 1930-1940-е гг. Практически все американские фантасты, составившие славу НФ США, начинали печататься у Кэмпбелла или прошли его школу: Хайнлайн, Азимов, Ван Вогт, Спрэг де Кэмп, дель Рей, Каттнер, Блох, Бестер, Лейбер… Гарри Гаррисон, относящийся к этой же когорте, как-то заметил, что Кэмпбеллу обязаны славой и вообще тем, что состоялись как писатели, свыше тридцати американских фантастов «первого ряда». «Школа Кэмпбелла» – название, разумеется, условное, у нее не было ни программы, ни манифеста. Перечисленные выше (и еще многие не названные) фантасты были очень разными, и никто из них никогда не заносил себя или своих коллег в какие-нибудь обоймы – они просто работали. Их объединяла любовь к фантастике за ее способность, пользуясь словами их младшего коллеги Роберта Силберберга, «открыть врата Вселенной, показать корни времен»[11]. И еще их объединяла талант и желание писать – писать хорошо! – фантастику. Кэмпбелл помогал им, выступая в роли помощника и советчика, но никогда – учителя-педанта, неотступно поучающего и неусыпно следящего, чтобы ученики выполняли домашнее задание. Вокруг «Уральского следопыта» группировались лучшие силы в отечественной фантастике, как известные авторы, так и совсем молодые тогда, начинающие. Перечень лауреатов премий «Аэлиты», призов имени И. А. Ефремова и «Старт» подтверждает это и читается как краткая история отечественной фантастики. ВИ, как никто другой, понимал, что фантастика – тот род литературы, к которому нужен совсем особый подход. Список тех авторов, кого ВИ ввел в НФ – или кто в значительной степени состоялся благодаря ему – достаточно пространен. О том, как они признательны и благодарны ВИ, неоднократно говорили самые разные писатели: Андрей Балабуха, пославший свои рассказы на конкурс «Уральского следопыта» в 1962 г., Сергей Лукьяненко, называвший ВИ «крестным отцом» в литературе, Сергей Другаль, Павел Амнуэль. По признанию Алексея Иванова, ВИ сыграл особую роль и в его писательской судьбе, внушив ему веру в собственные силы, убедив в правильности того пути, которым он шел. Первая крупная вещь Иванова, повесть «Охота на Большую Медведицу», была напечатана в «…следопыте» (потом уже вышла в составе сборника, за который Иванов был награжден премией «Старт»). Трудолюбие, кропотливость, отношение к слову как к Делу, отличавшие редакторскую деятельность ВИ, видны и в его библиографических работах. Труд библиографа – тяжелый, не очень благодарный и не очень заметный, но такой необходимый для развития культуры. Он требует длительных изысканий, отбора и классификации материала, просмотра сотен книг и журналов, многочасового сидения в библиотеках, настоящей охоты за редкими изданиями. Сложность этой работы еще и в том, что приходится выявлять т. н. «скрытую фантастику» – ту, которая не обозначена как таковая на титульном листе книги либо автором, либо издательством. Таким делом занимаются подлинные подвижники – есть они и в наши дни, например, Виталий Карацупа из г. Бердянска. Процитирую одного из крупнейших отечественных исследователей фантастики, Евгения Павловича Брандиса, сказавшего об опубликованной в сборнике «Поиск-83» библиографии ВИ и Игоря Георгиевича Халымбаджи следующее: «Чтобы выполнить такую работу, нужна особая приверженность к избранной теме, горячая любовь к фантастике, огромная начитанность»[12]. Маленькая комнатка ВИ в редакции «Уральского следопыта» – на улице 8 марта, а потом на улице Декабристов, – была завалена бумагами, папками, книгами. В этом хаосе, казалось, ничего нельзя найти – но оно находилось, ибо лежало в каком-то удивительном, известном только ВИ, порядке. И, как только заходила о чем-то речь, он мгновенно выуживал необходимое письмо, вырезку или любой другой материал. Кабинет ВИ, рассчитанный, очевидно, по санитарным нормам на одного человека, всегда был полон народом. Трое, четверо, пятеро, а однажды на моих глазах туда набилось девять человек, отчего комната ВИ приобрела сходство с телефонной будкой, в которую утрамбовываются люди, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса. Все они разговаривали – нередко только друг с другом!.. – читали, что-то показывали ВИ – рукопись, журнал или книгу, а то и просто завтракали/обедали или пили чай… Не знаю, кто, кроме ВИ, был способен работать в таких условиях, но было такое ощущение, что именно в них-то он и может работать… ВИ работал в «Уральском следопыте» сначала лит. сотрудником, потом заведующим отделом фантастики. И именно благодаря ВИ «…следопыт» из провинциального периодического издания превратился в журнал всесоюзного масштаба, тираж которого доходил до 500 тысяч экземпляров. Читать раздел фантастики в «Уральском следопыте» было всегда бесконечно интересно, поскольку ВИ придумывал для читателей различные конкурсы, викторины. «Фантастика под микроскопом», «На перекрестках времени», «Заочный КЛФ» – названия этих рубрик, безусловно, вызовут сейчас сердцебиение у любителей и знатоков жанра со стажем. ВИ получал тысячи письма читателей со всей страны, рассказывавших о своей любви к фантастике, о том, как они читают и изучают ее в своих городах и поселках. ВИ обладал редким даром притягивать к себе людей – потому-то он, по точному выражению С. А. Казанцева, «стал той песчинкой, вокруг которой наросла жемчужина фэндома». Важна роль ВИ не только в образовании клубов любителей фантастики, но и создании в них фэнзинов. И то, что из фэндома вышли ныне известные люди, занимающиеся фантастикой профессионально (редактура, перевод, литературная критика) – достаточно назвать Володю Борисова и группу «Людены», – тоже, я думаю, в немалой степени заслуга ВИ. И, конечно же, благодаря ВИ и возник ВС КЛФ. Когда весной 1988 г. в Киеве в состав Всесоюзного совета клубов ВИ был избран как представитель творческих организаций, его кандидатура, как и кандидатура А. Н. Стругацкого, получила под громкие аплодисменты абсолютное одобрение зала. Во многом благодаря ВИ возникла «Аэлита» – праздник свободы и любви к фантастике (собственно, в те годы эти понятия были синонимичны). Если Москву и Ленинград называли столицами советской фантастики, то благодаря «Уральскому следопыту» – т. е. ВИ, – Свердловск стал, в сущности, ее третьим центром. И ВИ был, безусловно, душой «Аэлиты», о чем говорится в давнишней теплой песне, написанной Мишей Якубовским в 1988 г. (на мотив песни про конармейцев) к 50-летию ВИ и ставшей гимном «Аэлиты»: «Очень здорово снова /Побывать у Бугрова, / «Следопыту» поклон передать. / Пусть с годами желтеют / Наши фото в музее – / «Аэлита» всегда молода»[13]. Мне рассказывали, что на «Аэлите-92» (после того, как пошла волна переименований и Свердловск стал Екатеринбургом), в ходе дружеского застолья родилось предложение переименовать «Уральский следопыт» в «Бугральский следопыт». С «Аэлитой», помнится, связано получение самого крупного гонорара в моей жизни. После «Аэлиты-88» я написал для «Книжного обозрения» большой, почти на полосу, материал, от которого главный редактор Овсянников оставил одну фразу: «Ежегодная литературная премия Союза писателей РСФСР и журнала “Уральский следопыт” присуждена писателю из Томска Виктору Колупаеву за сборник фантастики “Весна света”». За этот «шедевр» я получил, как сейчас помню, 1,57 руб. Когда я позвонил ВИ, чтобы сообщить о случившемся («КО» поступало в Свердловск на пару дней позже), и шутливо посетовал на редакторское своеволие, он посмеялся, посочувствовал и сказал: «Денежки сохрани – пропьем…» Последний раз я был в Екатеринбурге в 2000-м, когда приезжал получать Мемориальный приз ВИ. И что-то не тянет больше… Конечно, главным образом потому, что с уходом ВИ город словно опустел… Сильно изменилась и «Аэлита»… Хотя ВИ писал немало о фантастике – и для «Уральском следопыта» (статьи, врезки к публикациям разных фантастов – при этом бывало так, что читать эти врезки было интереснее, чем сами «художественные» тексты…), и для других журналов и газет, все-таки критиком, скорее всего, он не был. С серостью, а то и воинствующей бездарностью он боролся не в статьях, а просто тем, что делал – честно и истово – свое дело. Скорее его можно назвать историком фантастики, разыскателем разных фактов – курьезных, полезных, драматических. Так написаны его книги «В поисках завтрашнего дня»[14] и «1000 ликов мечты»[15]. На обложке первой книги человек, одетый по моде XIX в., во фраке и цилиндре, высунувшись из гондолы воздушного шара, смотрит в подзорную трубу. Немного смешной, но удивительно привлекательный, похожий на чудаковатых ученых Жюля Верна (и еще, конечно же, на самого ВИ!..), он пытается разглядеть что-то за горизонтом или за толщей лет… Чаще всего ВИ сравнивали с Паганелем (но не только с ним – например, неожиданное и интересное сопоставление ВИ с д’Артаньяном провел Сережа Казанцев). Однако, говоря о параллелях с героями Жюля Верна, мне приходит на ум не секретарь Парижского географического общества Жак-Элиасен-Франсуа-Мари Паганель, а Мишель Ардан из романа «С Земли на Луну»: «Это был человек лет сорока двух, высокого роста, но уже слегка сутуловатый, подобно кариатидам, которые на своих плечах поддерживают балконы. Крупная львиная голова была украшена копной огненных волос, и он встряхивал ими порой, точно гривой. …Его нос был очерчен смелой линией, выражение губ добродушное, а высокий умный лоб изборожден морщинами, как поле, которое никогда не отдыхает»[16]. По-моему, в немалой степени совпадают не только внешность Ардана и внешность ВИ, но и их характеры: «Этот удивительный человек имел склонность к гиперболам, питая юношеское пристрастие к превосходной степени… Он был глубоко бескорыстен, и бурные порывы его сердца не уступали смелости идей его горячей головы. Отзывчивый, рыцарски великодушный, он был готов помиловать злейшего врага и охотно продался бы в рабство, чтобы выкупить негра»[17]. Не правда ли: как будто написано о ВИ!.. Параллели, как мне кажется, можно найти и в отечественной культуре. Что-то было в ВИ от шукшинских чудиков, с их совестливостью, нетерпимостью к подлости и лжи, что-то – застенчивость, доброта, сочетавшиеся с твердостью в вопросах принципиальных, когда дело касалось защиты чести и достоинства, – от героев Андрея Мягкова в фильмах Эльдара Рязанова. Ушел из жизни Виталий Иванович во сне – легкая смерть, посылаемая только тем, кто заслужил ее. День похорон выдался пасмурным. Низкое серое небо, моросящий дождик… Но к вечеру, во время поминок, небо очистилось, засияло солнце, и словно наступило – конечно, кратковременное, – успокоение. Поминки в «…следопыте» были долгими и очищающими душу… Метки: Гопман 9 декабря 1986 г. в Дубултах на Всесоюзном семинаре молодых писателей-фантастов я выступил с докладом. Дату эту привожу только потому, что именно в тот день я познакомился с Сергеем Александровичем Снеговым. Он подошел ко мне после доклада (знакомы мы тогда не были), представился (я, обалдев, пробормотал: Да что вы, СА, кто же вас не знает!..) и пригласил зайти к нему в номер. В номере он сказал, что ему очень понравился мой доклад, и, достав экземпляр только вышедшего издания романа «Люди как боги», сделал на титульном листе весьма лестную для меня надпись. В этом, как я потом понял, был весь СА – обладая редкостным чутьем на людей (опыт старого лагерника!), он либо кого-то не принимал, но, будучи поставлен перед необходимостью общаться с ним, вел себя с этим человеком подчеркнуто любезно; либо принимал, и он становился для него своим, и бывал с ним СА трогательно дружественен… Биографии СА хватило бы не на один роман. Он закончил физмат Одесского университета, некоторое время там преподавал, а затем работал инженером в Ленинграде. В 1936 г. был арестован, до 1939 г. сидел на Лубянке, в Бутырках, Лефортове, потом на Соловках. С 1939 по 1954 гг. сидел в Норильском ИТЛ (Исправительно-трудовом лагере), работал на Норильском горно-обогатительном заводе и закрытом оборонном заводе («шарашке»), участвовал в создании советской атомной бомбы. Реабилитирован в 1955 г. Нам, не испытавшим того, что выпало на долю поколения СА, трудно в полной мере оценить то мужество, которое проявил он в течение этих долгих лет. СА просидел в самой страшной политической тюрьме Советского Союза, на Лубянке, полгода, потом четыре месяца в Бутырках, но не сломался, и следователям так и не удалось заставить его оговорить себя – и, что также важно, других. А потом был лагерь, о котором так писал Варлам Тихонович Шаламов, воистину «брат родной» СА «по музе, по судьбам»: «Каждая минута лагерной жизни – отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел – лучше ему умереть»[18]. Фамилия В. Т. Шаламова здесь не случайна – СА долго переписывался и дружил с ним. И после освобождения система не раз пыталась заставить СА изменить себе, сделать подлость. Уже когда он жил в Калининграде, занимался литературной работой и стал членом Союза писателей, его не раз вызывали в обком партии и КГБ, предлагая подписать письма, осуждающие Пастернака, потом Синявского и Даниэля. А в начале 1960-х СА перестали печатать, он попал в «черный список» после того, как в ФРГ вышла статья, автор которой – немецкий литературовед – утверждал, что в повести «Иди – до конца» Снегов-де пытался реабилитировать Христа. У СА была не очень бросающаяся в глаза внешность (в сравнении, например, с импозантным Игорем Можейко = Киром Булычевым). Он был небольшого роста, плотного телосложения, с крупными чертами лица, придавшими ему – на первый взгляд – некоторую суровость. Но она тут же исчезала, стоило ему улыбнуться. Улыбка у него была удивительная, освещавшая не только его, но и собеседника. СА был нетороплив в движениях, со скупой жестикуляций (как-то я спросил его: «Эта сдержанность в жестах у вас, наверное, еще оттуда?» СА внимательно посмотрел на меня, помолчал, потом улыбнулся и ответил: «Пожалуй, что так. В бараке быстро отучишься руками махать…»). СА ходил в старомодном костюме, носил рубашку без галстука, выпуская ее воротник поверх лацканов пиджака, но все равно производил впечатление человека элегантного, одетого стильно. Зимой он ходил в кепке и в пальто с незастегнутым воротником, без шарфа. Как-то в Дубултах я не выдержал и сказал ему об этом, на что СА только улыбнулся и ответил: «После Норильска здешние минус четыре-пять для меня не холод…» И эта закаленность физическая была словно отражением его закаленности духовной. СА был человеком добрым и внимательным, его отличало отсутствие суетливости, деликатность до щепетильности. Он был по-рыцарски галантен и учтив с женщинами, так, как не принято в наше время, и они это чувствовали и буквально хорошели в его присутствии. Но при этом в нем ощущался стержень – за мягкостью скрывалась жесткость бойца, прошедшего лагерный ад. У СА был негромкий глуховатый голос, в речи слышалась легкая картавость, ему очень шедшая. Он очень четко выговаривал окончания слов – такая речь характерна не просто для человека, привыкшего к публичным выступлениям, но (что случается не так часто) испытывающего уважение к любой аудитории, хотя бы она состояла из одного человека. В Дубултах он, несомненно, был одним из лучших руководителей – сейчас, преподавая в вузе, я могу оценить несомненное педагогическое мастерство СА, его такт в работе с семинаристами. Везде, где он оказывался – на вечерних посиделках на семинарах и конференциях, на прогулке, в купе поезда, – СА любил, собрав вокруг себя, как он говорил, «народ», рассказывать о своем прошлом. Рассказчик он был блистательный, причем не прибегал ни к каким риторическим приемам, модуляциям голоса и другим квази-артистическим штукам. Речь его была мягка и интеллигентна. Каждый его рассказ был законченной новеллой, он словно не говорил, а читал с листа. Десятки, какое там, сотни фигур нашей истории проходили перед слушателями: от Льва Гумилева (с которым СА сидел в Норильске) до великих ученых-атомщиков – Зельдовича и Харитона, от Семена Буденного до заместителя Берии, не говоря уже о множестве заключенных. Примечательно, что СА практически не прибегал к мату – если же какое-то слово и появлялось, то оно было поразительно органичным, при этом не смешиваясь с остальным потоком речи, словно подчеркивая, выделяя мерзость человека или явления. Он был человеком поразительной образованности – даже на фоне весьма начитанных коллег-писателей. Художественная литература, философия, история науки – и, конечно, его любимая физика. Знание всех этих областей культуры ощущалось в его книгах, будь то морские романы «Держи на волну», «Ветер с океана», книги о первопроходцах области ядерной физики на Западе («Прометей раскованный») и о создателях отечественной атомной промышленности («Творцы»), или, наконец, фантастические рассказы или романы. Ощутимо это и в его самой, быть может, известной, книге, «Люди как боги». Вот что писал СА о замысле романа: «…Пишу о будущем, потому ни о прошлом, ни о настоящем много не нафантазируешь, а будущее для фантазий открыто; рисую общество, в котором мне самому хотелось бы жить, а не изготовленное по скучно-сусальным либо катастрофическим прогнозам ученых футурологов-марксистов либо их противников; живописую героев вполне живых, с сильными характерами, которых мне приятно было бы иметь среди своих приятелей и добрых знакомых…»[19] А в авторском предисловии к роману СА замечает: «…Я был бы удивлен, если бы мне сказали, что где-то, когда-то точно осуществилась придуманная мною ситуация. И я был бы огорчен, если бы в придуманной мной ситуации люди действовали по-другому, чем я написал»[20]. «Люди как боги» – трилогия, состоящая из романов «Люди как боги», «Вторжение в Персей» и «Кольцо обратного времени», – одна из наиболее фундаментальных утопий в отечественной литературе. Ее принято также называть – и совершенно обоснованно – первой «космической оперой» в отечественной фантастике, кроме того, в трилогии видно следование автора традициям приключенческого и философского романа. Эта русская «история будущего», встающая, по моему мнению, в ряд с лучшими работами Роберта Хайнлайна, Айзека Азимова и Ларри Нивена. Наверное, нет в отечественной НФ литературе писателя, который мог сравниться с СА по богатству фантазии при описании форм иной, не антропоморфной, разумной жизни. В трилогии появляются крылатые кони – пегасы, искусственно выведенные огнедышащие драконы, антропоморфные существа с крыльями, названные ангелами, змеедевы, разрушители (они являют собой биологическое единство живого существа и механизма), наконец, рамиры – представители мыслящей материи, космического разума. В трилогии ощутима также столь редко встречающаяся в «космической опере» – и столь характерная для СА! – иронии, например, в описании внешности ангелов. Очень важна в романе, как мне кажется, линия взаимоотношений между главным героем и его избранницей Мери. Их любовь описана тонко и поэтично – вот, например, что говорит герой, не желая расставаться с любимой даже на короткое время: «Быть без тебя – все равно что быть без себя. Или быть вне себя. Один – я только половинка целого»[21]. Конечно же, здесь звучит автобиографический мотив, любви СА и его второй жены, Гали. СА познакомился с нею в 1952 г., когда она приехала в Норильск. Когда в «органах» стало известно об их отношениях, за связь с ссыльным девушку (она была моложе СА на 17 лет) исключили из комсомола и выгнали с работы. Когда же Галя узнала, что СА собираются отправить на острова в Белом море, что было равносильно гибели, только медленной, то настояла на том, чтобы они расписались. При этом она понимала, что подписывает себе смертный приговор, т. к. становилась членом семьи врага народа. Спасло их только то, что через три месяца после того как они расписались, умер Сталин… Для меня одна из самых важных книг СА – сборник «Норильские рассказы». Книга, полная жестокой правды о времени и человеке, говорящая так много о прошлом, вне которого нельзя понять наше настоящее… Вот что писал СА в авторском предисловии к изданию 1991 г: «В основу предлагаемых читателю рассказов положены события, свидетелем или участником которых был я сам. Лишь в редких случаях я разрешал себе писать о том, что мне передавали другие участники событий. Соответственно и фамилии героев сохранены подлинные – исключения редки и в большинстве случаев оговорены. Время действия – 1936–1945 годы. Место действия – тюрьмы и лагерь»[22]. Одна фраза в авторском предисловии поразительна: «…Свобода терялась, совесть и убеждения сохранялись»[23]. Это, без сомнения, кредо СА. Он смог выжить потому, что сохранил свободу мысли. В 1992 г. СА прислал мне книгу «Язык, который ненавидит». Половину сборника составляли рассказы из Норильского цикла, вторая часть была отведена работе «Язык, который ненавидит». Эти исследование – очерки о блатном языке с толковым словарем – не потеряло актуальности и в наши дни. Ведь СА не просто классифицирует блатной язык, но анализирует его философию: «Воровской жаргон, ставший основой лагерного языка, есть язык ненависти, презрения, недоброжелательства. Он обслуживает вражду, а не дружбу, он выражает вечное подозрение, вечный страх предательства, вечный ужас наказания»[24]. И дальше: «Этот язык не знает радости. Он пессимистичен. Он не признает дружбу и товарищества. Ненависть и боязнь, недоверие, уверенность, что люди – сплошь мерзавцы, ни один не заслуживает хорошего отношения – такова его глубинная философия. Это язык – мизантроп»[25]. В наше время одной из главных фигур культуры стал, увы, уголовник, а самыми модными – фильмы и сериалы из жизни криминального мира; не случайно кумиры молодежи – герои «Бригады», как не случайно и то, что подобные фильмы показывают по телевизору в прайм-тайм. И блатной жаргон звучит не только с экранов – он проникает в нашу повседневную жизнь (примеров этого можно найти множество), стал частью лексикона политиков и деятелей культуры, причем в этом чаще всего не отдают отчета ни говорящий, ни его слушатели. Можно поразиться тому, что СА предупреждал об опасности экспансии блатной эстетики свыше сорока лет назад. В 1996 г. в Риге издательством «Полярис» был опубликован посмертно роман С. А. Снегова «Диктатор». Перед читателем предстает обстоятельно и увлекательно выписанная картина жизни параллельного (или, по словам автора, «сопряженного») мира. Действие романа происходит на планете, которая во многом напоминает Землю. Жители планеты сумели «приручить» погоду, управляя ею по своему желанию, командуя циклонами и тайфунами, создавая засуху или посылая дожди, используя это умение в военных целях. В основе сюжета – события, происходящие в одно из наиболее значительных государств планеты, Латании, в котором к власти приходит ученый астрофизик Алексей Гамов. После серии побед в войне Латании с ее вековечным противником Кортезией он был провозглашен спасителем нации и обрел абсолютную власть. Гамов ненавидел войну – и всеми силами старался покончить с нею, желая, по его словами, «лишить войну камуфлирующих ее понятий благородства, героичности… Унизить войну, чтобы мутило и выворачивало кишки при одном упоминании о ней»[26]. Жестокости и ненависти Гамов хотел противопоставить сострадание и милосердие, надеясь, что тогда пробудится в людях «то единственное, что делает каждого человека равнозначным Богу, – его внутренняя человечность». Последний роман Снегова – утопия, но совсем иная, чем «Люди как боги». В «Диктаторе» куда больше горечи, чем в предыдущей утопии писателя, но больше и оптимизма. Во второй утопии Снегова путь к лучшей жизни для всех людей лежит, по мнению писателя, через пробуждение нравственного начала в человеке. Сила романа – не в яркости картин всеобщего счастья, основанного на торжестве экономических и политических идей, но в призыве к людям вглядеться в глубину своей души, понять, что человечность и доброта – естественные качества homo sapiens, что благо каждого человека и всего общества зависит от того, насколько скоро это будет осознано. «Диктатор», без сомнения, одно из самых значительных произведений отечественной фантастики по масштабности проблематики, по сложности художественной задачи. В этом романе наиболее полно воплотилась вера писателя в победу нравственного начала в человеке, пусть эта вера кому-то сегодня и покажется старомодной. Одна из самых для меня памятных встреч с СА состоялась весной 1990 г., на Третьих Ефремовских чтениях в Ленинграде. На открытие конференции, проходившее в помещении Союза писателей, прибыл и Юрий Медведев – тот самый, который был зав. редакцией фантастики в издательстве «Молодая гвардия» во второй половине 70-х гг. и в 1989 г. опубликовал повесть «Протей» – отвратительный пасквиль на братьев Стругацких (тогда буквально весь фэндом поднялся против этого). И вот председательствующий А. Ф. Бритиков объявил фамилию Медведева (он выступал с докладом о И. А. Ефремове), который встает и идет к трибуне. Я также встаю – неожиданно для самого себя – и в тишине прошу Бритикова дать мне слово. Бритиков ошарашен, я настаиваю и иду по проходу к трибуне. Бритиков растерян, в зале, в котором кто-то понял, что происходит, слышны возгласы: пусть говорит. Бритиков через силу соглашается. Подойдя к сцене, я беру микрофон, спущенный Бритиковым, и начинаю говорить (Медведев находился у меня за спиной, стоя на трибуне). Положение было непростым: надо было изложить ситуацию с «Протеем», для большинства неизвестную, и сказать Медведеву, что думают о нем многие писатели-фантасты и фэндом, в возможно парламентских выражениях. К тому же меня несколько раз прерывали, и Медведев, и Бритиков. Тем не менее, я сказал все, что надо было сказать, и вышел из зала. Что было потом, я знаю в пересказе. Бритиков сошел со сцены, отказавшись вести заседание, молодые фантасты кричали что-то оскорбительное в адрес Медведева, кто-то из фэнов выбежал в коридор и выключил свет в зале. Короче, случился скандал. Мне говорили потом: начал-то ты хорошо, но зал так и не понял, что происходит, да и вторая часть твоей речи прозвучала не очень убедительно, нужна была подготовка, чтобы получилось эффектнее. Возможно, и так… Однако те, кто снобистски упрекал меня в недостаточной риторической экспрессии, сидели в зале, в удобных креслах, а не встали и не пошли к сцене, чувствуя, как тяжело дается каждый последующий шаг, и не говорили перед аудиторией, настроенной отнюдь не доброжелательно, преодолевая ее психологическое давление… Как тут не вспомнить фразу Никиты Михалкова: «Легко кричать из толпы!..» Эти шесть-восемь минут были для меня очень трудными. Я не собирался выступать, но, видя, как вальяжно идет к трибуне Медведев, понял, что бездействовать было нельзя. Сейчас, как и тогда, убежден: без такого – или любого иного – демарша конференция стала бы позорным соглашательским пятном в истории отечественной фантастики. Закончу словами Миши Якубовского, первого заместителя председателя ВС КЛФ А. Н. Стругацкого, написавшего в Информационном бюллетене Совета: «Много слов было произнесено в адрес Медведева, писались разные письма (помнится, и в ВС КЛФ писал Пищенко). И многие помнят “Аэлиту-89”, где носили вниз головой значок с мишкой. Но все это, на наш взгляд, было своего рода заявлением о готовности совершить поступок. Сам же Поступок совершил В. Л. Гопман…» …Когда мы вернулись вечером того дня в Комарово, где жили все участники и проходили заседания в другие дни, я рассказал о произошедшем жене, приехавшей со мной. И она устроила мне скандал, боясь, что нас теперь выгонят из комфортного дома отдыха, где ей так нравилось… Утром следующего дня я подошел к Бритикову, отвечавшему за проведение конференции от Ленинградского отделения Союза писателей, и извинился за вчерашнее (но не за свой поступок, а за его последствия). Он молча выслушал меня и, глядя в сторону, сухо ответил: «Вы уедете, а отвечать за все придется мне…» В то утро многие писатели и другие участники конференции – вплоть до добрейшего Александра Ивановича Шалимова – смотрели на меня с осуждением и даже некоторой опаской, в их глазах читалось: «…А ведь таким приличным казался с первого взгляда этот молодой человек…» СА был единственным, кто повел себя совсем иначе. Он подошел ко мне, поздоровался, как обычно, вздохнул и сказал со свойственной ему деликатностью: «Вы не должны были это делать». Помолчал и, улыбнувшись своей чудесной улыбкой, добавил: «Но согласен с вами: сделать это было необходимо». Мы встречались не часто, в основном переписывались (и так жаль, что многие его письма пропали при переезде…), говорили по телефону. И сколько раз СА приглашал меня: «Приезжайте в Калининград, один или с женой, здесь так замечательно!..» И каждый раз я, к своему нынешнему стыду, мямлил, что мол то-то и то-то держит меня в Москве, но вот через месяца три-четыре, а то и ближе к лету… А потом приехать стало не к кому… Кто знает, случайность это или нет (я-то думаю – закономерность), что именно в фантастике работали АИ, ВИ, СА (конечно же, и другие!..), подлинные рыцари жанра. К ним полностью применимы слова Лескова о праведниках – их писатель называл «людьми высокими, людьми такого ума, сердца, честности и характеров, что лучше, кажется, и искать незачем». Как же мы бываем сдержанны, а то и скупы на выражение своих чувств, когда человек жив, – и так, увы, становимся словообильны, когда он уходит… Надо успеть сказать при жизни другу, что он для тебя значит, и говорить это чаще, чтобы прибавилось ему сил и бодрости, позволило – даже в случае самой тяжелой болезни – прожить еще немного. Прав, прав был Булат Шалвович: «Давайте говорить друг другу комплименты!..» Любил ли фантастику Шолом Алейхем? Люди, годы, книги современной фантастической литературы Израиля Что удержало, что спасло от вереницы бед? Бессмысленное ремесло, отсутствие побед и поражений, и не в масть ложащийся расклад, возможность посмеяться всласть над тем, чему не рад, и потому… Но вот – порог, колеблющийся свет, и неоконченных дорог уклончивый ответ. Д. Клугер[27] Вопрос, вынесенный в заголовок, следует отнести к разряду риторических. Потому что об отношении к фантастической литературе классика еврейской литературы известно немного. Хотя в произведениях Шолом-Алейхема происходят иногда события удивительные, в которых есть что-то сказочное, трудно, казалось бы, объяснимое с точки зрения обыденного здравого смысла (рассказы «Заколдованный портной», «Часы»), в целом же его творчество реалистично, наполнено болью за несправедливость жизни, делающей человека часто смешным и жалким. И творчество основоположника еврейской реалистической литературы Менделе Мойхер-Сфорима, которого Шолом-Алейхем почтительно называл «мой дорогой дедушка», также лишено волшебства, сказочности, столь частой в еврейском фольклоре. Лишь в стихах и прозе Ицхока-Лейбуш Переца появляются фантастические картины, словно оживают народные легенды и предания: о женском демоне Лилит, погубительнице мужчин – из-за любви к ней Мониш, юноша из местечка, попал в ад (поэма «Мониш»); о тридцати шести праведниках (рассказ «Холмский Меламед»); о рае, в котором избранных встречает праотец Авраам (рассказ «Бонця-молчальник»); об Илье-пророке, помогающем еврею-бедняку (рассказ «Семь лет изобилия»); о нечистой силе, искушающей безгрешного раввина (рассказ «За понюшку табаку»). Однако в целом фантастика не привлекала особого внимания классиков еврейской литературы. И это не может не вызвать удивления, ибо основа национальной еврейской культуры – библейские тексты ветхозаветного канона (Тора, «Пророки», «Писания»), насыщенные фантастическими образами и мотивами: Эдем, всемирный потоп, Содом и Гоморра, Вавилонская башня – список может стать конспектом Ветхого Завета. А если к этому добавить еще народные легенды и сказки, обширнейший корпус еврейской мистической литературы – Каббалу, хасидские предания, мидраши[28]… Поразительно, но факт: этот громадный по объему материал остался невостребованным, в сущности, еврейскими писателями, а использовался авторами других национальностей. Это же относится и к идеям утопизма – казалось бы, кому, как не евреям, фантазировать о земле обетованной, где реки текут молоком и медом, однако удельный вес утопического элемента в еврейской литературе весьма невысок и первая, в сущности, в ее истории утопия, роман «Земля старая и новая» (1902), принадлежащая перу Теодора Герцля, не породила последователей. История фантастики в еврейской литературе в XX в. (и до, и после образования государства Израиль) довольно скудна. Тем не менее, фантастика играет важную роль в творчестве первого в еврейской культуре лауреата Нобелевской премии по литературе Шмуэля Йосефа Агнона (1966). Уже в начале своего творческого пути Агнон обратился к еврейскому фольклору, к народным легендам и преданиям, очень интересовался хасидскими сказаниями, и не случайна формулировка Нобелевского комитета при присуждении премии гласит: «За глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами»[29]. Важно отметить – и это нередко забывается, – что Нобелевская премия по литературе в тот же год была вручена и поэтессе Нелли Закс, родившейся в Берлине в еврейской семье (в 1940 году, во время гитлеровской оккупации Европы, Закс с матерью, благодаря помощи Сельмы Лагерлеф, перебралась в Швецию). Ее поэзия создавалась во многом под влиянием иудейской мистики, апокалиптики Ветхого Завета, Каббалы. Фантастика – неотъемлемый элемент творчества самых знаменитых, самых титулованных еврейских писателей, живших в других странах. Первым в этом списке следует назвать лауреата Нобелевской премии по литературе за 1978 год Исаака Башевиса Зингера, писавшего на идиш и прожившего больше половины жизни в США. В основе его творчества – мотивы фантастические, иррациональные, мистические. Зингер много писал для детей, и, отвечая на вопрос, почему он выбирает именно эту аудиторию, писатель сказал: «Ведь дети верят еще в Бога… ангелов, чертей, ведьм, домовых…»[30] Фантастический гротеск, аллегория, иносказание важны для лауреатов Нобелевской премии Сола Бэллоу (1976) и Элиаса Канетти (1981), относимых – соответственно – к американской и австрийской литературам, а также для таких выдающихся еврейских прозаиков прошлого века, как Франц Кафка и Станислав Лем, родившихся – соответственно – в Чехии (входившей в состав Австро-Венгерской империи) и в Польше. Культура XX в., в контексте которой следует рассматривать современную фантастическую литературу, была бы существенно обеднена без творческой деятельности философов, психологов, социологов Анри Бергсона, Зигмунда Фрейда, Эриха Фромма, Клода Леви-Стросса и, конечно же, Альберта Эйнштейна и Норберта Винера. Не вызывает сомнения, что различное гражданство каждого из них не отменяет факта их общей этнической принадлежности к еврейской нации. Равным образом фантастика XX в. немыслима без творчества таких американских писателей – евреев по происхождению, как Айзек Азимов, Роберт Блох, Генри Каттнер, Сирил Корнбладт, Роберт Силверберг, Норман Спинред, Уильям Тэнн, Харлан Эллисон. Нельзя забывать также о столь значительном еврейском писателе середины столетия, как Мордехай Рошвальд, жившем долгое время в США. Известность Рошвальду принес роман «Седьмой уровень» (1958), который принято относить к традиции антиутопии (действие происходит в будущем, в противоатомном убежище, разделенном на десять уровней-этажей и снабженном лифтами, которые двигаются только вниз). Однако, по мнению Даниэля Клугера, на самом деле в романе в качестве научно-фантастической идеи используются «некоторые фундаментальные положения еврейской ре-лигиозной мистики»[31]. Как считает Клугер, роман – иллюстрация каббалистического термина «погружение в Меркаву»: в Меркаву (нематериальный мир) не восходят, а погружаются, то есть – опускаются, к тому же десять уровней-этажей романа символизируют десять сфирот. Прочтенный таким образом, роман представляет собой «не мрачную технократическую фантазию о гибели человечества, но еврейскую религиозно-мистическую утопию о странствованиях человеческой души в нематериальном мире»[32]. Вообще число писателей еврейского происхождения в фантастике США велико – наверное, аналогичное явление можно наблюдать только в русской/советской НФ. Об этом надо сказать подробнее, имея в виду значение представителей русской алии в современной культуре Израиля (и его фантастики). Известно, что в годы Советской власти еврейская тема находилась под запретом, и все, что могло иметь к ней отношение – или казалось таковым идеологам, – вызывало яростное неприятие. Пример – поток доносов и обвинений в сионистской пропаганде в адрес романа Евгения Войскунского и Исая Лукодьянова «Ур, сын Шама», в котором рассказывалось о юноше из древнего Шумера, похищенном пришельцами со звезд и возвращенного на Землю спустя шесть тысяч лет, в семидесятые годы XX в. на территорию нынешнего Азербайджана. В истории советской литературы можно выделить три волны писателей, обращавшихся к фантастике. Первая приходится на период с образования Советского государства и до начала пятидесятых годов, вторая – с середины пятидесятых до начала восьмидесятых, третья – с начала восьмидесятых. На первом этапе из числа книг, написанных евреями, наиболее заметны книги утопического характера, посвященные космическим полетам, а также сказки: романы Юрия Окунева «Грядущий мир», Абрама Палея «Планета КИМ», сборник фантасмагорических новелл Вениамина Каверина «Мастера и подмастерья», повести Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания» и Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч» (хотя последняя есть, в сущности, переложение на советском материале книги «малого классика» английской литературы Ф. Энсти «Медный кувшин»), сказочно-аллегорические, философские пьесы Евгения Шварца. Второй этап начался с романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», вышедшего после XX съезда партии в начале оттепели. В фантастику пришел тогда большой отряд молодых талантливых авторов, составивших славу советской НФ 1960–1970-х годов. Среди них было немало людей, как гласила циничная формула советской внутренней политики, «еврейской национальности». И хотя порой они носили русские фамилии (и даже в паспортах были записаны русскими), происхождение их не оставалось тайной для идеологических ревнителей расовой чистоты[33]. Это, прежде всего, абсолютные лидеры советской фантастики на протяжении тридцати с лишним лет братья Аркадий и Борис Стругацкие, Евгений Войскунский и Исай Лукодьянов, Геннадий Гор, Георгий Гуревич, Александр Полещук, Сергей Снегов, Генрих Альтов, Илья Варшавский, Александр Мирер, Владимир Михайлов, Владлен Бахнов. Сюда же надо отнести Василия Аксенова («Остров Крым», «Затоваренная бочкотара») и Юлия Даниэля («Говорит Москва»). И, наконец, третий этап связан с деятельностью Московского, Ленинградского и ежегодного (с 1982 года) Всесоюзного семинаров молодых писателей-фантастов, давшей такие имена как Михаил Веллер, Борис Штерн, Даниэль Клугер, Александр Силецкий, Николай Блохин, Андрей Левкин. К этим авторам примыкают Павел (Песах) Амнуэль, М. Кривич и О. Ольгин (псевдонимы Михаила Гуревича и Ольгерта Либкина), Валерий Генкин и Александр Кацура. После образования государства Израиль фантастика в национальной литературе развивается слабо. Ситуация меняется в конце семидесятых годов, когда по экранам мира с триумфом прошел фильм «Звездные войны»[34]. Начинают выходить фантастические книги израильских писателей на иврите: Давида Меламуда, Амоса Кенана, Беньямина Таммуза, Рэма Моава. Правда, по мнению критика Шелдона Тейтельбаума, иврит, в отличие от идиша, не очень подходил для научной фантастики. Возможности современного иврита, происходящего, по мнению критика, от языка, предназначенного для описания религиозных обрядов, ограничены даже семантически[35]. В целом же отношение в израильском обществе к фантастике было сдержанно-пренебрежительным (как, впрочем, во многих других странах, от СССР до США). Это можно видеть на различных примерах. В предисловии к вышедшему в 1993 г. в Москве сборнике современной новеллы Израиля «Пути ветра» о фантастике в литературе страны ничего не говорится[36]. И хотя некоторые исследователи отмечали в 1990-е гг. повышение интереса израильских писателей к нереалистическим художественным формам – так, об этом пишет Рахиль Фурстенберг[37] и Анат Файнберг[38], а профессор Ализа Шенар указывает на усиление внимания к сказочно-фольклорной традиции[39], – ситуация меняется слабо. Пытались изменить это отношение, прежде всего, критики: Шелдон Тейтельбаум, который вел колонку фантастики в газете «Джеруселем пост», и Орзион Бартана, профессор Тель-Авивского университета, автор пионерского исследования «Фантастика в израильской литературе последних тридцати лет» (1989). В наши дни израильская фантастика выходит на трех языках: на иврите, на идиш и на русском. Формально авторы НФ объединены во Всеизраильское объединение писателей-фантастов, фактически же эти группы существенно различаются. Авторы, работающие на иврите и на идиш, малочисленны, у них меньшая аудитория и меньшая популярность, чем у русскоязычных авторов, выходцев из бывшего СССР. Ядро этих писателей составляют Песах Амнуэль, Даниэль Клугер, Леонид Резник, Александр Рыбалка, Александр Лурье, Кира Певзнер, Михаил Юдсон, Лев Вершинин (примечательно, что некоторые свои вещи они, опубликовав в израильской периодике, издают в книжной форме в России). Внушителен отряд критиков, занимающихся фантастикой. Возглавляет критическое сообщество Рафаил Нудельман, бывший до отъезда в Израиль, вместе с Юлием Кагарлицким и Евгением Брандисом, одним из ведущих в советской НФ критиков и теоретиков жанра. Автор большого числа статей и предисловий к книгам советских и зарубежных фантастов, Нудельман долгое время редактировал журнал «22», часто печатавший материалы о фантастике – в частности, блестящие работы о творчестве братья Стругацких Майи Каганской. Далее надо назвать Илану Гомель, ставшую известной статьями о еврейской теме в зарубежной фантастике[40], Зеева Бар-Селлу, очень хорошо зарекомендовавшего себя работами о советской фантастике[41], Марка Амусина, знакомого российским любителям фантастики по книге о творчестве братьев Стругацких[42]. Первый в истории израильской литературы журнал фантастики «Миры» выходил в 1995-1996-х гг. Редакционный совет состоял из Песаха Амнуэля, Иланы Гомель и Даниэля Клугера. В «Мирах» публиковалась хорошая израильская (Амнуэля, Клугера, Леонида Резника и других перспективных авторов) и переводная фантастическая проза, отличная критика, и хотя по экономическим причинам журнал просуществовал недолго, но роль его в развитии израильской фантастики велика. Центральная проблема для израильской фантастики сейчас – создание подлинно национальной НФ. Существует гигантский корпус литературы, которая способна оказывать влияние на любую национальную фантастику, в его основе англоязычная НФ и фантастика на русском языке. Основная проблема каждой национальной фантастики – создание собственной эстетики, основанной на своих художественных принципах. Эстетическое заимствование выглядит комично – Д. Клугер остроумно заметил, что еврейскую фантастику не создашь, заменив Конана-варвара на Когана-варвара[43]. Примеры следования по такому пути можно, к сожалению, видеть в израильской НФ. Например, рассказ Шимона Розенберга «Зову я смерть» («Миры», 1995, № 3). Рассказ полностью «западный», под ним могла бы стоять не еврейская, а любая другая фамилия (английская, чешская, испанская), его тема (проклятие бессмертия), реалии, сюжетные ходы – все это многократно было отыграно в западной НФ. Неплох рассказ А.Рыбалки «Первый день нисана» («Миры», 1996, № 1), но идея его вторична – см. знаменитый рассказ Артура Кларка «Девять биллионов имен бога». Интересна повесть Д. Клугера «Чайки над Кремлем» («Миры», 1995, № 2), но она звучала бы куда сильнее, появись лет двадцать назад. Ибо тема повести не раз использовалась в западной НФ – о гипотетической победе Гитлера во второй мировой войне фантасты на Западе писали с конца тридцатых годов XX в.[44]; правда, до Клугера местом действия еще ни разу не становилась территория бывшего СССР, в повести – Москва, затопленная созданным по приказу фюрера морем. Любопытен рассказ Л.Резника «Уличный боец» (не самое удачное название) в.№ 2 за 1995 г. журнала «Миры». Идея «перевертыша» нынешней политической ситуации в стране – арабы занимают основную часть территории Израиля, а евреи, напротив, живут в автономии – представляется достаточно продуктивной. Вообще же из современных израильских авторов, работающих в направлении, интересующем нас, и создающих подлинно национальную НФ, мы бы отметили, прежде всего, двух: Песаха Амнуэля и Даниэля Клугера. * * * Песах (Павел) Амнуэль родился в 1944 г. в Баку. С детства интересовался астрономией и фантастикой. Оба эти увлечения превратились в дело жизни: Амнуэль стал ученым-астрофизиком (он – автор более шестидесяти научных статей и пяти научно-популярных книг) и писателем-фантастом. Первый рассказ он напечатал в пятнадцать лет. С тех пор у него вышло много рассказов и повестей в различных сборниках, были и сборники авторские: «Крутизна» (1983), «Сегодня, завтра и всегда» (1984). А в 1990 г. бакинский прозаик Павел Амнуэль стал израильским писателем Песахом Амнуэлем. В «Мирах» печатался журнальный вариант романа Песаха Амнуэля «Люди Кода», вышедший отдельным изданием в Иерусалиме в 1996 г. Время действия романа – 1999 год, место – современный Израиль. Репатриант из СССР, бывший московский инженер Илья Давыдович Купревич, еще в Москве начавшийся интересоваться Библией, после многолетнего ее изучения приходит к ошеломляющему выводу: в Торе записан (зашифрован) генетический код человека будущего: «Видимый, читаемый текст вторичен. Слова даны для сознания. Чтобы текст не затерялся в веках. Чтобы его пронесли в будущее без единой ошибки»[45]. Произнесение вслух нескольких фраз из Торы – ключевых, как оказалось, – включает генетическую память, пробуждает скрытые экстрасенсорные способности человеческого организма. И возникает вопрос: была ли Тора написана для всех будущих жителей Земли? Или только для евреев? И если так, то не в этом ли богоизбранничество еврейского народа? Ведь для сохранения текста необходима была религия обязательно монотеистическая, слепая вера в Слово: «Религия сохранила Книгу и народ Книги» (37). Благодаря Купревичу нашли скрижаль, потерянную Моисеем при спуске с горы Синай, а на ней была начертана одиннадцатая заповедь, гласившая, что в конце XX в., именно в те дни, когда найдут скрижаль, в Иерусалим придет Мессия, который возвестит наступление царства Божия (Мессией оказывается репатриант из Киева – бывший фотограф Илья Коган). Исследование с помощью углеводородного метода показало, что возраст надписи на камне – от трехсот миллионов до двух миллиардов лет. На совете мудрецов Торы главный раввин Израиля объявил о пришествии Машиаха, Мессии… Согласно высшему замыслу, за те несколько тысяч лет, которые должны пройти от момента передачи текста Торы на горе Синай до включения текста, должен был завершиться процесс ассимиляции евреев и в каждом человеке должна быть хоть капля еврейской крови. В результате перекрестных браков каждый человек на Земле стал бы евреем, обладавшим знанием Торы как языка генной памяти – в этом был смысл многовековой диаспоры. При этом вместе с евреями должен был ассимилироваться иудаизм, проникнуть во все конфессии, и основные включающие коды должны были перейти в тексты других священных книг. Но если с Библией и Кораном это сработало, то не сработало с индуизмом и другими восточными религиями… Приход Мессии признали президенты России и США, руководители крупнейших стран мира. Специальные послания направили глава Русской Православной Церкви и Папа Римский, издавший энциклику, объявляющую о принятии Кода. Для большинства людей на Западе Мессия стал провозвестником наступающей эпохи покоя и благоденствия. Мировой процесс перехода в иудаизм захватил и арабских фундаменталистов. Хизбалла, ХАМАС, другие террористические группировки перестали существовать в одночасье, поскольку арабы несли в себе общую с евреями кровь, тот генетический материал, которого оказалось достаточно для включения программы. Лига арабских государств опубликовала поразительное коммюнике о первородстве Израиля и воссоединении Корана с Торой, точнее – о поглощении Торой Корана, точнее, тех его сур, что не шли с Книгой в принципиальное противоречие (пожалуй, это единственное место в книге, читая которое трудно удержаться от горестного вздоха, настолько эта идиллическая картина контрастирует с нынешним положением в стране…). Однако на Востоке думали иначе. В Шанхае прошло совещание президентов стран Востока, после чего в Китае была объявлена всеобщая мобилизация – только так, заявили в Пекине, можно было защититься от угрозы с Запада, возникшей в результате событий в Израиле. Жители Индии, Китая, Бангладеш, Японии, Вьетнама и других стран не восприняли слова Мессии, а текст Торы остался для них лишь мертвыми закорючками. Хотя на Востоке оказалось немало людей Кода, даже не подозревавших о своей принадлежности к иудейскому племени, к одному из колен Израилевых. Эти-то люди пострадали в первую очередь – во время погромов в Индонезии и Малайзии. Кто знает, быть может, без них два мира, разделенных явлением Мессии, продолжали бы существовать. Но слишком сильна оказалась тысячелетняя ксенофобия – по словам Мессии, «Восток не принимает Запад. Можно было бы, как ни смешно, назвать это антисемитизмом в мировом масштабе» (174). Отрицание Востоком роли Мессии означало одно: миссия Машиаха закончена, поскольку до единения всех живущих на Земле еще далеко и царство Божие наступит не скоро. Поэтому наступило время великого Исхода всех людей Кода. Как сказал один из героев романа, «Впереди пустыня, новое получение Торы, завоевание земли текущей молоком и медом. История не повторяется. Она только сейчас начнется в том виде, в каком была задумана…» (199–200). Почти два миллиарда людей во всем мире начали свой Исход, переносясь на иные миры во Вселенной… (Уже позже выяснилось, что же произошло потом на Земле. После того, как население России, Европы, США. Латинской Америки покинуло свои страны, началась полномасштабная война между Китаем и Японией за контроль над всем миром, война, в которую включилась и Индия). «Люди Кода» – произведение глубоко национальное, погруженное в повседневную жизнь Израиля – и одновременно пронизанное токами его истории, культуры. Амнуэль раздвигает рамки романа благодаря использованию различных художественных форм фантастического, от собственно НФ до политической фантастики и философской аллегории. Кто создал Код? Кто запрограммировал человека? И для чего? Какие бы версии ни предлагались, замечает Купревич, все они будут примитивными – мироздание гораздо сложнее. Да ответы на эти вопросы не столь важны для Амнуэля – роман не о божественном, а о земном, о человеческом. О смысле жизни, о содержании и цели бытия, оправданности его тем, что не только делает, но и что сможет сделать человек. Наконец, роман об ответственности за свои поступки, от которых может зависеть не только судьба мира, но – что подчас не менее важно, – и судьба близкого человека. Два главных героя – Илья Купревич и Илья Коган – встречают женщин, становящихся для них самыми дорогими людьми. И каждый из них понимает, что этой встречи он ждал всю жизнь. Кто знает, быть может, это-то и есть главное, в конце концов? И быть может, кому-то ближе всего в романе будет история о том, как уже не очень молодые люди находят друг друга. О том, как складываются эти новые отношения, рассказывается сдержанно – и поэтично: «И Д. К. еще раз поцеловал Дину – на этот раз в самый угол губ. Поцелуй оказался быстрым и непрочным, как домик Наф-Нафа» (63). Любимый человек становится центром вселенной, любовь растет, приобретает космический масштаб – и остается земной: «Дина шагнула к нему и прижалась лбом к его плечу. И Д. К. вдыхал слабый запах шампуня от ее волос, думал, что вот так стоять, просто стоять, не шевелясь, быть столбом, о который можно опереться, – тоже счастье, дурацкое, возможно, и временное, и неправильное, но счастье, бессмысленное и нелепое, но сейчас единственно нужное. Потому что придает силы» (112). Перед героями Амнуэля постоянно встает проблема выбора жизненного пеленга, который помог бы направить их существование в достойное русло. Со свободы выбора, возможности принятия решения начинается самопознание, свобода духа. Символично потому звучит диалог: «Что сейчас? Утро? Вечер? Какой день недели? И куда идти, чтобы попасть в Газу? – Время сейчас – полдень, а идти нужно только к себе. Или в себя…» (223). По мере развития сюжета действие становится все более неоднозначным, все более философическим. Эта неоднозначность – весьма важное качество, это авторская позиция, стремление уйти от простых и понятных традиционных ответов, от того, что и как делается в традиционной НФ, стремящейся выдать сюжетно однозначный ответ, не утруждая себя даже поиском сложности. Неожиданность – принципиально важное качество для Амнуэля – он нарочито уходит от простого решения, предоставляя читателю сделать окончательный вывод: «Перечитайте Текст, и, уверен, вы найдете множество тому подтверждений. Я их нашел, но не смею, навязывать читателю свою точку зрения, ибо в ней, в отличие от остальных своих соображений, я не уверен» (326). Нельзя не согласиться с Рафаилом Нудельманом, автором предисловия к роману, что эта книга «открывает перед фантастикой совершенно новые горизонты. Она представляет собой то, что принято обычно называть «новым словом» в литературе. Сказать такое слово трудно в любом литературном жанре и вдвойне трудно в фантастике» (5). И далее: «П. Амнуэль обсуждает проблемы именно еврейской религии. Это делает его книгу глубоко еврейской, я бы даже рискнул сказать – первой подлинно еврейской фантастической книгой, не по внешним приметам (имена и национальная принадлежность героев, место действия и т. п.), а по внутренней проблематике и ее историческим корням» (7–8). * * * Даниэль Клугер родился в 1951 г. в Симферополе. По образованию физик. По мироощущению поэт. Показать, что Клугер – поэт, можно с помощью любой, взятой наугад, строчки из его сборника «Молчаливый гость», но так хочется цитировать его больше – вот, например, стихотворение «Петер Шлемиль»: «По грани, по краю /по кромке небес /осенних ступаю /без компаса, без /великого дара /угадывать путь, /лишь призрак пожара /далекого чуть /меня освещает, /и где-то вдали /загадочно тает /звезда… корабли, /кареты, дукаты, /и талеры, и /дома, и солдаты, /и монастыри, /короче – ступени /пути в темноте, /и тени, и тени, /и тени, и те…»[46]. Прозу Клугер начал писать рано, успех пришел к нему с исторической трилогией «Жесткое солнце», потом он обратился к фантастике. Живя в Союзе, Клугер был участником многих сборников фантастики, принимал участие во Всесоюзных семинарах молодых писателей-фантастов. С 1994 г. переехал в Израиль. Клугер выпустил несколько повестей о работе частного детектива в современном Израиле – Натаниэля Розовски, выходца из Советского Союза, организовавшего частное сыскное агентство, специализирующееся исключительно на делах новых израильских граждан, прибывающих из постсоветских республик. Эти острые, динамичные повести, написанные живо и увлекательно, были хорошо приняты читателями, причем как в Израиле, так и России. В одной из этих повестей – «Тщательно проведенное расследование»[47] – Клугер поставил интересный (и заранее скажем, закончившийся успешно) эксперимент по соединению детектива и фантастики. Действие повести разворачивается параллельно в современном Израиле и в небольшом городке на юге Германии в 1523 г. Знакомый Натаниэля Розовски, физик Давид Гофман, создал «тахионный излучатель» для изучения свойств времени. С помощью этого прибора он получил возможность, установив канал во времени, совмещать людей со сходным психотипом. Именно таким образом Гофман «послал» сознание Розовски в Германию начала Реформации, в сознание инквизитора отца Леонгарда, расследующего дело об убийстве (при этом сознание принимающего объекта перешло в область подсознательного). Ситуация с убийством осложнена тем, что убит христианин, труп которого был обескровлен. А поскольку в городе проживала большая еврейская община, то самым удобным объяснением случившегося стало утверждение: убийство совершили евреи, чтобы добыть кровь для ритуальных обрядов в преддверии пасхи… Спасение нескольких сот членов еврейской общины от погрома, к которому уже были готовы жители городка, потребовало от Розовски напряжения всех сил. И расследование средневекового «дела Бейлиса» привело к сенсационному выводу: убитый был изначально лишь ранен на дуэли, а уже потом его добил близкий друг, чтобы завладеть кошельком раненого, и перенес ночью к решетке, которая отделяла гетто от города. Так интересное НФ допущение и классическая детективная схема дополняют друг друга, взаимоусиливают повествование, придают ему дополнительную напряженность – и делают более отчетливым гуманистическое содержание повести[48]. В 2001 г. Клугер опубликовал – в соавторстве с Александром Рыбалкой – роман «Тысяча лет в долг»[49]. Авторы открывают для российского читателя мир иудаистской мифологии, полной эсхатологических и мессианских мотивов. Есть нечто мессианское и в герое романа – Семене Когане, уроженце Одессы, приехавшем в Израиль в середине 1990-х гг. Случайно (случайно ли?..) ему в руки попадается антикварная «Книга Залов», изданная в 1588 г. в Падуе, в типографии Амнуэлей – итальянского издательского дома, специализировавшегося на каббалистической литературе («издательский дом Амнуэлей» – шутка, что и говорить, изящная, как говорится, «для своих»). Семен Коган чем-то напоминает легендарного Фауста – герой Клугера и Рыбалки так же одержим жаждой познания, стремится «сойти в Меркаву» (9), испытать «странствия души по высшим мирам» (9), «узреть чертоги ангелов на небесах» (9). Потому-то он и решается приступить к заклинаниям. Прочтя сто двадцать раз молитву, описанную в книге, герой оказывается неожиданно в жутковатого вида местности, где небо было цвета запекшейся крови, по которому ползли иссиня-черные облака. Так Семен попал в Тхом, Темный Мир, отделенный от мира реального кольцом перерожденной материи. Тхом разделен на семь княжеств: Гееном, Страна Безмолвия, Страна Смерти, Ад Первобытной Грязи, Могильная Пропасть, Место Исчезновения и Нижняя Преисподняя. Во главе княжеств стояли Ангел Смерти Самаэль-Сатан, Ашмодей, Тале-Золотой Телец, птицеообразный Эрев, зловещий могильщик Заариэль, Терниэль и сам Теомиэль, Темный Владыка. А перенесен сюда Семен Коган для того, чтобы уничтожить мир Тхом… Разрушить Тхом и тем самым покончить с властью Теомиэля можно лишь произнеся заветное сорокадвухбуквенное имя Бога. Но оно записано на скрижали, разбитой на семь частей, каждая из которых оказалась в одном из княжеств Тхома, к тому же неизвестно, где она может находиться – воистину: пойди туда, не знаю, куда… Семену предстоит путь через области, повторяющие семь уровней ада, населенные бесчисленными демонами и страхолюдными мифологическими существами – чего стоят только морской змей Левиафан или зверь Бегемот! Клугер и Рыбалка щедро черпают из демонологической сокровищницы, созданной фантазией мудрецов Каббалы (роман снабжен приложением – своего рода путеводителем по еврейской демонологии), изображая демонов-оборотней, дьяволов и дьяволиц, а также демонов антропоморфных – правда, те куда выше ростом и мощнее сложением, чем люди, и вместо ног у них когтистые лапы. Кого только не видел Семен в Темном Мире… Ему пришлось вступить в схватку с жутким всадником на не менее жутком скакуне: «Конь, на котором он восседал, разумеется, ничего общего с лошадьми не имел. Это был огромных размеров зверь, похожий то ли на дракона, то ли на гигантского четырехлапого змея. Могучие лапы были украшены длинными кривыми когтями, чуть задранными вверх, непропорционально крупную голову на длинной тонкой шее защищал такой же черный шлем, как и у всадника. Больше всего Семена поразило то, что у драконообразного коня был только один глаз, располагавшийся вертикально в центре широкого лба. Глаз словно светился изнутри холодным голубоватым светом» (41–42). Только потом Семен узнал, что у инфернальной пары это был один глаз на двоих… Подчас герою приходилось сражаться не только с демонами, но и с их помощниками, зловещими фантастическими существами: «Оцепеневший Семен во все глаза рассматривал приближавшееся диковинное существо. Верхняя половина стражника – от пояса – была человеческой. Ниже пояса тело… переходило в покрытое хитиновым панцирем вздутое брюхо огромного насекомого, покоившееся на двух парах суставчатых ног. Сзади тело резко сужалось и переходило в закрученный вверх скорпионий хвост. Вернее, два хвоста. И в каждом наличествовало огромное острое жало, то и дело высовывавшееся наружу…» (236) А вот явление ближайших помощников Темного Владыки демонов Ойвы и Шодеда: «Они не были огромными – как поначалу показалось Семену, – просто высокие, может быть, чуть выше человека. Но от них веяло ужасом, этот ужас можно было ощущать физические, словно душную тяжелую волну. Их лица напоминали обтянутые серой кожей черепа, но не человеческие, а наполовину звериные – с далеко выдающимися вперед челюстями. Черные провалы вместо глаз, узкие растянутые губы обнажали острые длинные клыки. Всклокоченные волосы клубились отвратительными щупальцами…Их руки по локоть покрывала запекшаяся кровь, в торчащих волосах застряли сгустки крови. Но чудовищнее всего были их плащи: из человеческой кожи, небрежно наброшенные на узкие, припорошенные багровой пылью плечи» (194) Но, разумеется, не разнообразие обитателей фантастического мира и его мистическая космология определяют читательский интерес к роману (хотя в немалой степени и поддерживают его). Крепко сколоченный сюжет, внимательное соблюдение жанровых канонов (приключения проходят по грани между невозможным и вполне допустимым), точно найденный тип героя, психологизм образов (почему Семену помогает сам Сатан, похожий на оборотистого гешефтмахера, в конце концов, не очень-то понятно – очевидно лишь, что из разрушения Тхома Ангел Смерти собирается извлечь свою выгоду) – вот лишь несколько причин, по которым действие не теряет своей притягательности до самого финала. И, конечно же, повествование украшает юмор – качество, нечастое в фэнтези. Например, когда Семен оказался в Тхоме и назвал первому встреченному незнакомцу свое имя, того охватил такой восторг, что автор не удержался от иронического замечания: «Бедуин оказался вторым человеком, так бурно обрадовавшимся появлению Семена Когана. Первым таким человеком был Хаим Коган, отец Семена, и случилось это двадцать лет назад, во дворе одесского родильного дома номер два…» (20). Или Семен одерживает верх в игре в загадки с Тале-Золотым Тельцом, одним из князей Тхома, который так и не смог догадаться, откуда выражение «Товар-деньги-товар». А на удивленное замечание Сатана, что, как тому кажется, в Талмуде нет такого изречения, Семен лукаво отвечает: еще с университетских времен у него застряла в памяти цитата из «Капитала» рабби Карла Маркса… Роман заканчивается победой Семена и его друзей, но это не банальный хэппи энд, который означал бы, что добро побеждает зло, все драматические события разрешаются благополучно, а положительные герои обретают то, к чему стремятся и что заслужили (Семен за свой подвиг не получил никакой награды, более того, финал романа открыт – потому-то сейчас авторы начали работать над второй книгой, в которой герой окажется в раю, а вместо демонов его будут окружать ангелы). Если бы было так, то роман обернулся бы очередной фэнтезийной поделкой, удручающей плоским морализаторством. Нет, содержание книги куда глубже. Конечно, зло страшно и многолико, бороться с ним трудно и опасно, но от этой схватки уклониться нельзя – нигде и некогда. И только тот, кто понимает необходимость (пусть даже не для себя лично) этой борьбы, несмотря на весьма вероятный ее драматический (для себя лично) исход, может одержать победу над злом. Об этом точно сказал повелитель эльфов Элронд у Толкина: «Слабые не раз преображали мир, мужественно и честно выполняя свой долг, когда у сильных не хватало сил…»[50] Израильская фантастика развивается на протяжении тысячелетий – за ней многовековая традиция еврейской культуры, сохраненной в диаспоре. Но израильская фантастика и очень молода – ей, как государству, немногим за шестьдесят. Любые прогнозы о путях ее развития безосновательны (культура – живой организм). В то же время за ее будущее можно быть уверенным, о причинах чего, в сущности, говорится в стихотворении Игоря Губермана, фантастическом по форме, но таком реалистическом по содержанию, Везде, где есть цивилизация и свет звезды планеты греет, есть обязательно нация для роли тамошних евреев[51] **** Как стать счастливым. Вариант писателя Т. Энсти Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах. В. Ерофеев. Москва-Петушки [154] Любители фантастики помнят, конечно, магистра черной магии Магнуса Федоровича Редькина из повести А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Он собирал всевозможные определения счастья: негативные, позитивные, казуистические, парадоксальные… Что ж, для всех людей – философов и музыкантов, ученых и спортсменов, завмагов и завхозов – существуют, пользуясь математической терминологией, свои необходимые и достаточные условия обретения счастья, порой, напротив, не имеющие ничего общего с родом деятельности человека, порой непосредственно от этого зависящие. А пользуясь терминологией медицинской, можно сказать, что каждому пациенту от рождения выписывается свой рецепт счастья; и уж от самого человека зависит, насколько точно он будет следовать полученным предписаниям… Эти соображения и дают основание предложить в копилку магистра М. Ф. Редькина нижеследующий рассказ об одной писательской судьбе. С фотографии – она сделана примерно за год до смерти нашего героя и помещена в книге его воспоминаний – на нас смотрит элегантный худощавый мужчина лет шестидесяти (хотя тогда ему было далеко за семьдесят), с ироничными глазами и коротко подстриженными усами, чем-то похожий на Герберта Уэллса или Форда Мэдокса Форда. Это Томас Энсти Гатри, вошедший в историю литературы Великобритании под именем Ф. Энсти. Т. Э. Гатри родился в Лондоне 8 августа 1856 г. Отец его был военным портным, мать – пианисткой, она закончила Королевскую академию музыки, прекрасно знала французский и итальянский языки, хорошо владела кистью и привила детям (их у нее было четверо) любовь к литературе и искусству. С детства Томас больше всего любил рисовать и придумывать разные истории. В колледже и университете он активнейшим образом участвовал в издании самодеятельных журналов, заполняя значительную часть их объема своими рассказами и рисунками (в том числе он иллюстрировал «Илиаду» и «Одиссею»). А в 1878 г. наконец решился послать юмореску в лондонский журнал и вскоре, к радости автора, ее опубликовали. Правда, в результате ошибки наборщика в выбранном Гатри псевдониме Т. Энсти «Т» оказалось замененным на «Ф». Так появился на свет писатель Ф. Энсти. После окончания Кембриджа перед Гатри, у которого к тому времени было напечатано уже свыше десятка рассказов, проблема выбора – заниматься юриспруденцией (к чему никак не лежала душа) либо литературой – стояла недолго. Он получил извещение, что лондонская книготорговая фирма «Смит энд Элдер» (та самая, которая публиковала Теккерея, Шарлотту Бронте, Дж. Элиот, Троллопа, Мередита – писателей, перед которыми Энсти благоговел) приняла к публикации его первый роман «Шиворот-навыворот». С юриспруденцией было покончено, и Т. Гатри начинает карьеру профессионального литератора. Вышедший в 1882 г. роман «Шиворот-навыворот» [155] стал одним из самых ярких дебютов в английской литературе конца XIX в. В романе Гатри впервые использовал прием, ставший затем его «визитной карточкой»: введение фантастического элемента в реалистическое повествование. Собственно говоря, фантастики в романе немного, хотя роль ее весьма значительна. Заключается она в описании действия индийского волшебного камня Гаруда. Появляется камень в романе дважды. В начале книги, когда с его помощью Пол Бультон, глава преуспевающей лондонской торговой фирмы, против собственного желания и совершенно неожиданно для себя, меняется телом со своим четырнадцатилетним сыном Диком, и в конце, когда с помощью камня совершается обратная волшебная метаморфоза. Существенно, что камень был привезен из Индии. В Англии второй половины XIX в. возник значительный интерес к Индии и ее культуре, вообще к экзотике и мистическим «откровениям» Востока. В немалой степени образ Индии как «страны чудес» сложился в общественном сознании благодаря Уилки Коллинзу (роман «Лунный камень») и Редьярду Киплингу, с 1880-х гг. печатавшего свои «индийские» рассказы, а в 1894–1895 гг. выпустившего знаменитую «Книгу джунглей». Основная часть повествования романа «Шиворот-навыворот» – то смешной, то драматический рассказ о пребывании Пола Бультона (в теле его сына Дика) в частной школе. В начале романа Поль Бультон предстает похожим на героев Диккенса – таких, как, например, Скрудж из «Рождественских повестей», Ральф Никкльби из «Николаса Никкльби» или Домби из «Домби и сын». Он изображен как воплощение эгоизма, скаредности, лицемерия, ханжества. Бультон самоуверен, неизменно убежден в собственной исключительности и значимости, пренебрежительно относится к тем, кто слабее и беднее его – и заискивает перед теми, кто богаче и стоит выше по социальной лестнице (по сути дела. Это «старый добрый снобизм», так выразительно описанный Теккереем, чьи книги Ф. Энсти очень любил). Наконец, он бездушен и холоден ко всем, в том числе и к собственным детям. Оказавшись в физическом облике сына в подростковой среде, Поль продолжает вести себя как взрослый, что постоянно создает трагикомические фарсовые ситуации. Уже первое его назидательное обращение к директору школы Гримстону в присутствии учеников, потрясает подростков, боящихся директора, – их реакция сопровождается ироническим комментарием автора: «Грабитель, горячо отстаивающий частную собственность, или овца, осуждающая вегетарианство, не произвели бы на слушателей более ошеломляющего эффекта» [156] . Поль снисходительно поучает и учащихся, и преподавателей школы, что Гримстон воспринимает как попытку мальчика пародировать своего отца, не подозревая, что слышит самого Поля Бультона. Когда же Дик (т. е., его отец) начинает фактически доносить директору на своих товарищей, поскольку они, как он считает, ведут себя не так, как ему кажется должны вести себя дети, то окончательно восстанавливает против себя всех одноклассников. Самое же ужасное для Поля то, что он не в силах что-либо изменить, т. к. волшебный камень Гаруда может выполнить только одно желание человека, и чтобы он снова «заработал», необходимо добыть его у Дика, в чьих руках он остался. Энсти описывает подростковую среду, в которой оказался герой романа, одновременно изнутри и со стороны – как если бы судья Тэтчер в романе Марка Твена наблюдал воскресную школу, находясь в теле Тома Сойера. «Шиворот-навыворот» – «роман воспитания» наоборот: герой – не познающий жизнь подросток, но взрослый с внешностью ребенка, презирающий мир детей, но вынужденный приспособляться к нему и в нем выживать. Против воли Поль познает этот мир и всеми силами старается в нем уцелеть. В какой-то степени Энсти следовал за Диккенсом, писавшем об ужасах обучения в частных школах (например, в романе «Николас Никльби» – Гримстон во многом напоминает директора школы Сквирса из этого произведения), но в основном опирался на собственный опыт пребывания в подобной школе-интернате, которая нашему читателю может напомнить «Очерки бурсы» Помяловского. Нарисованные Энсти картины жизни школы были столь ярки, что К. С. Льюис – знавший не понаслышке, что такое обучение в школе-пансионе, – назвал роман «единственно точным рассказом о школе в современной литературе» [157] . Доктор Гримстоун («говорящая» фамилия – от grimstone, «зловещий, мрачный камень») – подлинная фамилия директора школы, в которой учился Энсти. Впоследствии Гримстоун сказал отцу писателя при встрече, что, прочтя книгу, узнал себя в герое романа. О связи героев романа с реально существовавшими в жизни писателя людьми Энсти говорил так: «Хотя в книге Гримстоун был нарисован с натуры, однако прототипом Полю Бультону не послужил ни мой отец, ни кто-либо еще. Я просто изобразил типичного родителя – такого, каким он мне представлялся» [158] . А настоящий подросток, шалопай Дик, находящийся в теле взрослого мужчины, отказывается от взросления (эту ситуацию можно было бы назвать своеобразной вариацией на тему Питера Пэна, если не знать, что герой Д. Барри появился на свет лет на двадцать позже). Дик ленив и жаден, он использует телесную оболочку взрослого лишь для того, чтобы вволю спать, есть и играть в детские игры. Если в начале романа мы испытывали симпатию к подростку, то потом она исчезает. Когда Поль возвращается домой в облике Дика и просит сына наконец поменяться с ним телами, тот решительно протестует. Нынешнее состояние Дика, по его словам, источник каждодневного блаженства: «Ни уроков, ни зубрежки, сплошные развлечения! Масса денег, ешь и пей, что душе угодно. Нет, от такого я не откажусь!» [159] Финал приносит развязку ситуации. Благодаря Роли, младшему сыну Поля Бультона, камень выполняет просьбу о возвращении его и Дика в прежнюю физическую оболочку. Оба – отец и сын – извлекли моральный урок из недавней ситуации, дав себе зарок вести себя иначе. Эгоистичный мистер Бультон будет больше заниматься своими детьми, не относясь к ним больше, как к ненужной помехе, станет заботливым и любящим отцом. Как подытоживает писатель, «Ни отец, ни сын не вернулись на позиции, на которых находились до метаморфозы» [160] . У романа лукавый подзаголовок: «Урок отцам». На самом же деле это урок и отцам, и детям. Омерзительны «взрослые» черты характера – лицемерие, корыстолюбие, ханжество, тем более, когда они возведены в ранг общественных добродетелей (воплощением их в начале романа предстает Пол Бультон), но не менее отвратительны в подростке жадность, трусость, подлость. Выступая обличителем этих свойств человеческой натуры, Энсти прибегает к иронии, подчас сарказму, не доходя, однако, до беспощадности сатиры Диккенса. Волшебный камень Гаруда был выброшен мистером Бультоном из окна. «Да послужат его печальные приключения уроком всем остальным!» [161] , заключает автор. Таков вывод романа, утверждающего торжество викторианских ценностей и добродетелей, и, прежде всего, скромности, терпения, послушания, усердия. В 1988 г. американский режиссер Брайан Голберт экранизировал роман. Рекламная кампания в поддержку книги проходила под примечательным слоганом «Это комедия для того ребенка, который живет внутри каждого из нас». Роман имел большой успех, у Энсти появились подражатели, не обладавшие, разумеется, его дарованием. Энсти неоднократно получал от издателей предложение написать продолжение «Шиворот-навыворот». Как вспоминал писатель, ему «предлагалось, и вполне серьезно, написать такое продолжение, чтобы в школе оказалась мать – в физическом обличии своей дочери; и если бы я хоть немного знал ситуацию с обучением в женских школах, вполне возможно, что я смог бы сделать состояние благодаря моей второй книге, и дальше писал бы фантастические истории из школьной жизни до конца моих дней» [162] . После выхода романа «Шиворот-навыворот» Энсти становится известен. Он входит в литературные круги, знакомится со многими знаменитыми в то время деятелями культуры, как правило, высоко оценившими роман. Среди них были Уильям Моррис, Роберт Браунинг, Эндрю Лэнг, Альфред Теннисон, Олдержнон Суинберн, Джордж Мередит, Генри Джеймс, Сэмюэл Батлер, Брем Стокер, Джеймс Мэтью Барри, актер Генри Ирвинг и Айседора Дункан. С некоторыми из них – в частности, в Киплингом и Конан-Дойлем – Энсти дружил много лет. Примечательно, что в книге воспоминаний Энсти ни разу не унизил ни своих друзей, ни себя похвальбой – вот, мол, с кем я был знаком и в каких кругах вращался. С 1882 г. Энсти начинает публиковаться в популярнейшем в Англии юмористическом журнале «Панч», сотрудничество с которым продолжалось свыше сорока лет. В «Панче» все относились к Энсти с симпатией: от знаменитого художника Джона Теннила – первого и, как считают многие, лучшего иллюстратора книг Льюиса Кэрролла о приключениях Алисы – до популярного прозаика Джорджа Дю Морье, отца писательницы Дафны Дю Морье. В «Панче» Энсти публиковал юмористические заметки, зарисовки, наброски, очерки, которые потом использовал в своих романах. Когда в 1907 году в Лондон приехал Марк Твен, на обеде, даваемом «Панчем» в честь знаменитого юмориста, среди наиболее известных английских писателей того времени присутствовал и Энсти (его самого, кстати сказать, еще при жизни сравнивали с Твеном). Второй роман Энсти, «Платье великана» [163] , вышел в 1884 г. Роман разочаровал читателей. От автора ожидали нечто похожего на первую книгу – т. е., сочетания фантастики и юмористики, но ожидания не оправдались. Энсти попытался «исправиться» в повести «Раскрашенная Венера» [164] (1885). Читателей привлекло уже начало повести: лондонский парикмахер Леандр Тведл, желая похвастаться, сколь изящны и тонки пальчики его любимой, сравнивает их с пальцами стоящей в парке статуи Венеры – и надевает на один из них кольцо, предназначенное для невесты (сюжетно повесть Энсти напоминала новеллу Проспера Мериме «Венера Илльская», 1837). Этим Тведл пробуждает и переносит в Лондон конца XIX в. дух античной богини. Венера убеждена, что парикмахер хочет жениться на ней, и потому требует от Леандра отправиться с нею на остров в Средиземном море для вступления в брак. Разгуливающая по Лондону статуя Венеры лишь поначалу производит комическое впечатление на читателя – когда же мы понимаем, что жестокость богини и ее решимость добиться своего не имеют предела, она начинает внушать страх. Леандру удается спастись лишь благодаря находчивости и присутствию духа. Когда Венера угрожает уничтожить близких Леандра, если он будет продолжать отказываться от предлагаемого ему счастья, и парикмахер понимает, что эта угроза более чем реальна, то дает согласие. Но перед бракосочетанием просит Венеру зайти с ним к ювелиру и проверить пробу кольца – вдруг его обманули при покупке и оно было не золотым. Жестокая, но простодушная, богиня соглашается, снимает кольцо с пальца – и превращается вновь в мраморную статую. Более сюжетно самостоятельна повесть Энсти «Чеки времени» [165] . Ее герой, лондонский бизнесмен Питер Тормалин, получает возможность сохранять то время, которое он, по его мнению, теряет в деловых поездках из Англии в Австралию и обратно. Для этого ему надо просто положить под часы чек с указанием количества часов или же минут, которые герой хочет депонировать в таинственном банке времени. Энсти не дает никакого научного объяснения этому факту, порождающему множество неприятностей в жизни героя (поступая также, как и Марк Твен в романе «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»). Повесть Энсти – одно из первых в мировой литературе произведений о временных парадоксах (напомним, что «Машина времени» Уэллса вышла только пять лет спустя), того направления в фантастике, какое получило столь мощное развитие в XX в. Однажды осенью 1898 г. Энсти, как потом он вспоминал, сидел в кабинете и листал сборник стихов Данте Габриэля Россетти. И нашел стихотворение о волшебном камне, обладавшем способностью заключать в себе духов. Тут же он вспомнил «Сказку о рыбаке» из собрания «Тысяча и одной ночи» – и, как он потом вспоминал, план новой книги мгновенно обрисовался перед его внутренним взором. Книгу Энсти сел писать летом 1899. Писалось ему легко и радостно – быть может, как ничто другое, недаром в автобиографии он вспоминал об этих днях с таким теплым чувством [166] . Потому, наверное, и роман «Медный кувшин» [167] вышел легким и веселым, а успех его превзошел успех «Шиворот-навыворот». Правда, это можно было сказать только об Англии – в Америке книгу приняли куда холоднее, издатель прислал Энсти вырезку из нью-йоркского журнала, язвительно писавшего, что «один парень, поумнее Энсти, рассказал эту историю в сказке из «Тысячи и одной ночи» тысячу лет назад, и получилось это у него куда лучше» [168] . Нашему читателю роман «Медный кувшин» (1900), безусловно, напомнит повесть Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». Сходство между этими произведениями настолько очевидно, что можно с уверенностью сказать: Лагин был знаком с романом Энсти, переведенным на русский в 1902 г. Для подкрепления тезиса о сходстве романа Энсти и повести Лагина можно выстроить своего рода таблицу соответствий. В обоих произведениях по приказу царя Соломона джинн заключается в сосуд (у Энсти – медный кувшин, у Лагина – глиняная бутылка). В обоих случаях выпущенный на свободу джинн клянется помогать во всем своему избавителю (у Энсти в его роли выступает молодой лондонский архитектор Гораций Вентимор, купивший на аукционе кувшин, в котором содержался джинн Факраш-эль-Аамаш, у Лагина – московский школьник Волька Костыльков, нашедший в реке сосуд с Хассаном Абдуррахманом ибн Хоттабом). В обоих случаях избавителю предлагаются драгоценные дары, преподносимые джиннами в знак своей глубочайшей благодарности. В обоих случаях сначала это караван верблюдов, нагруженных драгоценными камнями, тканями, золотыми украшениями, посудой и т. п.; затем благодетели улучшают «жилищные условия» своих спасителей: джинн у Энсти создает в небольшой лондонской квартире роскошные многозальные покои, джинн у Лагина строит целый квартал дворцов, принадлежащих пионеру Костылькову. Далее дары отличаются – но лишь потому, что герои разного возраста: Факраш пытается найти для Вентимора подходящую, по его мнению, партию, решив женить его на принцессе из рода джиннов; Хоттабыч же подсказывает Вольке на экзамене по географии. У обоих джиннов есть враги, которых они смертельно боятся – у Факраша это Джарджарис, у Хоттабыча – Джирджис. И в той, и в другой книге есть немало забавных эпизодов, в которых фантастическое вторгается в повседневную жизнь. Но в большинстве таких эпизодов могущественный джинн, стремясь отблагодарить своего спасителя, ставит его раз за разом в неловкое, а то и опасное положение. Если сходство между замыслом, сюжетным посылами и некоторыми ключевыми эпизодами обеих книг не вызывают сомнения, то различны образы джиннов. Если в начале романа Энсти Факраш показан преисполненным благодарности к своему спасителю, то с середины романа джинн меняется. Отказы Вентимора от подносимых ему даров приводят Факраша в бешенство, он начинает ненавидеть юношу и, не желая понять ни причин такого его поведения, ни времени, в которое его забросила судьба, он решает погубить того, кого недавно, по его словам, боготворил. Факраш не просто жесток, груб и высокомерен – он ведет себя так только с теми, кого считает ниже и слабее себя. Перед теми же, кто, по его мнению, сильнее его, он подчеркнуто подобострастен, раболепен, заискивает, готовый пойти на все, лишь бы не рассердить их (точь-в-точь, как Пол Бультон из романа «Шиворот-навыворот»). Такие чувства он проявляет в отношении лорда-мэра Лондона, поскольку Вентимор убедил его, что тот – самый могущественный человек в городе, владеющий всем, что есть в столице Англии. В книге Лагина образ Факраша словно раздвоен, его качества «поделены» между Хоттабычем, которому «достались» доброта, отзывчивость, толерантность, и его братом Омаром, воплощающим жестокость и эгоизм. Если Хоттабыч постепенно избавляется от самонадеянности, столь присущей ему в начале книги, и претерпевает столь значительную нравственную эволюцию, что А. Н. Стругацкий в послесловии к одному из изданий «Старика Хоттабыча» назвал его «старым добрым джинном», «современным Дон-Кихотом в шляпе-канотье и коротенькой курточке» [169] , то его брат Омар высокомерен, бесцеремонен, как и Факраш, убежден в собственной непогрешимости; кроме того, он не только не хочет учиться, как Хоттабыч, на своих ошибках, но не допускает ни на минуту, что в чем-то может ошибаться. Но еще больше отличаются главные герои. Вентимор – молодой начинающий архитектор, мечтающий об известности и высоком материальном достатке, но желающий добиться этого своим трудом. Неоднократно он высказывает эту мысль в разговоре с Факрашем: «Хочу ли я, чтобы самые важные люди в Лондоне низкопоклонничали передо мной, стараясь от меня чего-нибудь добиться? Так как я превосходно знал, что все эти почести воздаются мне за мои личные заслуги, то едва ли мог бы считать себя польщенным. …Единственное, что я умею и люблю, это – созидать дома» [170] , «…Я не привык быть богатым, мне бы лучше разбогатеть постепенно, так, чтобы сознавать, что я всем обязан – насколько возможно – моим собственным трудам. …Само по себе богатство не приносит людям счастья» [171] . Вентимор добр, великодушен, влюблен в Сильвию, дочь архитектора Фютвоя, и готов ради нее на все. Он трудолюбив и аккуратен, честен, верен своему слову – т. е. перед нами добропорядочный английский джентльмен конца XIX в., воплощение викторианских добродетелей. Факраш, осыпая Вентимора бесценными подарками, раз за разом предлагает герою идеал жизни в понимании его, джинна: молодой человек, обретя баснословное богатство, мог бы не работать, наслаждаясь жизнью. Такое существование, построенное на абсолютном материальном благополучии, представляет собой ни что иное, как утопию из сказок «Тысячи и одной ночи». Ей противопоставлена в романе утопия викторианская, основанная на предсказуемости, стабильности и достатке, добытом (повторимся) своим трудом. Т. е. это все те добродетели, что создали Британскую империю, качества, без которых немыслимо было бы построение самого, по мнению англичан, совершенного государства в мире. Мысль о том, что Англия – наиболее влиятельное государство современной цивилизации, звучит в романе не раз – вроде бы походя, но каждый раз выражена она отчетливо: например, Вентимор не упускает упомянуть, что он живет в «колоссальнейшем из городов на Земле» [172] , «величайшем и богатейшем городе в мире» [173] . Победа Вентимора над джинном (молодой человек уговорил Факраша вернуться обратно в кувшин, который затем бросил в Темзу) могла состояться лишь благодаря типично английским качествам – хладнокровию, находчивости, присутствия духа. И эта победа, в сущности, символизирует победу утопии викторианской над утопией мифологической. Похожим образом построена и книга Лагина, но в центре ее – утверждение величия и правильности утопии социалистической. Нелишне, очевидно, напомнить, что книга Лагина известна в двух авторских редакциях – 1938 и 1957 гг. Хотя второй вариант более идеологичен (и в дальнейшем примеры буду приводиться по нему), но и в первом немало указаний на превосходство советского образа жизни. Например, когда Волька отказывается от подаренного Хоттабычем каравана верблюдов с драгоценной кладью, то джинн предлагает ему золото, серебро и драгоценные камни отдать в рост, на что следует возмущенный отказ; на другое же предложение Хоттабыча – обратить золото в товары и открыть лавки во всех концах города, Волька отвечает с еще большим негодованием: «Я лучше умру, чем буду купцом. Пионер-частник! Торговлей у нас занимаются государство и кооперация» [174] . Эту фразу сопровождает примечательный авторский комментарий: «Волька с удовлетворением слушал собственные слова. Ему нравилось, что он такой политически грамотный» [175] . Волька Костыльков – типичный советский пионер. Типичный по происхождению, социальному положению (родители его работают на заводе, т. е. они представители рабочего класса), образу мыслей, взглядам. Сами по себе он и его одноклассники (в первом варианте в приключениях Вольки принимали участие два его товарища, во втором – уже один) довольно бесцветны и похожи друг на друга, отличаясь лишь цветом волос: Волька блондин, а Женя Богорад – брюнет. Они – хорошие ребята, добрые, порядочные, отзывчивые, но превыше всего для них, как это постоянно подчеркивается в книге, идеалы Страны Советов. Хоттабыч с потрясением узнает, что оказался в стране, где самое главное место занимают «люди труда»; народу принадлежит все в СССР, людей оценивают прежде всего по их трудовым заслугам [176] . Многие пассажи повести Лагина звучат прямо-таки с агитационной страстностью – и, прежде всего, в тех эпизодах, в которых утверждается: в СССР не так, как на Западе, это там все продается и покупается, унижается человеческое достоинство, властвует капитал и царит классовое и расовое неравенство [177] . Примечательно, кстати, что если в первом варианте книги владельцем кольца Соломона (т. е. кольца, которое показалось Хоттабычу таковым) был советский гражданин Хапугин, «бывший частник, а теперь помощник заведующего хозяйством кустарной артели «Красный пух» [178] , то во втором им стал турист из Нью-Йорка Вандендаллес (соединение фамилий миллиардера Вандербильда и госсекретаря США Дж. Ф. Даллеса, в 1950-е гг. бывшего одной из главных мишеней для советских политических карикатуристов). Пожалуй, наиболее наглядно виден классовый подход ребят из Страны Советов во время их посещения Италии. И к концу книги мы видим, как джинн, чей возраст превышает 3700 лет, «распропагандирован» своими друзьями-пионерами и становится убежденным сторонником советского образа жизни. Не случайно, что именно эти качества книги – воспитательные, дидактические, т. е. идеологические – обычно выделяли исследователи советской литературы, называвшие «Старика Хоттабыча» то «воспитательно-приключенческой сказкой» [179] , то сказкой «приключенческо-социальной» [180] , а то и «детской повестью-сказкой, рассказывающей о веселых и поучительных приключениях двух пионеров и джинна, перенесенного из сказки Шахерезады в наши дни» [181] . В наши дни идея обретения власти над волшебным существом, обладающим неограниченными возможностями, которыми так соблазнительно воспользоваться, по-прежнему волнует умы. Идея получить все и сразу, получить ни за что, существует в общественном сознании очень давно – не случайно, вероятно, один из самых популярных героев русского фольклора тот, кто лежит на теплой печке и пользуется услугами говорящей щуки. Таков и герой повести Виталия Бабенко «Игоряша Золотая Рыбка» [182] . Ее герой, «посредственный специалист с дипломом, представитель широких масс не читающей, но любящей книгу публики» [183] , как его характеризует автор, поймал Золотую Рыбку (на самом деле это вовсе не рыбка, а информационный модуль, посланный галактической цивилизацией на Землю для сбора сведений о нашей планете). Сатирическая мишень Бабенко – современный мещанин-потребитель, чей идеал – заставить Вселенную служить удовлетворению своих потребностей и желаний. Чем грозит человечеству современное мещанство, которое захватывает не только материальных благ, но и духовных ценностей – мещанин их не усваивает, а присваивает, переводя в один ряд с «престижными» символами материального благополучия, – Бабенко показывает зло и остроумно. Пародийность повести Сергея Обломова «Медный кувшин старика Хоттабыча» [184] очевидна уже в названии: очевидна отсылка одновременно на книгу Энсти и книгу Лагина, по словам издателя И. Захарова, это тройной римейк (отсчитывая от «Сказки о рыбаке» из «Тысячи и одной ночи») классического сюжета. Действие книги происходит в наши дни. Молодой москвич без определенных занятий Геннадий Рыжов выигрывает на аукционе он-лайн в Интернете старинный медный кувшин (аукцион проводился в Лондоне, а Рыжов находился в Москве). На следующий день, к изумлению героя, выигранный лот доставляется ему прямо домой. В кувшине оказывается джинн, которого герой стал называть Хоттабычем. Кого только нет в книге: Билл Гейтс собственной персоной и московские наркоманы, сотрудники ФСБ и персонажи сказки Льюиса Кэрролла, российские бандиты и американские правительственные чиновники, антиглобалисты и китайские антикоммунисты. Есть также некий писатель, пишущий некую книгу, главным героем которой он предлагает стать Рыжова. Т. е. перед нами образец постмодернистской поэтики: персонаж выступает в качестве героя в сюжете своей жизни, которую – неожиданно для него – пишет за него кто-то другой. Все зыбко в книге, все призрачно, реальность то распадается, то снова создается, добро и зло предстают одновременно как абстрактные понятия и конкретные нравственные поступки того или иного персонажа или мировой политики (кто прав и кто виноват в войне, начатой США в Югославии, увиденной глазами различных действующих лиц?). Точно выбрана стилистика для передачи жизни этого странного мира, меняющегося на глазах: это «другой русский», язык нового времени, утверждающего новые ценности и жизненные ориентиры. Хоттабыч в начальных эпизодах повести Обломова поступает точно также, как и его литературные предшественники: награждает героя караваном верблюдов с грузом золота и драгоценностей, превращает его обшарпанную однокомнатную квартиру, не меняя ее объем, в дворец, пытается женить Рыжова на своей родственнице из рода эфритов. Но при этом он, обладая способностью к социальной и языковой мимикрии, занят главным образом тем, что ищет себя и свое место в новом для него мире; отсюда его рефлексия, углубленный самоанализ. Осознание относительности всего на свете – существования разумной жизни во Вселенной, номинации любого явления, ибо понимание его зависит от точки зрения, различия между мирами реальным и виртуальным – приводит Хоттабыча к тому, что он начинает отождествлять себя с информацией как устной, так и письменной. Все это словно подготавливает Хоттабыча к новой форме своего бытия – он становится сайтом в Интернете, существуя «везде и нигде». Книга Обломова – пример интересной (хотя и не бесспорной) литературной игры, которую, думается, одобрили бы и Ф. Энсти, и Л. Лагин. Самому Энсти фантастическая форма удавалась лучше, чем реалистическая, и уже при жизни его называли одним из лучших авторов фантастической литературы (fantasists) поколения рубежа XIX–XX вв. [185] . Хотя сам он, считая себя в первую очередь автором социально-психологических романов, нраво– и бытописателем, хотел, чтобы его книги оценивались по ведомству реалистической литературы. Но его известность основывалась на прозе, в которой присутствовала фантастика и ирония – сочетание, которое исследователи называют одним из основным достоинств творчества писателя [186] . Это проявлялось как в романах Энсти, так и в его новеллистике. Например, рассказ «Говорящая лошадь» [187] , заглавный персонаж которого оказывается четвероногим не только говорящим, но и обладающим весьма дурным характером. Взбалмошное животное с выразительной кличкой Брут начинает управлять жизнью хозяина – ведь только на этой лошади он, неспособный проехать верхом и двух шагов, мог совершать прогулки с любимой девушкой. Вначале у Брута с кобылой девушки были нежные отношения (и любовные отношения героя и героини развивались успешно), но потом лошади поссорились, и место героя занял бравый полковник, а место Брута – гнедой конь полковника… Если в «Говорящей лошади» сказочное оттеняется повседневно-бытовым, то в рассказе «Хорошая маленькая девочка» [188] – усиливается иронией и социальной сатирой. Рассказ пародирует традицию назидательной литературы о Хороших Детях, которая в Англии в XVIII–XIX вв. издавалась в большом количестве [189] . Героиня рассказа, Присцилла Проджерс, была в самом деле Очень Хорошей Девочкой и потому стала не только ненавистна всем детям в округе как пример для подражания, которым им все время тыкали их родители, но постоянными поучениями допекла собственных родителей. К тому же Присцилла получила дар от феи – каждая сентенция маленькой зануды подкреплялась падающими из ее рта драгоценными камнями. Однако – вот жалость-то! – оказалось, что все они фальшивые… Более за чем за пятьдесят лет работы в литературе Гатри выпустил свыше тридцати книг – романы, повести, сборники рассказов, путевых заметок, эссе, пьесы. Многие из них ныне представляют интерес только для историка литературы. Но вещи, выдержавшие испытание временем, составят объемистый том, который, безусловно, украсит библиотеку любителя сказочной фантастики. При жизни Гатри пользовался немалой популярностью, его романы, повести, сборники рассказов не залеживались в магазинах, а пьесы с успехом шли в театрах Англии и Америки, ставились на европейской сцене. Через много лет после смерти писателя его назовут одним из самых популярных в английской литературе авторов юмористической фантастики конца XIX – начала XX вв [190] . Но популярных не только у читателей – исследователи отмечали, что Ф. Энсти оказал серьезное влияние на современных мастеров этого направления в фантастической литературе XX в.: в начале столетия на Эдит Несбит, а в конце его – на Терри Пратчетта [191] . Известность пришла к Гатри после выхода первого романа и подкреплялась почти каждой последующей его книгой. Но успех не вскружил голову молодому человеку – Гатри всегда трезво оценивал свои писательские возможности: «Причудливые похвалы, обрушившиеся на меня после моей первой книги, ни в малейшей степени не заставили изменить мое мнение о себе и поверить, будто я гений; я знаю совершенно точно, что это не так. Меня нельзя назвать серьезным политическим или социальным мыслителем, я едва ли могу сообщить читателю что-нибудь общественно значимое. Единственные мои достоинства – чувство юмора, наблюдательность и умение описывать увиденное» [192] . Гатри был прав – и не совсем прав, ибо недаром сказано: достоинства человека есть продолжение его недостатков (как, впрочем, верно и обратное наблюдение). Конечно, лучшие вещи Гатри, в которых соединяются фантастика и реализм, вряд ли выдержат сравнение и с волшебными сказками Дж. Макдоналда, соотечественника и современника писателя, и с эпической социальной сатирой Г. Дж. Уэллса. И по глубине психологического анализа и социально-реалистических обобщений Гатри явно уступает своим старшим современникам Ч. Диккенсу и Э. Троллопу, равно как современникам Дж. Мередиту и Дж. Конраду. Но живость повествования, неизменная «читабельность» его прозы, точность характеристик героев, безошибочность вкуса при передаче их речи (к какому бы общественному слою они ни принадлежали), изящество юмористических пассажей и серьезность (но никогда – занудность!) при решении морально-этических вопросов – все это говорит, что перед нами настоящий художник. Читать Гатри – удовольствие, сопоставимое, наверное, с тем, какое испытывал автор, когда писал. Ведь еще в начале творческого пути Гатри, как вспоминал он много лет спустя, сформулировал для себя принципы, от которых никогда не отступал: «Я решил, что до тех пор, пока обстоятельства не заставят меня отказаться писать только о том, что мне интересно или что меня занимает, литературная работа будет сохранять для меня притягательность» [193] . Ф. Энсти – писатель до мозга костей английский. Действие его произведений происходит – либо по большей части, либо исключительно – в Лондоне конца XIX – начала XX вв. Взгляды, вкусы, привычки его героев (как, впрочем, и автора) отмечены принадлежностью этой стране и этому времени. И не будет преувеличением сказать, что книги Гатри могут составить своего рода энциклопедию жизни поздневикторианской и эдвардианской Англии. После первой мировой войны литература изменилась, иной стала ее проблематика, более жесткой, резкой – стилистика. Пришли писатели с другим – военным – жизненным опытом, те, кого потом назвали потерянным поколением и чье мировоззрение выразилось в романе Р. Олдингтона «Все люди – враги». И стало ясно (читателям, но, наверное, прежде всего самому писателю, вот почему он так мало писал в 1920-е годы), – что Ф. Энсти начинает отставать от времени: его диккенсовский юмор, неторопливое бытописательство остались в прошлом, вместе с самим викторианским бытием, культурой великой империи, над которой – пока еще – не заходило солнце… Скончался Ф. Энсти 10 марта 1934 г., когда его уже почти забыли; и мир тогда находился на пороге самой страшной катастрофы в истории человечества. Лучшие книги Ф. Энсти начали вновь читать в 1960-х, когда в английском обществе пробудился интерес к литературе и культуре викторианской эпохи [194] . В начале тридцатых годов, завершая книгу воспоминаний и подводя итоги более чем полувековой работе в литературе, Гатри не жаловался на недостаток внимания со стороны критиков, на козни собратьев по перу или некие «объективные» сложности, не позволившие ему занять высокое место в национальной словесности. Мудро и спокойно Гатри признает, что не обрел славу Уэллса или Голсуорси; но столь же мудро и спокойно добавляет, насколько он благодарен судьбе за то, что она дала ему возможность посвятить жизнь любимой работе. И не столь важно, заключает он, получилась она у него лучше или хуже, чем у других, – главное, что он делал ее честно и в свое удовольствие. Потому и пишет Гатри в предисловии к книге воспоминаний, что в его жизни не было ни авантюрных похождений, ни драматических перипетий; и так жизнь мог бы прожить любой писатель, который, как и он, «был довольно популярен в свое время и получал удовольствие от своей работы» [195] . Известная английская поговорка гласит: чтобы стать здоровым, богатым и мудрым – а это, бесспорно, существенные компоненты счастья, – надо рано ложиться и рано вставать. Что ж, совет разумный. Но история жизни Томаса Энсти Гатри позволяет предложить еще один рецепт счастья. Надо полюбить свою профессию так, чтобы она стала Главным Делом (для чего нужны еще и немалые постоянные усилия, умение и готовность жертвовать ради нее многим), делая его как можно лучше. Тогда совесть твоя будет спокойна, чиста, и ты уйдешь в мир иной с пониманием того, что исполнил все, предназначенное тебе, а потому сумел обрести в жизни настоящую радость – радость самореализации. ***** Глядитесь в свое отраженье В неведомых дней водоем, Фантастика – лишь продолженье Того, что мы явью зовем. Вадим Шефнер Объяснение в любви «Наше поколение (и не только наше, конечно) выросло на книгах Аркадия и Бориса Стругацких. Мы знали эти книги буквально наизусть, говорили цитатами из Стругацких. Эти фразы были нашим паролем, по которому мы узнавали друг друга, как члены какого-нибудь тайного ордена, – узнаём и сейчас. Быков, Юрковский, Горбовский, дон Румата – как много мы, школьники начала 60-х, взяли, не понимая, быть может, тогда этого сами, из их духовного опыта, жизненной философии, взглядов и пристрастий, оценки людей и событий…» Эти строки я продиктовал по телефону кому-то из членов ленинградского семинара вечером 12 октября 1991 года, когда они обзванивали тех, кто знал АН (потом эти отклики на произошедшую трагедию были изданы отдельной брошюркой). Убежден, что десятки и десятки тысяч людей стали лучше, потому что рано начали читать Стругацких (как это у Высоцкого – про того, «кто в детстве нужные книги читал»), и живут, вспоминая в трудные минуты слова героев АБС: «Нет ничего невозможного. Есть только маловероятное» (Юрковский), «Уверяю тебя, дружок, что Улисс не рвался в герои. Он просто БЫЛ героем – натура у него была такая, не мог он иначе» (Кацман), «Из всех возможных решений выбирай самое доброе» (Горбовский), «…думать – это не развлечение, а обязанность» (Перец), «Как это прекрасно – человек, желающий странного!» (Саул), «Когда мне плохо, я работаю… Когда у меня неприятности, когда у меня хандра, когда скучно жить, я сажусь работать. Наверное, существуют другие рецепты, но я их не знаю» (Вечеровский). С каждым годом я понимаю все отчетливее, какую роль сыграли книги братьев Стругацких и в моей жизни. Без них она была бы совсем иной – моя любовь к фантастике не стала бы столь глубокой, не познакомился бы я со многими, убежден, лучшими людьми на свете – писателями-фантастами и читателями-фэнами, не пришел бы я к пониманию того, что лучшая профессия на свете – литературная критика, которой занимаюсь свыше тридцати лет. Стругацкие в моей душе – словно гигантский кусок драгоценного янтаря, в который вплавлены, наподобие причудливых мошек, различные эпизоды. Апрель 1960 года. Я, лопоухий пионэр шестого класса, увлекающийся фантастикой, вижу в куче макулатуры, которую мы приносили в школьный спортзал, подшивку журналов «Знание-сила» за несколько лет. В подшивке нахожу номер с рассказами АБС «Забытый эксперимент» и «Частные предположения». По первым абзацам понимаю, что с ЭТИМ расстаться нельзя, – и, оглядевшись по сторонам, засовываю журнал под куртку… Июнь 1968 года. Я сижу в юношеском зале Ленинки и переписываю от руки «байкальскую часть» «Улитки на склоне». Ходил туда, как на работу, недели полторы; и так обидно, что при переезде потерялась папка, в которой держал переписанное… Позже я неоднократно слышал – от самого АН, от Шуры Мирера, от фэнов, что по всей стране, от Калининграда до Сахалина, книги АБС переписывали, перепечатывали, переплетали, делая мини-собрания сочинений, нередко с собственными иллюстрациями. Осень 1973 года. На квартире у моего тогдашнего соавтора Миши Ковальчука я встретился с Аркадием Натановичем. Вечер проходил под девизом «АН знакомится с Вл. Гаковым». Первое впечатление было очень сильным. АН – большой, пластичный, мягко двигавшийся, чем-то напоминал боксера-тяжеловеса. Что-то было в нем от дона Руматы (в «Трудно быть богом» он описан как «огромный, широкий»); а что-то, как сейчас понимаю, от Довлатова. АН был сама доброжелательность, его благорасположение к собеседнику чувствовалось во всем: в улыбке, наклоне головы, в большой протянутой ладони. (Ладонь эта могла бы вместить, наверное, два кулака того, с кем ее обладатель здоровался. Шура Мирер как-то сказал: «У Аркаши пишущие машинки долго не живут – своими лапищами он разламывает клавиатуру за считанные месяцы…») Вспотев от волнения (вот ОН, рядом…), я, неожиданно для себя, вдруг ляпнул, что вот-де мне кажется, будто между Перцем из «Улитки на склоне» и Цинциннатом Ц. из «Приглашения на казнь» Набокова много общего. АН помрачнел, недобро посмотрел на меня и столь же недобро ответил: «Это вам так кажется. Мы с братом тогда Набокова не читали…» И весь вечер был со мной отстраненно и холодно вежлив. Когда спустя семь лет я напомнил АН обстоятельства нашего знакомства, он, забывший – естественно – напрочь этот эпизод, весело засмеялся и сказал: «Поделом тебе – нечего было умные разговоры разговаривать, пока не выпили и не закусили…» 28 ноября 1974 года. Эта дата стоит на почтовом переводе из бухгалтерии издательства «Молодая гвардия» на сумму 20 руб. 26 коп. На бланке написано: «Гопман В. Л. Гонорар р/р Стругацкие» («р/р» – редакционная рецензия – В. Г.). Эти серьезные деньги, выписанные на мое имя, мы с Ковальчуком заработали, написав внутреннюю рецензию на повесть А. и Б. Стругацких «Парень из преисподней» – для редакции фантастики издательства «Молодая гвардия», где тогда работала замечательный редактор и человек Белла Григорьевна Клюева. Возобновление отношений с АН состоялось в немалой степени благодаря Александру Исааковичу Миреру и укреплялось благодаря как личным контактам, так и совместным участием в литературной борьбе, которая развернулась в отечественной фантастике в 1970-1980-х годах между лагерем АБС и издательством «Молодая гвардия». Об этом написано было немало, упомяну лишь один эпизод. В 1989 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел сборник критических и публицистических статей «В мире фантастики». В нем было сказано, что издательство выпускает замечательную фантастику, которая пользуется большим успехом у читателей. Однако читателей-де постоянно сбивают с панталыку враги издательства (наверное, можно было бы добавить: и всего прогрессивного человечества…) – следующие литераторы: братья Стругацкие, Кир Булычев, критики Ревич и Гопман… Когда я показал АН эту книгу, он посмотрел и сказал: «Ну что ж, ругань врага – это хорошо, это значит, что ты живешь правильно…» Весна 1986 года. Я прихожу в секретариат Союз писателей, чтобы поставить печать на подпись АН, написавшего мне характеристику для вступления в Московский комитет литераторов. Крашеная блондинка встречает меня визгом: «Обед!» Я бормочу: да мне печать только. На мое счастье из коридора в приемную заглядывает некто круглоголовый и начальственно басит: «Поставьте молодому человеку печать». Блондинка с отвращением берет протянутый мною листок бумаги – и вдруг расплывается в улыбке, делающей ее вдвое моложе: «Ой, да это же подпись Аркадия Натановича! Что же вы сразу не сказали, что от него!..» Зима 1988 года. АН позвонил мне и предложил поехать с ним на выступление в Институт стали и сплавов (он очень не любил выступать и сидеть на сцене один). Первым он отправил на кафедру меня, «для разогрева». Я повеселил аудиторию цитатами из авторов «Молодой гвардии», демонстрирующими их косноязычие, научную и общекультурную неграмотность (потом АН прокомментировал это в свойственной ему образной манере: «Что за жизнь у вас, критиков – столько дерьма приходится носить в памяти!»). АН говорил, как всегда, блестяще. Потом стал отвечать на записки, среди которых была такая: «Почему в ваших последних вещах – «Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер», «Отягощенные злом» – мало таких ярких, солнечных картин, как в книгах 1960-х?» АН повертел записку в руках: «Просто мы стали лет на двадцать старше…» Помолчал и спросил неожиданно: «Кто это написал?» Поднялась смущенная беленькая девчушка. АН вздохнул и добавил: «Вот когда вам будет за шестьдесят, тогда, наверное, поймете это…» Весной 1990 года в Москве оказался проездом из Японии в Италию Дарко Сьювин, уроженец Сербии, который прожил большую часть жизни в Монреале, «профессорствуя» в университете МакГил. Мы были знакомы заочно, переписывались с конца 1970-х годов, но встретились впервые 17 июня 1990 года в его номере гостиницы «Белград» (едва ли я помнил бы так точно эту дату, если бы не запись в дневнике АН). Сьювин занимался русской и советской фантастикой, писал о книгах Стругацких. И как только мы увиделись, попросил организовать ему встречу с АН. Я позвонил АН и сказал, что в Москву приехал Дарко Сьювин (а у АН было американское издание «Улитки на склоне» с его предисловием) и очень хочет с ним увидеться. Ну что ж, последовал ответ, приезжайте. Мы приехали часа в два дня. АН пил коньяк в компании со своим давнишним другом Станиславом Агрэ. Нам налили по полстакана. Я выпил. Дарко начал вздыхать, отказывался, упрашивал разрешения пить не все сразу. Мы посидели часа два, разговор шел о самых разных вещах: о том, почему Дарко начал заниматься русской фантастикой, о его отношении к японской культуре, о гонорарной политике в разных странах. Дарко допил свои полстакана и тихо сказал мне: «Владимир, очень много впечатлений на сегодня. Мне лучше идти…» На улице я поймал такси. В машине Дарко стал восторгаться: «Я потрясен: Аркадий – уникальный личность, такая мощная фигура, настоящий человек Ренессанса!.. Я хочу еще раз встретиться с ним…» На мое замечание, не боится ли он, что в следующий раз в гостях у АН будет опять какой-нибудь друг и снова будет коньяк, Дарко упорно сказал, что это его не смущает. Однако когда я зашел к нему в гостиницу на следующее утро, он был уже в другом настроении и уныло сказал, что сегодня вряд ли он способен на какие-то поездки… …И пришел тот черный день 12 октября 1991 года, принесший ощущение осиротелости (оно охватило тогда, как я потом неоднократно слышал, очень и очень многих; у меня оно не исчезло и сейчас – лишь притупилось). И непонимание, как можно жить дальше, когда из души вырван кусок. И страшный день похорон. Лицо АН в гробу было необычно умиротворенным, спокойным. Словно о нем написал любимый братьями Михаил Афанасьевич: «Он не заслужил света, он заслужил покой»… …Есть у «Люденов» такой обычай. Первая рюмка пьется «Со свиданьицем». Вторая, не чокаясь, «За Арктаныча». Третья, чокаясь, – за «Борнатаныча»…
|
| | |
| Статья написана 7 апреля 2017 г. 10:32 |
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


 облако тэгов
облако тэгов




