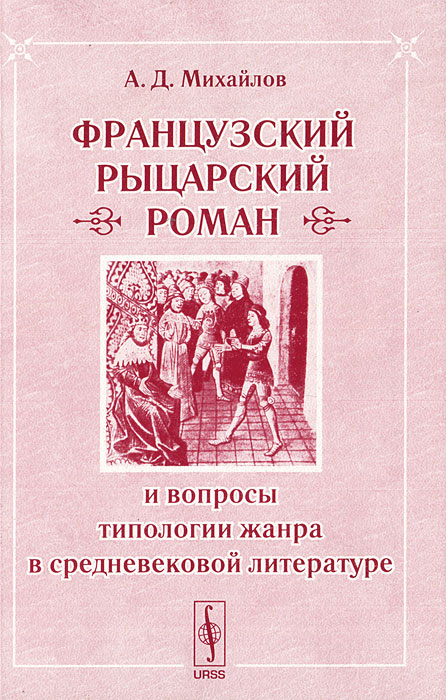По мере того, как прочный на вид панцирь средневековой богословской культуры покрывался широкими трещинами, сквозь ширящиеся проломы пробивались ростки культуры иной – светской, которая не была так уж озабочена спасением души, грядущим Апокалипсисом или теодицеей. Это культура, которая повествует о другом мире, мире, конечно, идеализированном, немного наивном и неизбывно ярким. В нём романтичный труверы поют горько-сладкие песни своим неприступным возлюбленным, благородные короли милостиво склоняют голову перед Роком, отважные рыцари сражаются в густых лесах с драконами. Нашему, русскому культурному коду, как бы в противоречие предписанным доктринам, эти истории ближе, нежели практически неизвестная византийская литература, да и восточная литература тоже. Король Артур и рыцари Круглого стола – все слышали о нём, большая часть людей вспомнит целый ряд имён и названий – Гвинивера, Ланселот Озёрный, Гавейн и его Зелёный рыцарь, фея Моргана, Камелот, Экскалибур… кое-кто вспомнит и Камланн.
Литература, породившая этот воображаемый мир, чаще остаётся за пределами внимания читателей, которые окунаются в него через масскульт более поздних времён, не каждый возьмётся читать даже относительно близкую по форме современному человеку «Смерть Артура», я уж не говорю о, скажем, «Парцифале». Но что это за литература?
Работа, к которой привязан наш сегодняшний разговор, формально посвящён жанровой специфике французских рыцарских романов. Книга Андрея Михайлова появилось не случайно, и не на пустом месте. Институт мировой литературы работал исправно, и его сотрудники активно переводили большой корпус средневековых литератур – качество, конечно, варьировалось, но русский читатель теперь имел возможность ознакомится с произведениями далёкой эпохи. Литературоведы, пусть и не до конца освобождённые от «принципов партийности», всё же ощутили свои руки развязанными, и более или менее свободно высказывали свои суждения о средневековых текстах, и одним из плодов того времени стала заочная дискуссия о месте памятников литературы – рыцарских романов, поэм, фаблио, новеллино – в истории.
Итак – спор о романе, в особицу – о романе средневековом. Повествовать о его богатой истории здесь не место, тем более что у меня попросту нужной компетенции нет, скажу лишь то, что важно для 1970-х, более ранние времена мы опустим. Параллельно с широким изданием средневековой литературы, приобретают широкую известность вытянутые из забвения работы Михаила Бахтина, в числе прочего – и его теория романа, как полифонической разноголосицы языков и стилей, «оркестрового» многообразия голосов, вступающих друг с другом в диалог. Рождение этой многоголосицы почтенный филолог отводил на конец Средневековья, когда предшествующие жанры, жанры прежде всего эпические и нравоучительные, были подвергнуты пародийному «карнавальному» осмеянию, к примеру, Франсуа Рабле и Мигелем Сервантесом. Упрощая, скажу, что согласно концепции Бахтина, произведения эпохи раннего и классического Средневековья идеологичны, и поэтому рыцарский роман представляет собой отображение культурно-идеологического мифа феодального класса, и не может нести в себе диалогичную полифонию, так как по своей природе монолитен. Впрочем, Бахтин признавал, что классический стихотворный роман, к примеру, творения фон Эшенбаха, всё же ближе к роману, чем эпосу, так как в них есть проблема, есть два разноречивых голоса, вступающих друг с другом в диалог, однако подлинный расцвет жанра наступает позже. Некоторые последователи Бахтина, к примеру, Вадим Кожинов, отрицали «романность» рыцарских эпосов, говоря об их монолитности и неподвижности характеров.
Андрей Михайлов другого мнения. Для него «роман» — не социальная разноголосица, а прибежище «внутреннего человека», инструмент для его изучения, к чему склонялся Томас Манн. Он проводит линию между «романом» и «эпосом» в другом месте – между рыцарской «chancon de geste» и стихотворными творениями, скажем, Кретьена де Труа. Впрочем, он же и ограничивает средневековый роман чётко определенными рамками рыцарской куртуазной культуры, отмечая, что город в то время не породил аналога жанра, ограничиваясь бытовой новеллистикой. Он просит обратить внимание на другое – на то, что в рамках «Ренессанса XII века» за полстолетия возникло мощное новое направление в литературе, причём направление франкоязычное, не латинское.
О его истоках можно говорить разное, как и касательно провансальской поэзии. Языческая культура античности – да, конечно, образы из восточных сказаний и поэтических касыд – сколько угодно. Но, видимо, Михайлов прав в своём понимании «бретонского романа» как пересечения трёх культурных традиций – островных кельтских и англо-саксонских легенд и континентальных, французских, и на этом оживлённом перекрёстке главной темой стал окончательно оформившийся легендариум «Артурианского мифа», который окончательно приобретает знакомые нам черты, через три столетия полностью воплотившиеся в opus magnum Томаса Мэлори. Так что, скорее всего, поджанр этот родился на севере Франции, и попытки поиска его истоков в параллельно развивающейся провансальской культуре трубадуров вряд ли увенчаются успехом. Вряд ли, конечно, развитие романистики связано с тем, что страна Вин являлась «классическим образцом феодальности», скорее, служит свидетельством культурного взрыва в этом регионе, «Ренессанса XII века», как это тогда называют, когда Франция на пару-тройку столетий стала законодателем мод для Европы, в литературе, архитектуре и прикладном искусстве.
Итак – средневековый французский стихотворный рыцарский роман. Это не «geste», не вирши французских труверов, и не житие святого, однако он не является и подобием огромных романов-эпосов более позднего времени, к примеру, Ариосто или Торквато Тассо. Тем более, сложно подходить к Кретьену де Труа или Гартману фон Ауэ с той же меркой, что и к Уильяму Фолкнеру, или к Фёдору Достоевскому. Рыцарский роман – не реалистический, да от него требовать соответствия реальности попросту нелепо. Автор творит для своего протагониста собственное пространство, и законы времени здесь работают совсем по иному. Пространство-время здесь представляет собой просто фон, сетку координат, которая строится для воплощения главного, что есть в романе – героя. В центре композиции стоит, само собой, фигура Кретьена де Труа, автора наиболее ярких произведений «Бретонского цикла» и, как считает автор, зачинателя многих основополагающих элементов жанра. Что есть «мир Кретьена», и его герой, отважный Ивейн или горько-счастливый Эрек? Это люди, которые были выбиты из привычной им среды, вовлечены в чуждый мир – как Ивейн в своём лесном безумии, или Эрек, попавший в тенета сладостной любви – и борющиеся за восстановление гармонии куртуазного макрокосма. Пространство-время, даже соответствие реальной фактологии можно принести в жертву ради красивого развития сюжета, и авторского замысла. Разве в «Клижесе» образ Византии соответствует реальному, а «Роман о Трое» отображает реалии ахейской Эллады? Нет, они и не должны ему соответствовать, роман посвящён совсем иному.
Мир «Бретонских» романов, в особенности Кретьена, переполнен волшебством и магией, можно сказать, окутан авалонскими туманами. Они дышат со своих страниц севером, как будто из густого леса накатывает холодная слякоть иного мира, на границах которого ищут подвиги отважные рыцари. Старинная кельтская магия здесь имеет права ничуть не меньшие, чем Божье Слово, и Провидение существует рядышком с судьбиной – «гейсом». Реалии и обыденного мира, и фантастического, расписаны с завидной дотошностью, грань между ними едва ли заметна. То есть – пространство условно, локализация – чаще всего нарочито аисторична, мифопоэтика романов глубоко синкретична – почему роман, какие же вопросы он ставит?
Он ставит вопрос о человеке. Помимо конфликта с дисгармонией мира, с потусторонними силами, здесь присутствуют ярко выраженные жизненные конфликты. В одной из версий легенды о Тристане и Изольды король Марк, супруг изменщицы, сдерживает удар своего меча, исполненный сомнениями, в другой – убивает в приступе ревности юного рыцаря. И тот поступок, и другой, исключительно человечны. Персонажи рыцарских романов не одномерны, у них есть личность и характер, и, что ещё более важно – они развиваются и меняются, перед ними встают вызовы такого рода, что они не могут пройти через них и остаться прежними. Каким бы не был идиллическим образ Парсифаля, в начале повествования он даже не знает, с какого конца браться за копьё, ему приходится осваивать воинское ремесло уже в своём судьбоносном походе. Сюжет концентрируется на конкретных событиях и деяниях, и на поступках индивидов, которые пытаются отыскать в своём «вывихнутом» мире гармонию. Конечно, автор несколько перебарщивает, когда касается психологизма произведений того времени, но вряд ли можно отрицать роль личностного «Я» в них.
А что значит – поиск гармонии? Отважный Эрек потерял в браке свою рыцарственность, и вместе со своей супругой Энидой они ищут достойные воина подвиги. Флуар и Бланшефлор наоборот, гармонию мира видят в нерушимом праве на любовь и счастье, а печальная история Тристана и Изольды выламывается из нормы воздействием приворота, и завершиться только путём гибели влюблённых. В основе характера героя романа лежит пространство нормы, цельный универсум – тот же самый артурианский миф. Конфликт не может сотрясти его основы, это ещё не Мэлори, он всегда вне универсума, и герой ещё не готов вступить с ним в острое противостояние. Михайлов старается доказать доминирование двух тенденций в рыцарских романах – с одной стороны, описание остроконфликтной ситуации, единичного события, с другой – вплетённое в ткань романного бытия повествование о социальном, его зарождении, структуре, а порой – и гибели. Роман возникает на стыке культур, и несёт в себе элементы разных миров, восприятий и традиций – в этом глубокая особенность рыцарского романа.
Уже в XIII веке акценты немного смещаются, и французский рыцарский роман становится другим, Михайлов не признаёт упадка жанра в этом столетии. Бытовавшие ранее романы на темы античной истории сходят на нет, а вот артуровская традиция парадоксальным образом находит своё место в новых традициях, и не в последнюю очередь в этом играет роль популярность произведений Кретьена де Труа, к которым даже пишутся продолжения, как к «Роману о Граале». Сюжет и общие конфликты постепенно покидают мифологический универсум кельтской архаики, и переносится на грешную землю, в конкретное время – в феодальные замки, в города, в бедняцкие кварталы и бескрайние крестьянские поля, одновременно увеличивается элемент христианской мистики, перекочевавший, по всей видимости, из агиографии, порой всплывают местные сказочные образы, как в «Мелюзине». Рыцарский роман проникает в город, и начинает переплетаться с новыми направлениями – к примеру, «новеллино», и постепенно переходит в прозу. Некоторые из них, как «Идер», и вовсе вплетают в себя черты вольных шутейских «фаблио».
Автор отмечает и ещё одну тенденцию того времени, а именно мотив крушения артурианского мира, в связи с внутренним распадом идеальности этого общества, стержня его идеалов. Можно было бы ещё предположить, завершая мысль, что «артурианскому мифу» противопоставляется миф о Граале, миссия поиска которого создаёт новый рыцарский универсум, ставит крест на былой идеал куртуазной любви супротив любви к Христу, с возникновением которого постепенно уходит в прошлое эпоха Круглого Стола (нашёл отражение своих мыслей в трудах филолога Елены Королёвой).
Итак, если подвести итоги, то постараемся понять, насколько прав в своих интенциях Андрей Михайлов. Почему он определяет французский рыцарский роман как роман? Если Бахтин и Кожинов следуют теории «диалогичности», то наш нынешний автор, а вслед за ним – Елиазар Мелетинский, Георгий Косиков и другие – делает упор на внутреннего человека, на личность, которая активно действует и развивается в очерченных для него рамках, и начинает вступать в конфликты с окружающим, изначально за пределами гармоничного универсума, а затем – в его границах. Присутствие человека и делает рыцарский роман – романом, так как главный объект его – личность и социальное.
От себя хотел бы добавить, что жанр – понятие условное, и нынешний читатель даже толстых романов не обязательно будет захлёбываться сюжетами Васа и Тома. Это неизбежно – французский рыцарский роман веха, но это веха другой эпохи и другой культуры. Но, при определённом настрое, подготовленный читатель вполне может утонуть в мире немного наивных грёз артурианского мира, или куртуазных образов романов об Александре и Троянской войне. Я бы добавил ещё один важный, как мне кажется, комментарий – рыцарский роман является таковым потому, что способен показать мир представлений средневекового человека, да ещё и с разных ракурсов обзора, создавая тем самым безгласую, а скорее визуальную и эмпатическую полифонию, каковую жаждал увидеть Михаил Михайлович Бахтин.
Рецензия на книгу Генриха Анохина «Общинные традиции норвежского крестьянства» (1971) — https://vk.com/club204472062?w=wall-20447...
Рецензия на книгу Натальи Гусевой «Многоликая Индия» (1971) — https://vk.com/club204472062?w=wall-20447...